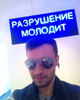Мечтая о качестве науки
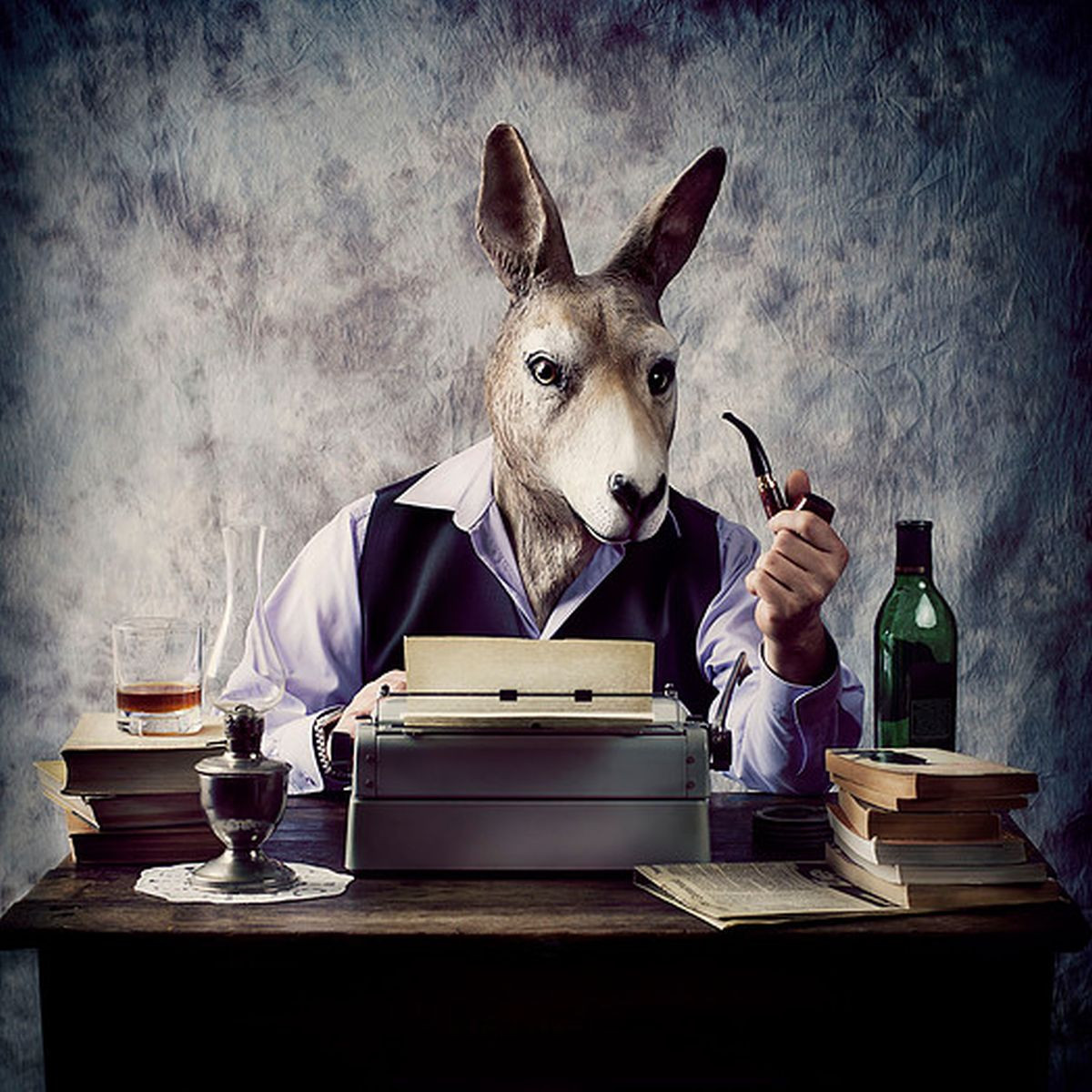
…У нас есть понимание подхода к определению качества научной публикации, и это определение подводит нас к осознанию того, что некие прежде общепонятные критерии научности [гуманитарных статей] нам предлагается заменить на критерии формата IMRAD, не особенно связанные с содержанием текста. Апологеты такого перехода, напротив, говорят, что требования научности сохраняются и никакой подмены не происходит. Я не стану занимать позицию «за» или «против», а только скажу, что это просто проблема, которую нужно первично сформулировать.
Вообще, в сюжетах научных измерений и научных форматов текстов есть много вещей, связанных именно с необходимостью четко сформулировать проблему, а не торопиться сообщать ответ, если он уже заранее есть, — он может быть в действительности просто нерелевантным положению дел. Попробую пояснить необходимость формулирования проблемы при наличии вроде бы готового ответа. Я полностью согласен с тем, что наука должна быть интернациональной — и это своего рода «ответ», решение проблемы. А сама проблема в том, что надо понять, нужно ли это долженствование представлять в виде строгого императива. Есть некоторые случаи, не включенные в порядок международного взаимодействия, с которыми мы не можем не считаться. Есть локальные вещи, которые, хотим мы того или нет, образуют ментальность каких-то групп, выделяемым по этническим, профессиональным, языковым или каким-либо еще признакам. И есть определенные традиции в рамках науки.
Если нам нужно удержать науку в ее интернациональном статусе, то, вероятно, какие-то локальности необходимо устранять. Но, может быть, это и не будет иметь смысла. Поэтому такая сентенция будет действовать по-разному в зависимости от того, в какой модальности мы ее будем использовать — вопросительной или утвердительной. Пока что доминирует утвердительная — то есть она дает нам ответ; но я считаю нужным подойти к ней со стороны вопроса и показать, что она представляет собой именно проблему. Приведу пример.
Возьмем Русское средневековье. Кто из ученых в мире лучше всех знает этот предмет? Скорее всего, российские специалисты. С чем это связано? С тем, что именно они высококлассные исследователи? Пожалуй, это не главная причина. Просто в силу каких-то обстоятельств, не связанных с наукой, — по причинам семейным, культурным, территориальным или просто в силу доступности источников — кто-то оказывается близок к знанию этого периода истории. Аспект же интернационализации науки тут роли не играет: зарубежных медиевистов-русистов мало, и их численность всегда будет отставать от численности российских: за пределами нашей страны к этому предмету интерес ниже. Несомненно, и на Западе есть замечательные исследователи русской культуры: слависты и советологи своими работами представляли собой парадоксальный контрпример. Так, именно западные историки в свое время всерьез взялись за анализ Большого террора (введя, кстати, это понятие). Одна из первых и до сих пор самых известных монографий о творчестве Даниила Хармса написана в Швейцарии. Примеры можно множить, углубляясь в прошлое вплоть до Геродота. Но все это исключения, возможно, не очень редкие в общей массе, но я бы не сказал, что они образуют какую-то систематическую упорядоченность.
Это проблема, с которой нужно считаться и искать к ней подходы. Словом, здесь есть вопрос о некой переводимости коммуникативных форматов — переводимости одной культуры в другую, равно как и переводимости неких стандартов работы в одной дисциплинарной сфере в другой дисциплинарный стандарт. В гуманитарных журналах часто нет четко прописанной структуры статей, хотя кое-где она обнаруживается в неявном виде. Но должно ли требование структуры дополнять критерии научности и тем более выступать в качестве жесткой нормы — над этим еще нужно думать.
Хотел бы обратить внимание еще на некоторые вещи, которые меня интересуют долгое время. Последние пять лет я работаю ученым секретарем в диссертационном совете и регулярно сталкиваюсь с разными событиями вокруг так называемого «Списка ВАК». Наличие публикации в журнале из этого перечня для нас сейчас — важнейший критерий научности и журнала, и его публикаций. Эту странную идею мы не произносим вслух, сейчас она стала имплицитной частью «подлинной научности», и многие настолько с ним сжились, что признают эти критерии, стремясь публиковаться в журналах из «Списка ВАК» в силу их «особой научности». Но ведь нередко есть серьезные и оправданные сомнения в отношении обоснованности внесения многих журналов в этот привилегированный реестр. Мне приходится следить за происходящим в этой области, и я могу сказать, что в этом процессе сейчас появляется чуть больше рациональности, например, в последний год начали делаться ежемесячные обновления списка.
Предположим, в ВАКе может быть некая структура, которая знает абсолютно все о научных журналах и о том, как необходимо принимать решения о включении и исключении изданий в список таковых. Вот только хочется вспомнить, что этот список как изначально, так и сейчас представляет собой перечень изданий, рекомендованных для публикаций соискателей ученых степеней, а вовсе не определяет степень научности проведенного исследования. Если же вспомнить о том, что докторские и особенно кандидатские нередко представляют собой всего лишь объемистый «отчет о проделанной работе», подтверждающий квалификацию, и далеко не всегда являются глубоко революционным достижением, то «ваковость» публикации в данном измерении — далеко не требование научности. Хочется подчеркнуть очевидную несостыковку: научность журнала или публикаций часто определяется нормами ВАКа как организации, чья цель — не экспертиза проблем науки и ее критериев, а всего лишь решение узкоспециальных задач аттестации научных кадров. Это смешение — очередная иллюстрация того, что мы успешно пользуемся «решениями проблем» без понимания самих же этих проблем.
Последнее замечание я хотел бы сформулировать также в виде проблемы. Нам знакомы различные нормы, связанные с наукометрией, с анализом качества публикаций, качества журналов. Мы не можем избавиться от них, неизбежно что-то приходится ранжировать с применением количественных показателей — в определенном аспекте это имеет большое значение, так как альтернатива в виде чистого экспертного оценивания также имеет серьезные недостатки. Непонятным остается другое. Когда ведут речь о пресловутом «Списке ВАК», сохраняется возможность дискуссии — с ВАК или Министерством. Однако же субъект, генерирующий наукометрические правила, явственно внедряющиеся в нашу научную реальность, остается за кадром, и взаимодействовать с ним возможности нет. Они выглядят как некие всеобщие нормы, но откуда они появляются и кто эти «нормотворцы»? Задаваясь вопросами такого рода, вполне здоровые люди начинают верить слухам или говорить о
Владислав Карелин
Фрагмент круглого стола «Социально-гуманитарная статья: эпистемологический и