Утопия знака
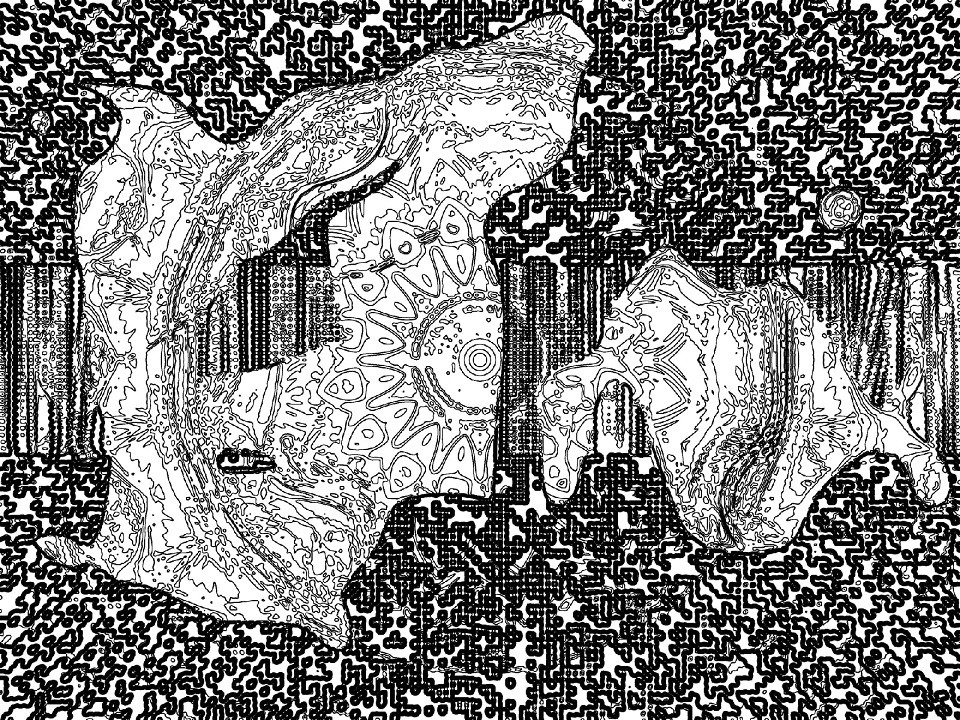
«Тайная гармония лучше явной».
Гераклит, 54 DK
Музыка, если пользоваться старым гегельянским пониманием, принадлежит к сфере объективного духа, к культуре — в ней, её артефактах, её институциях обретают вещественное, реальное выражение импульсы и процессы нашего сознания, субъективного духа. Уже поэтому музыка не может быть этически нейтральной — любое музыкальное произведение подразумевает некую мировоззренческую рамку, онтологический каркас, если пользоваться понятием Рудольфа Карнапа, выдвинутым им в статьей «Эмпиризм, семантика, онтология». Любой дух, geist, сам по себе является синтезом чистого и практического разума, созвездием, в нём объединяются в едином потоке разнородные способности человеческого сознания; в формах и гештальтах объективного духа они находят внешнее, овеществленное выражение. Таким образом, любое проявление творческой способности человека, в том числе произведение искусства, — это отчасти результат игры познавательных способностей, отчасти практических, этических способностей человеческого ума.
«Но здесь надо обратить внимание еще на нечто другое, имеющее более философский и архитектонический характер, а именно на необходимость правильно постичь идею целого и из нее в чистой способности разума обратить пристальное внимание на все части в их отношении друг к другу, выводя их из понятия этого целого».
Кант, Критика практического разума
Дух, таким образом, это явление целостное, энтелехия, как называли эту целеустремленную целостность греки; в более поздние времена, в XIX веке, начиная с Брентано и затем феноменологической школы, эту гештальтобразующую направленность сознания стали называть интенциональностью.
Любой факт подразумевает некоторую предшествующую факту теорию — теория в этом смысле является глазом, в поле зрения которого можно увидеть, описать некоторый факт. Аналогично и с музыкальным произведением — любое музыкальное произведение подразумевает мировоззрение, этическую и политическую позицию, в рамках которых была сочинена музыка, ведь всякую музыку сочиняют, импровизируют, исполняют люди, которые имеют свои склонности, взгляды, черты. Однако же музыка не содержит ценности в
Этическое, ценностное содержание новейшей музыки отнюдь не сводится к её программе. В давней дискуссии вагнерианцев и стронников автора «О
Действительно, какой наглядный образ или сюжет мы можем органично соединить, скажем, с додекафоническим рядом Симфонии Веберна? В лучшем случае мы можем, с большой долей произвольности, проассоциировать ряд и его развитие с некоторыми объективными, природным процессами или феноменологией нашего сознания, когда она рассматривается исключенно, т. е. через гуссерлианское έποχή. Однако подобная герменевтика будет всегда с очевидностью нести на себе печать произвольности и случайности.
Серия, которую использовал Веберн в своей Симфонии, представляет из себя палиндром, «перевертыш». Две малые терции по краям, по две секунды в середине, крайние звуки образуют тритон. Ряд симметричен, он гармоничен и одновременно скрывает в себе противоречие — его симметрия оттеняется тем фактом, что он состоит из диссонирующих, крайне напряженных интервалов. Веберн, который в университете специализировался на истории полифонического письма и защитил под руководством Гвидо Адлера диссертацию о музыке фламандского ренессансного композитора Генриха Изака, ценил подобного рода взаимосвязи, в том числе оттого, что симметрия и в целом структуры подобия вроде фракталов способны выступать замечательной исходной точкой для творчества, так как уже заключают в себе гармонию.
Симметрия, как это известно из современной физики, является принципом, который мы обнаруживаем на многих стратах мироустройства. Фундаментальные законы сохранения (энергии, импульса, момента импульса) в свою очередь, как это доказала Эмми Нётер еще в начале XX века, базируются на симметрии того или иного типа. Современная космология придерживается взгляда, что пространство на сверхбольших, космических масштабах однородно и изотропно. Однако именно нарушение симметрии в локальных масштабах позволяет существовать сложным структурам от планетарных систем до живых организмов; кроме того, нарушение полной симметрии времени — наличие у него необратимого направления, диссипативных процессов — обеспечивает возможность других фундирующих жизнь процессов. Иначе говоря, симметрия необходима для того, чтобы во Вселенной возникали сложные структуры и жизнь, но точно так же необходимы отклонения от неё. Аналогично и с музыкой: симметричные преобразования могут играть роль формообразующих сил, на них могут быть основаны горизонтали и вертикали музыкального произведения, однако живость произведению часто придают отклонения, «несовершенства», тогда как полная симметрия может привести к мертвым, тривиальным результатам. Иначе говоря, большим воздействием на слушателя обычно обладает то произведение, которое включает в себя некоторую дозу энтропии, нарушает ожидания (за счет мелизмов, неочевидных вариаций с искажениями, ритмических сбоев и так далее. К примеру, можно вспомнить «необратимые» ритмы Мессиана).
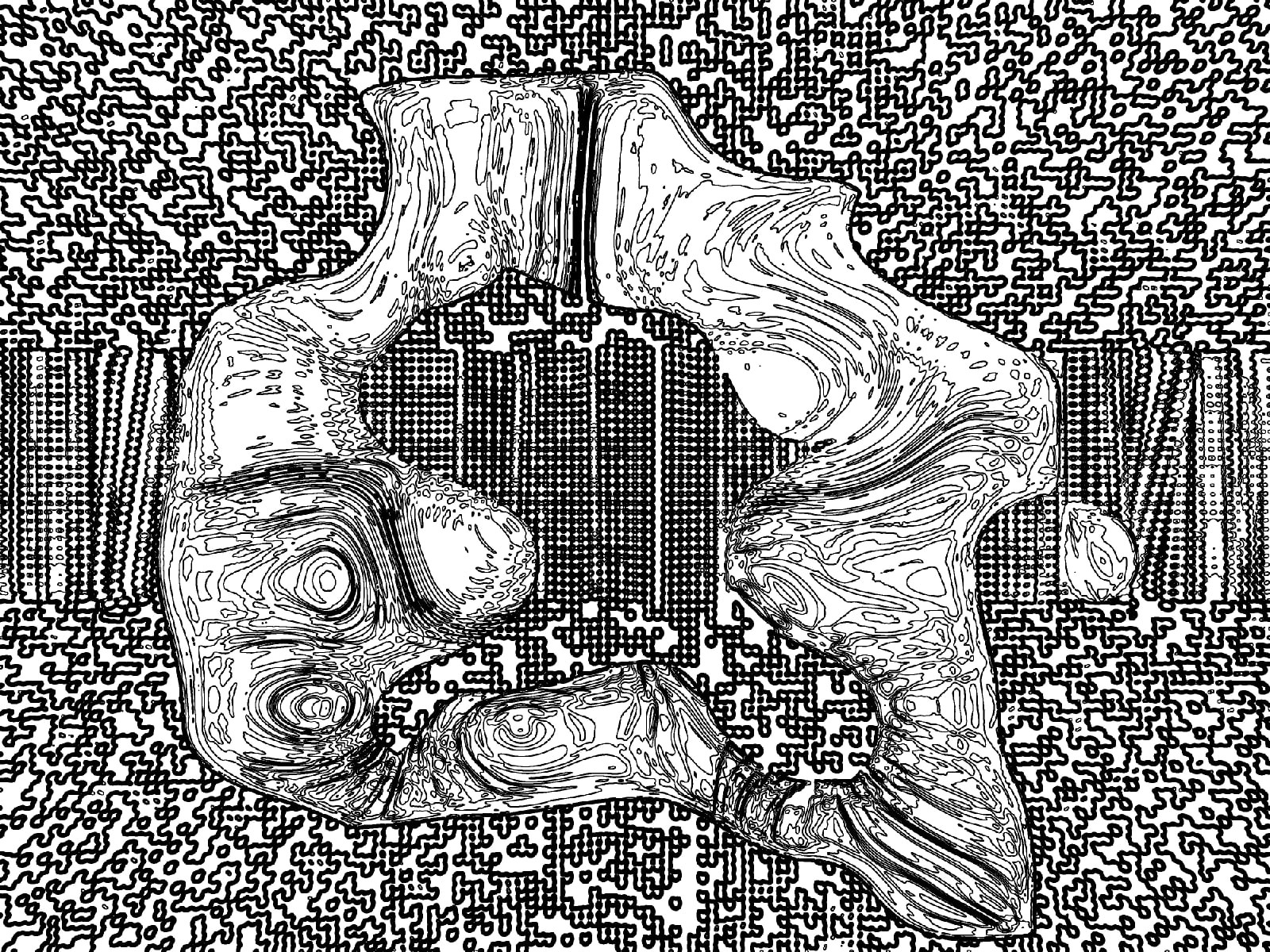
Для додекафонии, особенно в протосериалистском варианте Антона Веберна, который использовал техники полифонии строгого письма (инверсии, ракоходы, каноны и т.д.), характерна опора на симметрические преобразования и дозированные нарушения этой симметрии. Таким образом, вдумчивый слушатель, безусловно, может воспринимать музыку Веберна как своего рода музыкально-математическую поэму. Подобное восприятие в истории взглядов на музыку было характерно и для других полифонических жанров, к примеру, фуги. Однако «математическое» содержание Симфонии Веберна, т.е. преобразования изначального паттерна — ряда, не может быть программой, так как не является привнесенным извне смыслом. Рассуждая о ряде и его преобразовании в музыке Веберна мы, таким образом, относимся к произведению формалистски, извлекаем и выражаем логику развертывания чистой математической структуры — идеи. Такого рода музыка и отношение к ней вполне соответствует неопифагорейскому пониманию музыки как «жизни Числа во Времени» у русского и советсткого философа и филолога А.Ф. Лосева.
Несмотря на то, что в XX веке были сочинения, которые можно с некоторой долей условности отнести к программной музыке, скажем, сочинения Яна Сибелиуса или Скрябина (если брать самое начало XX века), идея абсолютной музыки, музыки как самопоглощенного и автореферентного искусства «движущихся звуковых форм», доминирует.
«Музыка состоит из звуковых рядов, звуковых форм, которые не имеют другого содержания, кроме самих себя».
Ганслик, Э. О
В XX веке композиторы неоднократно прибегали к текстам в качестве источника вдохновения, даже в инструментальных жанрах, не только в случае с операми или кантатами. Однако отношения текста и музыки в XX веке не являются иллюстративными — музыка не просто является подстрочным комментарием к тексту или способом усиления, нечленораздельной чувственной артикуляции. Новый тип отношения текста и музыки отчасти был продиктован изменением самого творческого языкового дискурса. Взяв за основу, скажем, «Книгу» Малларме или тексты Джеймса Джойса, мы вряд ли сможем написать традиционное программное сочинение в силу их внутренней сложности, раздробленности, фрагментарности, сюрреальности.
«Музыкальное исполнение можно сравнить с речью оратора. И оратор, и музыкант, готовя и исполняя произведение, ставят перед собой одну и ту же цель: покорить сердца слушателей, возбудить или успокоить их чувства и привести их в тот или иной аффект. Посему каждому из них было бы полезно узнать об обязанностях другого».
Кванц, И. Опыт наставлений в игре на флейте траверсо
Для музыки XX века не характерно иллюстративное отношение к тексту: музыка не повторяет текст буквально, в виде иконических знаков-отсылок, не является риторическим комментарием в звуках (в смысле, который вкладывала в это понятие барочная музыкальная наука, например, в лице флейтиста и теоретика Иоахима Кванца, автора «Трактата об игре на поперечной флейте»), не пытается, как это характерно для классицизма и романтизма, выстроить собственный мир борьбы и взаимоотношений на основе устойчивых звуковых символов-тем (в этом смысле традиционная соната заключает в себе целую развернутую мифологию, выражаемую лишь формальными средствами). Следует заметить, что использование знаков-символов (по Чарльзу Пирсу) характерно также и для барокко, не только для более поздней музыки. Скажем, мы найдем его в баховских «Страстях» или «Кантатах».
Безусловно, музыка XX века — это бурный, необъятный океан, в котором находилось место всему. В том числе мы можем найти многочисленные примеры программной музыки, которая тяготеет к буквальному, наивному, иллюстративному подходу: она либо использует иконические знаки (т.е. звуковые комплексы, подобные природным или встречающимся в человеческой практике звукам или процессам), либо риторически — через эмоции и акценты — раскрашивает текст музыкой. Самые очевидные примеры такой музыки — сочинения ранних авангардистов, Авангарда-I по Холопову, к примеру, «Завод» Мосолова, оркестр Intonarumori Луиджи Руссоло, «Механический балет» Джорджа Антейла, некоторые произведения Лео Орнштейна. В странах социалистического лагеря во время декларируемой борьбы с формализмом поощрялись программные сочинения того или иного рода, в которых бы четко прослеживалось внемузыкальное идеологическое содержание (у Шостаковича есть замечательные, эстетически успешные примеры такой программной музыки, скажем, Симфония № 11 «1905 год»). Впрочем, даже в европейской и американской музыке, относительно свободной от непосредственного, прямого идеологического диктата, что не означает свободу от цензуры или иных форм идеологического давления, не столь очевидных или прямых, как при авторитарных режимах, встречались те или иные проявления программности или опоры на символы и сюжеты: скажем, сочинения Оливье Мессиана используют иконические знаки (мотивы пения птиц), знаки-символы (тема течения вод в «Празднике прекрасных вод»), или иллюстрируют, пусть и с крайнем своеобразием, религиозные сюжеты («Квартет на конец времени», «Двадцать взглядов на младенца Иисуса»). Впрочем, композиторы продолжают писать интересные программные или по меньшей мере находящиеся в тесной связи с текстом сочинения и по сей день, к примеру, можно упомянуть сочинение корейской композиторки Чин Ынсук «Манекен», основанное на новелле «Песочный человек» немецкого писателя-романтика Эрнста Гофмана.
«Манекен» хоть и не является в самом строгом смысле программной музыкой, насколько программной музыкой является, скажем, знаменитый «Эпизод из жизни артиста», «Фантастическая симфония Гектора Берлиоза», рассказывает сюрреалистическую историю, сплетая явь и сны, с опорой на текст. По сюжету новеллы «Песочный человек» главному герою, мятущейся душе, являются во взрослом возрасте в виде людей его детские страхи — граница между кошмаром и бодрствованием становится очень тонкой, проницаемой. Музыка передает эмоциональные интонации текста — от хрустальных, вкрадчивых тонов челесты во вступлении до утробного, фатумного рокота фагота в финале разворачивается история эмоциональной опрокинутости, спутанности, беспокойства. Слушатель, как и протагонист новеллы, теряет почву под ногами, ищет опору. Таким образом, музыка является образно-эмоциональным комментарием к тексту, передаёт эмоциональные структуры через контрасты тембров и смену типов фактуры.
Однако когда композиторы в XX веке обращались к
«Если я выбираю стихотворение, чтобы превратить его в нечто иное нежели отправную точку для орнаментации, которая будет ткать вокруг него арабески; если я выбираю стихотворение, чтобы сделать из него источник орошения моей музыки и благодаря этому создать амальгаму, где стихотворение окажется «центром и отсутствием» звукового тела, то я не могу ограничиваться одними лишь аффективными отношениями, устанавливающимися между стихами и музыкой; в таком случае обязательно появляется некая соединительная ткань, которая среди прочих отношений включает и аффективные, но к тому же еще и подчиняет все механизмы и стихотворения, и чистого звучания собственным разумным предписаниям».
Пьер Булез, Ориентиры I
Поэзия текста, его внутренний смысловой строй позволяют вместе с музыкой создать «амальгаму» — текучую звукосмысловую материю, нечто третье. В качестве примера такого одушевления текста или образа музыкой при крайне свободном отношении к текстуальному первоисточнику как к истоку вдохновения и
Однако название было выбрано после того как партитура (и электроакустическая запись, и партии оркестра) была завершена.
Sur la nappe d“un étang glacé…
Je t”aime
Hiver aux graines belliqueuses.
Maintenant ton image luit
Là où son cœur s’est penché.
На скатерти пруда, покрывшегося льдом
Зима на воинствующей ниве,
Я тебя люблю.
Теперь твой образ сияет там,
Где разбилось его сердце.
(пер. А. Добрынина)
Образ из стихотворения Рене Шара дополняет музыку, усложняет возможные смысловые ассоциации. Музыка не исчерпывается, не ограничивается текстом, но вступает в ним в своеобразную игру.
Итак, даже тогда, когда композиторы прибегают к определенному яркому и образному названию, как, скажем, Владимир Тарнопольский в сочинении 2004 года «Маятник Фуко» или Клаус Ланг в сочинении 2007 года «Три золотых тигра», эти образы скорее являются шифром, способом остранить музыкальный материал, запутать слушателя, чтобы он как бы искал свой собственный путь к смыслам в темноте и на бездорожье.
«У новейших же авторов название связано, главным образом, с индивидуальной идеей сочинения, подчас глубоко зашифрованной, субъективной, во многих случаях абстрактной», — пишет Валентина Холопова.
Часто заглавия сочинений абстрактны, они отсылают к научным понятиям или природным явлениям (достаточно вспомнить Density 21.5 Эдгара Вареза, Les Espaces acoustiques Жерара Гризе, Le Lac Тристана Мюррая). Лишь в самое последнее время появилась тенденция к непосредственному возвращению субъективности, эмоциональности, остросоциальных тем в опорный образный строй музыкальных произведений. Так, можно упомянуть, к примеру, экологическую трилогию Джона Лютера Адамса Becoming или Koyaanisqatsi Филиппа Гласса, а также «новую искренность», которую можно расслышать, скажем, в фортепианных «Багателях» Валентина Сильвестрова или музыке Арво Пярта). Такой ренессанс эмоциональности связан с тем, что можно с определенной долей теоретической беспечности охарактеризовать как утомленность от умозрительности Авангарда-II. Даже деятели самого Авангарда-II, такие как Штокхаузен, Берио, Лигетти, Булез в поздний этап своего творчества обращались к эмоциональной мифологии (достаточно упомянуть меганарратив Штокхаузена «Свет»); более молодые композиторы же напрямую возрождали тональность в музыке (Симеон Тен Хольт, Арво Пярт, Валентин Сильвестров, Филипп Гласс, Майкл Найман, Терри Райли, американские композиторы-тоталисты в лице Кайла Ганна и прочих), которая, как казалось, была чем-то архаичным, невозможным после катастрофы мировых войн. Для этого, безусловно, требовалась определенная творческая отвага.
Музыка чаще всего не является политическим памфлетом, идеология содержится в ней в сокрытой, в снятой форме. Лишь в редких случаях даже той музыки, которая опирается на текст, в ней можно непосредственно разглядеть идеологическое содержание. Под идеологией здесь я понимаю не то, что Адорно, вслед за гегельянцами, понимал как «ложное сознание», т.е. идеологические покровы, должные скрывать реальный характер общественных отношений, а скорее совокупность практических установок и ценностей. Для Адорно «в той мере, в какой музыка — не явление истины, а действительно идеология, стало быть, в том виде, в каком ее узнает народ, в каком она скрывает от последнего социальную действительность, необходимо встает вопрос об ее отношении к социальным классам». Однако же, как утверждает современный британский философ Кеннет Вестфаль на основании своего анализа гегельянской эпистемологии, истина сама по себе, если мы хотим избежать логических парадоксов связанных с так называемым критерием истинности, должна быть дискурсивным феноменом, поэтому даже если мы понимаем некоторую современную музыку как правдивую в духе Адорно, т.е. обнажающую «адские бездны» современности, такая истина в любом случае будет некоторой теоретической экспликацией практического и структурного содержания музыкального произведения.
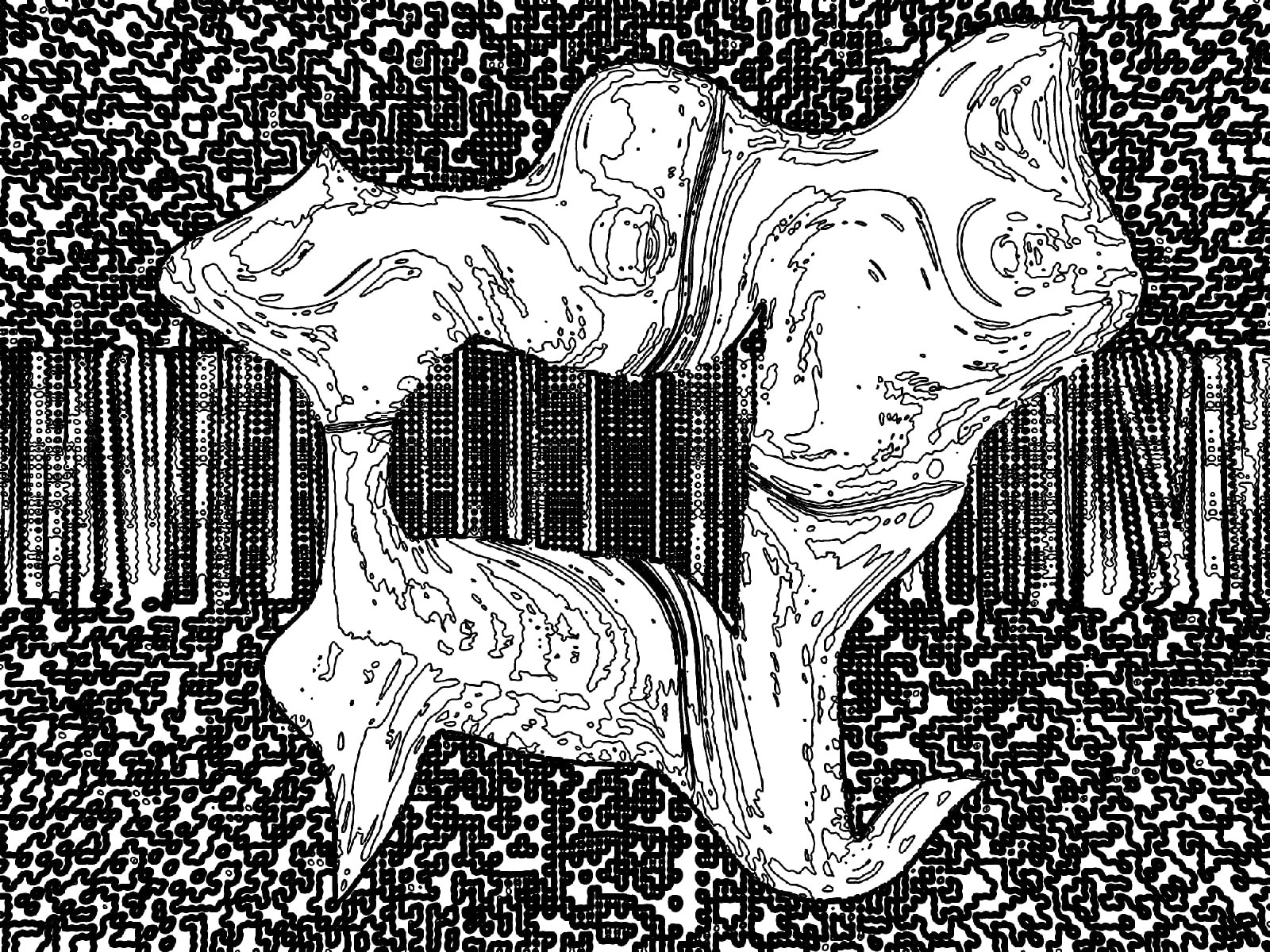
Непосредственное отражение идеологии в музыке проблематично — музыка не является языком в том смысле, в котором языком являются распространенные знаковые системы, в частности, речь. Хотя музыкальные сочинения трудно упрекнуть в том, что они не способны стимулировать в нашем сознании появление тех или иных смыслов или эмоций, у элементов музыки, в отличие от элементов естественного языка — слов, нет четких денотатов, а десигнаты музыкальных элементов (т.е. смыслы) достаточно неопределенны и субъективны. Иначе говоря, если опираться на знаменитый треугольник Фреге, концепция логика Готлоба Фреге, устанавливающую связь между именем (знаком), значением (денотатом) и смыслом (десигнатом), в качестве критерия, мы вряд ли сможем понимать музыку как язык, аналогичный языку, способному на фактуальные и ценностные высказывание.
«Слушая музыку, мы вдруг ощущаем, что мир есть не что иное, как мы сами, или, лучше сказать, мы сами содержим в себе жизнь мира. То, что было раньше отъединенным и дифференцированным пеpeживaниeм в нашем субъекте, вдруг становится онтологической хаpaктepистикой того, что раньше мы отделяли от себя и называли объектом. Музыкальное пеpeживaниe становится как бы становящейся предметностью, самим бытием во всей жизненности его проявлений», — писал А.Ф. Лосев.
В музыке вещи пребывают в изначальной слитности, а прошлое и будущее — всегда миг настоящего. Музыкальное произведение, таким образом, может быть понято как цельный знак, в котором нет отдельных смысловых частей, как своего рода уникальная осмысленная нечленораздельная речь, в своей способности порождать тонкие смысловые ассоциации поднимающаяся над простым восклицанием, междометием. Очевидно, что если мыслить музыку таким образом, то непосредственное выражение философских позиций, идеологических призывов, этических установок окажется в ней невозможным напрямую. Безусловно, прекрасная мелодия способна пробудить в нас некую боль, тоску по цельному миру, предшествовавшему, согласно неоплатонической фантазии, раздробленному миру вещей. В музыке все слитно и органично, все подчинено единому принципу формы — в нашей повседневности мы можем испытывать тоску по подобному гармоничному миру, ту тоску, которую Гегель описывал как несчастное сознание.
«Это несчастное, раздвоенное внутри себя сознание — так как это противоречие его сущности есть для себя одно сознание — всегда должно, следовательно, в одном сознании иметь и другое, и, таким образом, тотчас же как только оно возомнит, что оно достигло победы и покоя единства, оно из каждого сознания должно быть снова изгнано».
Гегель, Феноменология духа
Однако так действует мелодия уже в силу своей музыкальности, а не потому, что на неё потенциально можно спеть воодушевляющий или пронзительный текст; поэма в данном случае лишь направит, как опытный кормчий, интерпретации слушателя, но ветра и потоки, несущие сознание, будут исходит от музыки.
Законодатель интеллектуальных мод и родоначальник структуралистского подхода Клод Леви-Стросс так писал об этом свойстве музыке:
«Если музыка — язык для создания сообщений, по крайней мере, часть из которых понятна подавляющему большинству, хотя лишь ничтожное меньшинство способно их творить; и если среди всех остальных языков только этот язык объединяет в себе противоречивые свойства быть одновременно умопостижимым и непереводимым, — то это само по себе превращает создателя музыки в существо, подобное богам, а саму музыку — в высшую тайну науки о человеке».
Так как музыка не является прямым аналогом естественной речи, прямой перевод идеологических позиций в музыкальное содержание невозможен. Любые ассоциации между музыкой и тем или иным политическим манифестом будут более или менее произвольными. Одно и то же музыкальное содержание может быть поставлено в связь с политическим или этическим текстом или же просто бессмыслицей, набором букв и слов, глоссолалией, при этом само музыкальное содержание от такой перемены не поменяется.
Карлхайнц Штокхаузен писал, что «та эпоха, которая началась сотни лет назад, даже 2500 лет назад вместе со способом мышления древних греков, закончилась. Новая мировая эпоха началась около 1950 года. Каждый чувствует это во всех сферах жизни».
Одна из характеристик современной эпохи, которая благодаря работам Жана Бодрийра, Франсуа Лиотара и прочих получила имя постмодерна, того, что следует за модерном, — отношение к миру как тексту, как к грандиозной машине дискурса, механизму порождения структур из структур, столь многочисленных и обильных, что само понимание «структуры» как
«Вот уже около 40 лет мы находимся в стадии взрыва в обновлении музыки».
Эти преобразования, слом и взрыв самой музыкальности, которая, в том числе благодаря новым техническим средствам и эстетическим концепциям Пьера Шеффера, Джона Кейджа, французских спектралистов, Хельмута Лахенмана и других, охватила весь возможный сонорный мир, мир всех возможных звучностей, безусловно, отражает глубинные изменения в самих основах культурных годов. Гуманитарная культура, общественное сознание чутко отреагировали на катастрофу мировых войн, на
«Субъект есть конкретный субъект или предполагаемый таковым; его эпопея — это эпопея освобождения от всего, что ему мешает управлять собой», пишет Лиотар в «Состоянии постмодерна». Как в физике эйнштейновская революция показала, что точка отсчета имеет сущностное значение для определения характеристик движения тел, их положения, импульса, скорости, так и гуманитарная наука эпохи постмодерна открыла, что перспективизм — сущностная часть нашего космоса. Субъективность оказалась вездесущим, трансцендентальным объективным феноменом; сама мысль не нова, философы и ранее высказывали и развивали её, но теперь эта мысль стала фантазмом, властвующим над общественным сознанием, и основой организации дискурса. Логика развития новоевропейского субъекта породила субъективность, которая включает в себя и объективность как момент субъекта: в музыке, к примеру, эти имперские амбиции субъективности косвенно проявлялись в желании композиторов, прибегающих к алеаторике (Булез, Лютославский, Штокхаузен и прочие), подчинить себе случайность, сделать случайность подвластной композитору. Наиболее яркий пример — музыкальное мышление Пьера Булеза в 1950–60-х годах. В отличии от кейджевского индетерминизма Music of Changes и других произведений (Булез недаром в критическом начале знаменитой статьи Alea упоминает восточную философию и соответствующую ей интоксикацию), где композитор — субъект власти над материалом — устраняется, низводится до роли «часовщика» в деизме, настройщика порождающих механизмов, подход alea состоит в усилении власти композитора.
«Наиболее элементарную форму оперирования случайностью можно усмотреть в обращении к восточной философии, которая как бы маскирует основные слабости в технике композиции; такой метод можно назвать уловкой против явной банальности, возникающей в сочинении; использование подобного «тонкого зелья» разрушает подлинное ремесло сочинительства в самом своем зародыше; я охотно назвал бы этот так называемый опыт — когда индивид не ощущает ответственности за собственное произведение и по причине слабости, и ради временного облегчения пускается в ребяческую магию — оперированием случайностью по недосмотру».
Пьер Булез, Ориентиры I
Alea пытается одомашнить случайность, приручить её, поставить ее пламенеющие и хаотические силы на службу композиции, которая состоит в каскаде ответственных выборов. И случайность формы или же отдельных элементов, отданных на откуп исполнителю, становится результатом осознанного выбора композитора. Соответственно, идеальные примеры такой алеаторики — мобильная форма в духе Klavierstucke XI Штокхаузена или Третьей сонаты самого Булеза.
Следовательно, так как музыка не является текстом в строгом смысле, и прямой перевод с политического языка в звуки невозможен, то идеологическое и этическое содержание проявляются скрыто, косвенно, в контекстах. Проиллюстрировать власть контекста над политической семантикой музыки можно на примере Девятой симфонии Бетховена. Премьера 7 мая 1824 года имела успех в силу того, что музыка выражала чаяния «третьего сословия» на братство и перемены в социальной иерархии. Усиливающаяся и обретающая свое политическое сознание и волю мелкая буржуазия нуждалась в культурных символах, вокруг которых возможно было бы объединение и массовое политическое действие. Несмотря на то, что «Ода радости» Шиллера обращается ко всему человечеству, она, тем не менее, разделяет людей на входящих в «узкий круг», «верных клятве» и вершащих праведные дела, и тех, кто исключен из него (тиранов, «служителей обмана» и прочих). Любое утверждение или призыв к человечеству в целом всегда исходят от вполне конкретно-исторического политического субъекта. В данном случае, несколько упрощая, этим субъектом были новые политические силы, ассоциированные с буржуазией, мелкими собственниками и зарождающимся классом наемных рабочих. Девятая симфония, таким образом, обладала революционным потенциалом, аккумулировала в себе волю к переменам. Однако сейчас, когда шедевр Бетховена исполняется в концертных залах оркестрами, пользующимися финансовым обеспечением консервативного государства, это политическое содержание музыки, отчасти связанное с текстом Шиллера, отчасти с новаторским и взрывным, страстным характером самой музыки, нейтрализовано, если пользоваться выражением Теодора Адорна. Бомба, опасный взрывной механизм, превращается в занятную безделушку, когда он обезврежен.
Иногда сама организация музыки или предполагаемый метод её исполнения выражают предпочтение той или иной модели общественного устройства. Детальные, подробные, строгие партитуры Брайана Фёрнихоу (к примеру, La Chute d’Icare) и компровизационные музыкальные организмы Алексея Сысоева (Wallpapers) подразумевают различные формы объединения и организации исполнительского процесса, а значит, косвенно утверждают различную структуру социального космоса. Музыка, написанная для ансамбля импровизаторов или для уникального оркестра без дирижера «Персимфанс», некоторое время назад возрожденного в России благодаря деятельности Петра Айду и других музыкантов, или же написанная для Klangforum Wein, будет организована различно и, следовательно, подразумевать различные ценности.
Некоторая современная музыка более очевидно выражает политические установки, в том числе благодаря тому, что автор сам артикулирует их в своих текстах и интервью. Скажем, инструментальная конкретная музыка Хельмута Лахенмана, его сочинения от Guero и Pression до Concertini, которая остраняет, деконструирует традиционные инструменты и «перезагружает» их историю, пытается напрямую бороться с клишированностью и индустриализацией музыки — лахенмановский «отказ от красоты», сладкозвучия, буквально означает поиск прекрасного в выходящем за границы систем угнетения и нормализации, распространенных в капиталистическом обществе. Сам Лахенман утверждает: «Со времени сочинений temA и Air в моей музыке речь идёт о строго сконструированном отказе и противостоянии тому, что нам представляется как общественно предоформленный слуховой опыт».
Новейшая академическая музыка выражает в себе новые ценности косвенно — требуя новых механизмов производства и исполнения музыки, используя необычные формы (например, как в опере Ромителли Index of Metals по-новому реализуя принцип синтеза искусств), обращаясь к философии и гуманитарным наукам в качестве вдохновения (Windows to Infinity Кайла Ганна, The History of Photography in Sound Майкла Финнисси и т.д.).
Безусловно, необходим метод, который позволял бы экспликацию идеологического, политического, ценностного содержания современной музыки. Вероятно, подобное содержание будет слишком общим, лишь изредка музыкальное сочинение, в силу интересов самого композитора или сложившегося контекста, будет выражать интересы конкретных политических группировок, классов или утверждать конкретную политическую модель. Без подобного метода утверждение о скрытом идеологическом содержании музыки будет казаться некоторой общей тривиальностью: да, безусловно, что-то есть в музыке, что внушает нам определенные ценности, но что? Как подняться в интерпретации над произвольностью, крайней субъективностью, умозрительностью? Опровержение или доказательство возможности подобного метода, а также его разработка заслуживают отдельного объемного исследования и выходят за рамки этой небольшой статьи.
Возьмем в качестве примера «Шесть каприсов» Сальваторе Шаррино для скрипки соло. Нет никакой нужды обращаться к комментарию самого композитора, чтобы выявить определенное этическое содержание музыки — балансирующая, как это характерно для сочинений Шаррино, на грани между тишиной и звуком хрупкая, нестабильная звуковая материя отказывается от того, чтобы выражать какую-то конкретную распространенную идиому звучания. Такое сознательное сопротивление распространенным музыкальным моделям само по себе утверждает ценность индивидуального, нетипичного, ценность живого мышления, выходящего за рамки идолов разума и предрассудков. Трудно представить, чтобы музыка Шаррино побуждала людей к недомыслию и моральному самодовольству — напротив, кажется, что она сама суть поиск, постоянное движение; человек, который впустил её в свое сердце, вряд ли будет всегда полностью удовлетворен собой и своими взглядами. Ницше утверждал, что человек — существо метафизическое, т.е. буквально всегда пересекает границы своей природы, φύσις, никогда не пребывает в самотождественности. Подобная ищущая, беспокойная музыка отражает взгляд на человека как на затерянную и пребывающую в постоянном поиске экзистенцию. Сложно надеяться на то, что человек, любящий эту музыку Шаррино, будет вовсе не склонен ко злу, но можно ожидать, что если он все же совершит злодеяние, он сделает это хотя бы осознанно.
Цифровая эпоха, порождающая новую локальность и утверждающая множественность, размывающая репрессивные понятия нормы, требует нового искусства, которое было бы устроено ризомически, как корневище, лишенное центра, в отличие от искусства, которое можно описать с помощью образа дерева.
«На этот раз основной корень не дозрел (a avorte) или разрушается (se detruit) почти до основания, от него отпочковывается множество второстепенных корней, которые разрастаются в полную силу. На этот раз природная действительность проявляется в отторжении (avortement) основного корня, но от этого его единство не становится меньше, в качестве прошлого, будущего или возможного единства».
Делез, Гваттари, Тысяча плато
Новейшая музыка, столь разнообразная, в которой находится место как самым необычным экспериментам с тембрами, темперациями, источниками звука, ритмами, так и возрождению тональности и мелодии, или старинному искусству импровизации, сама по себе лишена центра. Она представляет из себя множество параллельных процессов; эта сложность и полифоничность проявляет себя как на уровне организации самого музыкального мира, музыкальной индустрии, так и на уровне отдельных произведений. Множественность, распределенность, многообразие — этические и политические ценности новой цифровой эпохи, условие совместной жизни разных по своему опыту и особенностям людей. Новейшая музыка бросает вызов ксенофобии и механизмам исключения, которые ранее были способом поддержания порядка, через преодоление стереотипности мышления, ведь банальное зло коренится в клишированности и абстрактности мышления, которое оперирует не эмпирическими конкретностями, но необоснованными обобщениями.
«Это и называется “мыслить абстрактно”— видеть в убийце только одно абстрактное — что он убийца, и называнием такого качества уничтожать в нём все остальное, что составляет человеческое существо».
Гегель, Кто мыслит абстрактно?
Таким образом, новая музыка, которая ищет себя, которая пытается выразить сложную и богатую современность, прибегая к экспериментам со звуковым пространством и к методам производства музыки (например, к компровизации или к сочетанию популярной электронной, джазовой и академической музыки), является своеобразной утопией в себе — миром, в котором противоречия множественности сняты в цельности и органичной гармонии единого знака.
***
Если вам понравилась статья, вы можете подписаться на мой телеграм-канал, где я публикую заметки о классической и современной музыке: https://t.me/classic_mechanics
