Эна Трамп. Куриная слепота
Эна Трамп родилась в мае 68-го, живет в Санкт-Петербурге.
Иллюстрации Жени Сташкова
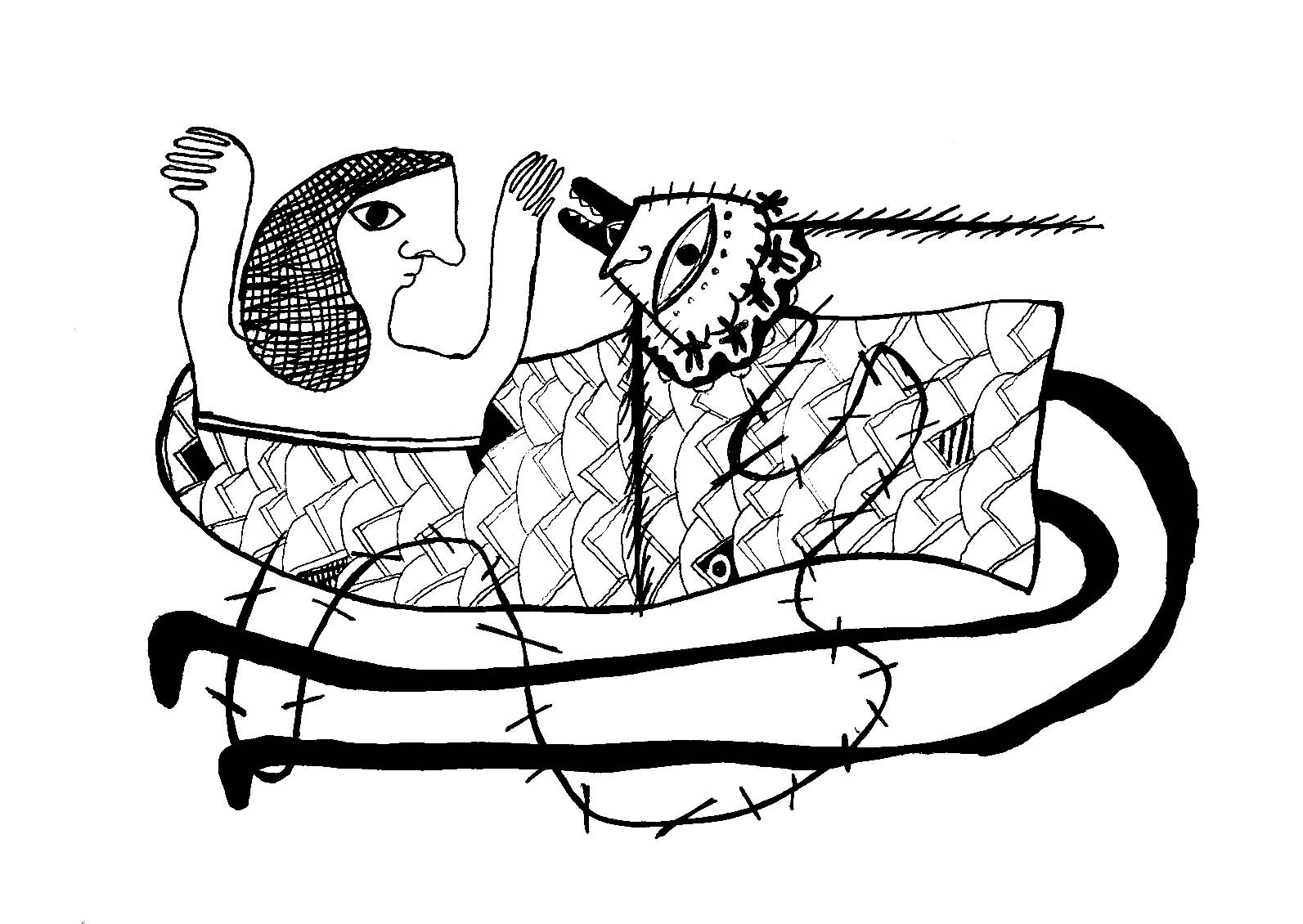
У нее были немалые деньги: тысяча рублей на то время, а время — середина девяностых, 92й или 94й. С тысячью рублей в кармане, атласным пуховым одеялом и куском целлофана она решила поехать в Куржексу.
Путь лежал через Ленинград. К тому времени уже переименованный; значит, пускай Ленинград. Там она задержалась дней на 5. Вписывалась у подруги, точнее — у подругиного мужа. Муж всё время отсутствовал. Квартира была запредельно грязной. Она, бывало, мыла посуду в чужих квартирах; не в этот раз — обстановка была разлагающая, и она сама не чувствовала внутренней целеустремленности. В предпоследний день они съездили на могилу Цоя. Антураж изумил: стоят палатки, люди живут. Закончили коньячком под «Кинг Кримсон» (муж подруги уважал). Утро началось поздно; пока собралась, поехала еще к другу, чай с разговорами, пока похмелье не прошло.
В шесть вечера распрощалась с другом в коридоре: провожать он не постремился. Станковый рюкзак «Ермак», башмаки за 7 рублей из спорттоваров (не те 7 рублей, еще старинные: заслуженные башмаки). И поехала на Московский вокзал.
На Московском вокзале электричка на Волховстрой, билет брать глупо — если ей до Вытегры, тысячу рублей схоронила далеко. Покурила перед дверями последнюю, план такой — ехать без сигарет, и бросить в пути.
Засыпала и просыпалась, твердила про себя «Войбокало». Остановок не объявляли; несколько раз поднималась, ходила к маршруту на стене смотреть. Так два часа.
Электричка уехала. Тьма кромешная. Погода не благоприятствовала, и в Ленинграде было пасмурно, какие-то дожди заряжали, белых ночей нет и помину.
Перешла через рельсы, и в темноте, все равно неожиданно — так: грузовик на постаменте, реальный ответ ее памяти. Снизу надпись: «Дорога жизни».
Пошла дальше и вскоре стояла на трассе.
Тут ее постигло мудрое решение. Лес за спиной. Никто в такое время в лес не полезет; к тому же опять невидимо моросило. У нее целлофан. Отойти — недалеко, чтоб трасса была слышна. Утром поехать.
Так и сделала.
Попалась большая ёлка. Подлезла под нижние сухие ветки, положила рюкзак станком вниз, вытащила и раскатала целлофан. Наверх одеяло, сверху опять целлофан. Наломала с нижних сухих веток хворосту, огонь разгорелся прямо под усилившимся дождем. В двух шагах от лёжки, практически из-под себя нарвала листьев земляники и малины, бросила в чашку вскипевшей воды. Напиток был такого вкуса, какой ей больше не довелось попробовать ни разу в жизни.
Сквозь деревья виднелись машины под фонарями на трассе; с этого ракурса они оказались ужасно смешными. Мчались, приседая, почти задевая брюхом асфальт, как большие лягушки. Она закрыла глаза.
Ты со мной. Где же тебе и быть, если ты в моей голове. Ты, может, даже и не знаешь, что со мной. Так еще и лучше. Мы вдвоем; я под твоею защитой. Сказать кому-нибудь — скажут, сумасшедшая. Это вряд ли. Я ощущаю твое присутствие, и с тобой я засыпаю.
* * *
Проснулась она в луже. Сверху ее закрывал целлофан, и одеяло сверху осталось сухим. Но снизу — продавила углубление в целлофане своим весом. Дождь натекал туда, целлофан не выпускал воду, и одеяло внизу промокло насквозь, захватив и штаны на ней.
Ругаясь, она вылезла, вытрясла целлофан и упаковала его в рюкзак. Одеяло потащила в руке, бессмысленно было его сворачивать, наполовину мокрое.
На трассе остановила большую машину, КамАЗ, и загрузилась прямо с одеялом. Раскинула на ногах, чтоб сохло. Штаны высохнут и так. Машина не ехала, конечно, в Вытегру; до Вытегры было ой как далеко. Ехала с ним полдня, одеяло высохло, на какой-то остановке тоже его упаковала. Наконец вышла на солнышко.
Как будто в середине лета, а не конец августа. От солнца все вокруг, казалось, звенело, она шла в зелени, одна. И вдруг увидела большую валяющуюся ветку с продолговатыми тонкими серебристыми листьями, и россыпью желтых ягод. Кто ее здесь бросил? Вокруг ничего подобного не росло. Подняла эту ветку и тащила с собой, пока всю не объела. Кажется, это была облепиха.
Волшебные имена, Сясьстрой, Свирьстрой, Лодейное Поле. Сяргозеро, Тудозеро: Тудозеро-Сюдозеро. Есть места, где озеро подходит к самой дороге. Справа вода, и слева вода, почти вровень, почему не заливает — неизвестно. Идешь по дороге среди воды. Еще: выходишь из машины, вдруг в тундре. Карликовые березки ползут среди мха. Какая тундра? где тундра, по карте посмотри. — Какая карта, я там шла! Красные маленькие ягоды на стебельке, по десятку ягод слепились, она не знала, едят ли их, и некого спросить. Набирала по маленькой горсти и совала в рот. В каждой ягоде косточка — костяника, наверное. Остановишь, поедешь, уснешь, проснешься — нет тундры. Лес, озера, Подпорожье.
Андомский Погост.
* * *
Ехала она два дня. Наконец, Вытегра. Тут — всё. Распрощалась с шоферами (две машины; они останавливались, сходились. Они ее кормили в пути). — «А может давай с нами, обратно?»
Но на самом деле не всё: Андомский Погост. Туда тоже доехала, на каком-то лесовозе. Вылезла; вот теперь — всё. Дорога была — убитая колея. Ездили только лесовозы; раз в час.
Пешком. Попался один барак, по ее стороне дороги, пустой. Тут, может быть, ночевали, какие-нибудь лесорубы. Миновала. «Семьдесят километров ничего, — сказал последний. — Дальше только Финляндия».
«Медведи», — думала она. «Медведи». Она поняла — так же отчетливо, как в ночевке в лесу, когда поняла, что не одна, — что не хочет видеть медведя. Не сейчас. Когда-нибудь не сейчас.
Одна. И солнца не было, опять пасмурно небо ровно застелило. Холодно, без дождя. Поворот. Должен быть поворот. Не прошла ли она поворот? Могла не заметить. Может быть, нет поворота. Башка у нее совсем шла кругом, с недосыпу.
Поворот предварялся мостом. Не заметить было невозможно. Она пошла, потом она сняла башмаки. Башмаки качались в руке, рюкзак тяготил спину. Выдирая ноги из грязи по колено, где-то километр — не очень долго, но машине не проехать. «Только трактором, и то — до осени».
Грязь кончилась; дорога шла вверх. Села на рюкзак, долго счищала с ног. Обулась. Двинулась. Это как шок: вдруг среди зелени — серые дома.
Медленно она вошла в деревню.
* * *
Проснулась она в деревянном доме. И первым делом вспомнила, как ночью летали комары. Комары летали прямо над ухом, она слышала писк. Но не садились. Ни один комар не укусил ее. Новость: некусающиеся комары. Может, здесь уже осень, комары готовятся уснуть. Засыпать с несадящимися комарами было так же покойно, как с кем-то рядом.
Вставать не поспешила — некуда было спешить.
Дом был чист. Вчера подмела, обе комнаты, большую и кухню. Выбила половики-дорожки, и расстелила. Были еще комнаты, их не стала трогать, там были следы разрушения. Здесь — всё было так, как будто живут. Здесь живут девочки, сигнализировала она своей уборкой.
Большая печь: натопила, взяв из разрушенных комнат. Всё как надо, красные угли, задвинула вьюшку. Надо будет дровами разжиться. Вот еще что: у нее был топор. Маленький топорик в одну руку, это он тяготил спину в рюкзаке. Она его перебирала, вешала даже на пояс. Эффектно стоять на трассе — с топором на поясе. Но в езде топор мешал; и она его убрала обратно в рюкзак.
Воды принести. Есть колодец, но гораздо дальше.
Комнаты это второй этаж. Первый этаж — хлев; сейчас пустой. Туалет — деревянный толчок — нависал наружу, выступая из второго этажа, дырка прямо вниз. Оприходовала схему: остроумно. Большой дом, она выбрала самый целый из всех, в середине деревни. Остальные были более и менее разрушенные. Дальше если идти, будет спуск круто вниз, к реке.
И люди. Количество людей в брошенной деревне ее поразило. Она не знала — а было это 19 августа, «Спасов день»: в этот день, и следующий, из соседних, не брошенных деревень, посещают здешнее кладбище. Еще тут садили картошку.
Это ей скажут сегодня, только позже, мужик и парень молодой из соседнего дома. Еда у нее кончилась. В дороге она купила буханку черного хлеба. Хлеб в магазины здесь привозили два раза в неделю. Ноздреватый, вкусный, пока мягкий, только какой-то мокрый — на следующий день он становился как картон. Есть невозможно. У нее еще остался.
Она не придумала ничего лучше, как, выйдя из дома, подойти к этим парню с мужиком — они ее видели вчера, когда она только пришла: поздоровалась, слышав, что так принято в деревне, — ответили. Сейчас она вышла со своей тысячей: она решила, что настало время ее тратить. И сказала:
— Можно купить у вас картошки? — протягивая эту крупную купюру. Они на нее посмотрели как на чумную. Мужик вынес ей ведро картошки.
— Спасибо! — воскликнула она, убирая свою тысячу.
Вернула потом ведро. Позже стала рубить бревно во дворе — дров здесь можно было найти в изобилии. Фиаско: топорик оказался совершенно непригоден. Легкий; слишком маленький. Ее веса не хватало, чтобы как следует замахнуться. Она подступалась так и сяк. Мужики из соседнего дома молча наблюдали издалека. Ни один не подошел помочь.
Бросила это дело; топорик спрятала в рюкзак. Годится только чтоб шоферов пугать. Придется совать в печку длинные, дверцу не закрывая.
Было уже за половину дня, когда она, поев картошки, сваренной на печи, с этим хлебом, вышла на свет. Топор снова на поясе, из кармана высовывается целлофановый пакет на всякий случай. Разобранный рюкзак, одеяло и всё с ним оставила в комнате.
По середине деревни, внимательно глядя под ноги. Она вывела максиму, которую можно было написать на трафарете большими буквами. «Нельзя бросать курить, уехав куда-нибудь без табака. Надо иметь хотя бы пачку — шанс! Тогда: можешь курить, можешь не курить». Хоть бы один бычок валялся — вон сколько людей. Она видела издалека, на маленьком кладбище. Если бы не так много людей, она бы полазила по разрушенным домам, почитала письма, там есть, она знала, брошенные, открытки. Берестяные корзинки, керосиновые лампы зеленого бутылочного стекла, какие-то непонятные, но нужные в хозяйстве предметы или части предметов.
Деревня перешла в лес.
Часа через два она вынырнула из лесу, между пальцев у нее торчали грибы. И в пакете еще грибы. Навстречу ей двигались последние посетившие кладбище. Она пошла прямо на них.
— Здравствуйте! — сказала она, — вы не знаете: съедобные это грибы? Они какие-то синие… — протягивая ножками вперед.
Они остановились как вкопанные. Как будто она их спросила по-французски.
— Съедобные? — повторила она.
Мужики стояли, дивясь — то ли грибам, то ли ей. Один взял, повертел в пальцах. И сделал такое движение, как будто собирался бросить за спину. Но вернул.
— Ешь, можно. — На самом деле — невнятно пробормотал; это она так расшифровала. Еще что-то вроде «финские».
Сигарет спросить не рискнула.
Дальше наткнулась на этого парня молодого из соседнего дома. В рубашке хаки и штанах, с армии, что ли, вернулся. Без старшего оказался более общительным — улыбка до ушей.
— Девушка, — стоял он прямо посреди дороги. — А вы, наверное, в бога верите?
Такого вопроса она не ожидала.
— Я как все, — брякнула она.
— А-а-а… — протянул он, не удовлетворенный.
Вернувшись, пока не стемнело, она порезала и нанизала грибы на нитки и развесила низко над плитой. Картошки оставалось полведра, сварила грибной суп.
* * *
Утром в деревне не было никого.
Грибы на печке посохли — как будто их месяц сушили. Сморщенные, черные, а душистые — хоть так ешь. Ладно; она сама знала, что моховики, только не помнила: когда синеет на сломе, это — настоящие или ложные? Раз съела и не умерла, подарит кому-нибудь в Питере. Память о ле©те.
Ссыпала обратно в пакет, невесомая четверть грибов.
Потом она ловила кузнечиков. Она словила десять штук. Кузнечики стрекотали, выдирались из кулака. Она решила наловить рыбы.
Речка огибала деревню; текла под холмом. Она спустилась не там, где спуск, глина от дождей вся размокла, скользила, а забрала влево, прямо сквозь поле. Через травы, внизу через кустарник. Выбрала место, замучила одного кузнечика. У нее была леска с грузилом и поплавком.
Вода коричневая. Наверное, неглубоко, проверять не станешь. Но быстрая. Кузнечики прыгали в банке, неплотно прикрытой.
Потом она начала петь.
Песня Йоки, девушки с необычайно высоким голосом. У нее был голос низкий; но она старательно имитировала. Интонации.
Открывая окно… о-а-а…
Наблюда-ю…
Еженощные сдвиги
Луны
По фазе.
И меня штрафанут
В трамвае!
На-а маршрутах от весны —
До зимы. Но —
В дра-ном джинсовом небе,
Натертом
мастикой до дыр,
В лабиринте свастик ищем хлеба,
И зрелищ,
войну и мир!
В дра, а а а! ном джинсовом небе,
Стертом
на трассах
до дыр.
Ничего не происходило. Спев эту песню раз пятьдесят, часа через два, может — три, она вытащила леску. Девять кузнечиков выпустила в траву.
* * *
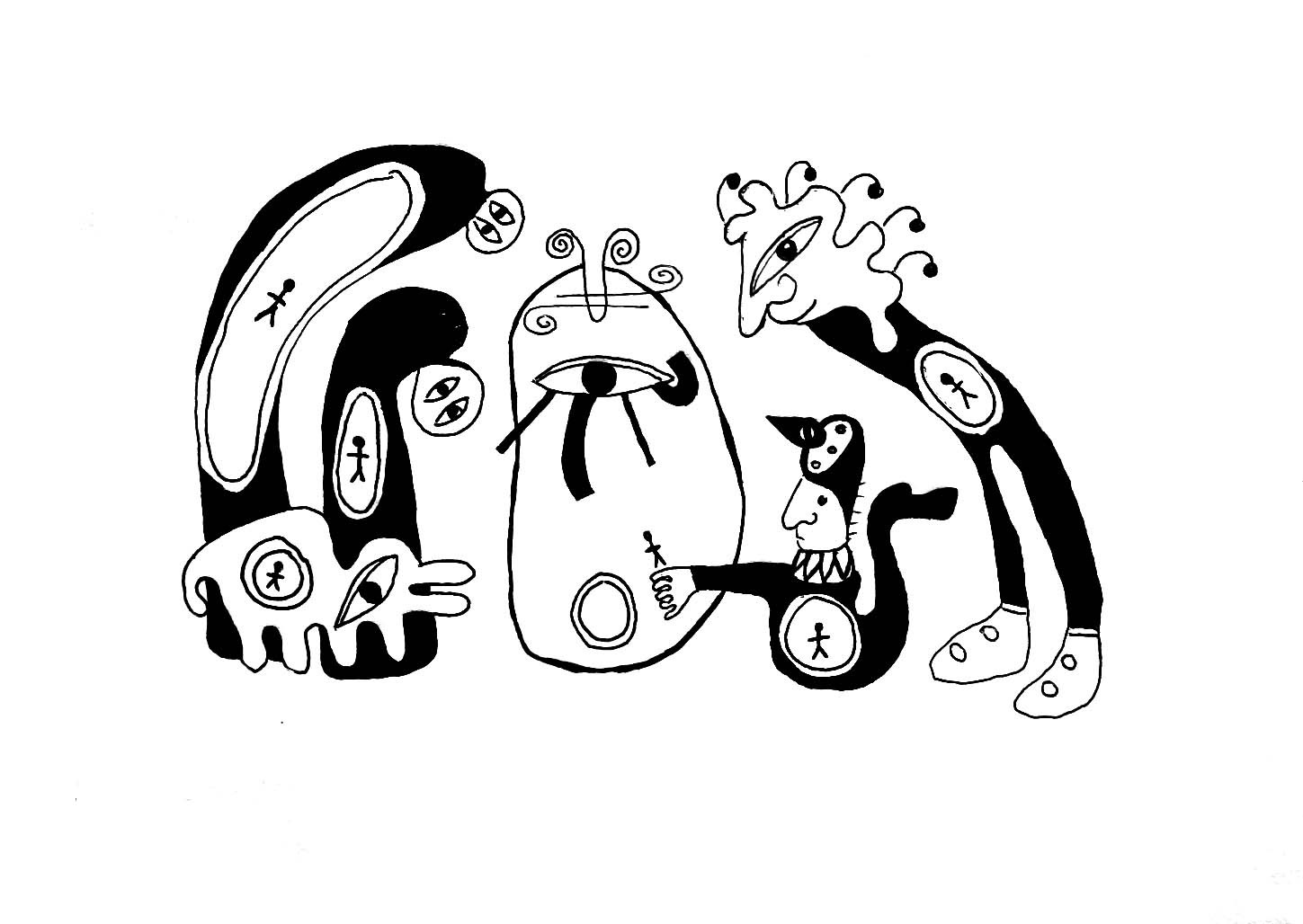
Назавтра она пошла все-таки через спуск; снарядилась основательно, с палкой. Тот, что старший, еще в первый день (сейчас их не было, деревня была такой, как ей и следовало быть — пустой), — вот он сказал, когда она с ним поговорила, когда возвращала ведро от купленной… ну, взятой — картошки: что там вроде бы есть какая-то тропа, по которой лесом — можно выйти из деревни. Не там, где она входила: где грязь, — другой дорогой. Но знает эту тропу «бомж». «Бомж?» «Бомж. Здесь живет десять лет; а работать ходит в Октябрьский». «Как же — бомж? когда десять лет?» Бомжа тоже не было. В деревне была она одна.
Нашла брод через речку — и впрямь, мелкую. По камням, тыкая палкой, потом одним концом перекинуто скользкое бревно.
И действительно, была тропа: только вела не направо, где, по ее представлению, оставалась трасса; а куда-то влево. Пробираясь по тропе, она обнаружила среди других кусты красной смородины. Здесь! куда не ступала нога человека. По ее представлениям, смородина — это была всецело садовая культура. Уж смородину-то ей не нужно никого спрашивать; ягоды мелкие, большая часть уже осыпалась, но, пошарив, можно набить полный рот.
Дождь слегка сеял, когда она еще выходила из дому. Но потом перестал. Сейчас он пошел во весь рост. Она все так же пробиралась по тропе, палку уронила, один раз подняла; второй раз не стала — только запинается. Если бы догадалась взять целлофан — но целлофан остался вместе с рюкзаком. Тропа не кончалась, не кончалась, и потом она вышла на открытое место.
Занавес дождя. За этим занавесом разрушенный деревянный дом. Другая пустая деревня! — только это была уже по-настоящему брошенная деревня. От дома остались стропила; бревна — а над бревнами навес козырьком. И под этим навесом сидели.
Двое мужиков. Они были — как совы; как какой-то орел — она видела один раз: сидел на ветке сосны, такой настоящий. Сидели на бревне серые мужики в капюшонах. Они курили.
Она пошла прямо к ним. Мужики смотрели на нее — наверное, они видели что-то такое, что и она. Здесь, где никого нет — вышла из лесу мокрая баба.
Шорох дождя. Безмолвие.
— У вас не будет сигарет? — нарушила она безмолвие.
Мужики смотрели на нее. Один высунул из кармана пачку.
— Спасибо. — Она вытащила сигарету мокрыми пальцами.
И пошла обратно.
Надо было взять две.
* * *
Один. Два. Три. Четыре.
Пять — дождь лупил весь следующий день. Бессмысленно искать окурки, если б и были — то давно размокли; ту, что взяла у мужиков, употребила сразу по возвращении, даже не просушив на топленной утром печи. Бахнуло в голову, во рту отвратительный вкус, так не поймешь, зачем люди курят.
Завернувшись в целлофан, шла по деревне.
Волосы у нее крутились от дождя, но сейчас — были слишком грязными, «к черепу прилипли». Заглянула к отсутствующим соседям: в дом не полезла конечно, пошарила по двору. Возделанное картофельное поле уходило к горизонту, зачем? — и той, что насыпали, не одолеть; бросить еду — такого за ней не водилось, придется везти в Питер. Богатый гость: со своей картошкой с грибами. Никогда б не подумала, что соскучится по макаронам.
Под водой сходила за водой. В доме было уже грязно; с дров налетело (приноровилась двигать длинные внутрь по мере горения; а теперь еще и груду мокрых пришлось содержать около печи). Нагрела и помыла голову, мылом, над кастрюлей. Стало еще грязней. От влажности воздуха волосы сохнуть не хотели; легла с мокрыми и стала ждать темноты. Комары пищали; не садились. Дождь им был не помеха.
* * *
На рассвете капельный перестук по крыше прекратился. Поскольку легла она рано, даже раньше, чем вообще приходилось здесь ложиться, потому что не станешь же сидеть при лучине, а керосиновые лампы, если бы она и поискала их и нашла в других домах, все равно лишены керосина — деревня была покинута не вчера, ничего такого, как попадается, скажем, на дачах (например: залежей макарон), — то и проснулась затемно; лежала, размышляя о не свойственном ей режиме, какой здесь у нее, кажется, установился.
Она не помнила, зачем, но когда она только собиралась, то решила прожить здесь неделю.
Как ни считай, получалось — шесть. Значит, с наступившим, еще два. Вроде бы, рыба хорошо ловится под дождем (она бы не поручилась, что не придумала это сама). Но загубить еще кузнечика — и если напрасно? — вроде бы кто-то сказал (а кто ей мог сказать, кроме старшего из соседнего дома, — которые уехали), что рыбы в реке вообще нет. Совсем дура?
Два дня представали каким-то бесконечным сроком — и один уже начался.
Снаружи было прохладно. Свитер; куртка, застегнутая до зубов; целлофан в этот раз не взяла. Обходя лужи, двигалась по дороге. Справа на пригорке кладбище.
Кладбище покинутым не выглядело — ну да, только что же посещали. Остановилась на самом краю. Дата смерти на камне; она разобрала — кажется, 1956-й. Медальон с различимым лицом.
Год рожденья потерт. На фотографии была старушка. Ничего умиротворяющего тут не было. Нелепость происходящего поразила ее со всей очевидностью. И что?
В разрывах облаков просияло солнце. Она стояла, как прикованная. Старушка не знала о ней ничего; ее вообще не было уже сорок лет. А до этого была — долго. Старалась, или может не старалась, жила как придется. И когда умерла, плакали родственники? — плакали. Но не так, как если бы умер ребенок. А какая разница?
Уходила с кладбища с острым ощущением поражения. Кладбище утопало в цветах — положенных на могилы; но гораздо больше — растущих вокруг полевых. Все длили этот бесконечный процесс жизни, этот бесконечный день, где каждая отдельная потеря несущественна. Старушку эту никогда она не забудет. Никогда? Никогда.
Стояли серые дома; одна смерть — смерть; много смертей — стихийное бедствие. С холодным сердцем отмела. На том краю — церковь; если обернуться — виден деревянный купол, «без единого гвоздя строили». Тоже нет. Надо было раньше, сразу, когда пришла.
Свернула с дороги, и пошла в поле, репьями вся обцеплялась. Ничего не собирала; желтые какие-то цветы — она вспомнила: «зверобой». Захотелось есть; хоть одно человеческое чувство. Из дому она выскочила не позавтракав, может теперь появится к картошке аппетит. Сходить по смородину — теперь, когда без дождя. Перебьется.
* * *
— Тук-тук, кто есть!
Она вскочила, покачнувшись от сна. Сон? — нет, не сон.
Окна окрашены вечерней зарей, а в дверь уже всунулось лицо — лицо? Нет, скорей рожа. Ничего так рожа, кирпичная щека, волосы белые, длинные, почти как у нее.
— А они говорят: финская шпионка приблудилась; говорю — где шпионка? Турысты это, тут были, пятого года. Фильм хотели снимать. Ноги в тормашки — и побёг…
Вошел по-хозяйски, разговаривая еще за порогом, сразу к столу. Широкоплечий. Лицо изборождено морщинами и загаром. Может, и пятьдесят, может, и тридцать — хотя как тридцать. Если они сказали — «десять лет». Хотя они скажут; а что это означает на самом деле — неизвестно; она уже ничего про них не понимала. «Туристка»… «Шпионка»?.. Она сразу всё вспомнила; сразу поняла: где она и кто он.
Пришелец тем часом бухнул мешок на стол. Выгрузил — хлеб? Белый! Круглый каравай; масло — сливочное!
Понатужившись, он извлек и выставил на доски трехлитровую банку, про которую она решила, что это сок: она такой помнила в советских магазинах.
— Бражка, — опроверг человек, смеясь голубыми глазами на кирпичном лице: — женьшшины любят. В Октябрьске варят — слил чипишок.
— Нет! это… Спасибо! Я не буду. — Она спохватилась: — У меня картошка! — метнувшись к печи. Когда только вернулась — поставила; не варила; хорошо — увидела бардак очищенным кладбищем взглядом, махнула веником — вдруг зайдут — «девочки живут». Кто зайдет? — нет никого.
Есть!
— Не хочешь — заставим… Шутка. Я — буду. — Выложил круг колбасы, завершая немыслимые чудеса.
— Ну: поручкаемся, — осушил стакан неспешными глотками.
Раз! — разгорелось сразу; печка натопленная, мощная тяга. Чай поставить — чаю нет — чёрт! надо было рвать зверобой.
Она поднялась наконец с корточек; рассовала по карманам — как у всякого курильщика, у нее были: и спички, и зажигалка.
— А можно… — робкими шажками подошла к столу.
— Жми, жми. Оголодала тут, худоба.
Она прервалась, чтобы возразить: — Я не голодная. Просто я такого хлеба, белого, не видела… кажется, что месяц! — удивилась. — Я же еще ехала…
— Тебя как-то звать? — он наклонял банку над опустевшим стаканом. — Лена? Меня — Георгий. Будем здоровы.
Она удерживалась, чтобы не начать пихать сразу в рот, отрезала ножом — маленькие куски, мазала маслом — культурно. Он это увидел — отломил полкольца, двинул ей. — Жми, не чинись. Ну, дела… Ты как же тут, забрелась в глухомань — потерялась, ли что?
— Нашлась. Мне рассказали, по карте нарисовали… — она покривила языком: — Туристы. — Слово было оскорбительным: дураки с фотоаппаратами, она к себе его не применяла. Кто она? Человек. — …Другие. Не те, что вы видели. Не фильм. Они хотели ехать, я попросилась…, но не собрались. А я — собралась.
— Порадел — сделал, — поддержал он, наполняя стакан в третий раз.
— Вы на местных не похожи, — осмелела она. — С вами хоть можно разговаривать. А то такое чувство — я спрашиваю, а меня не понимают…
Георгий закусил колбасой.
— В милицию хотели сдать, — спокойно заключил. — Вот так бы съездила. Доказывай, что не верблюд. Пока то да сё — и отпуск твой кончился. Или кого там у тебя — вакации…
— В милицию? — она расхохоталась. Георгий потянулся и огладил ей плечо. Широкая ладонь остановилась на лопатке. Она замерла. Слегка потрепал и уронил руку.
— Крыльца проверил. Крылья: ли спрятала? Эх… и я таким был.
В доме сгущался сумрак. От насыщения вкусными вещами ее тянуло в сон, мысли путались. С тревогой она взглянула на банку. Жидкость опустилась почти на треть. Но, кажется, на Георгия совсем не действовало. Белые волосы вокруг темного лица — даже красиво.
— Пойдем ко мне, свечей тебе дам… Яшшик взял, в Октябрьске…
— Вы здесь живете, — пролепетала она, — один… Мне говорили.
— Зимую, — поправил он. — Балок мой — видела? — на всходе, на угоре. Ну дом, дом. Такой как этот… помене. Твой — не протопишь. А люди, есть люди… Ездят. Прошлый год, на Семёна, охотники были. Осенью снова жду, обещались… Чё смеесси?
— Я не смеюсь. — Она улыбалась. — Я думала: не доживу здесь до конца… А сейчас — радуюсь. Глупости говорю, знаю. Просто… вы так рассказываете, интересно. То прям как они — а потом кажется, что городской.
— Я и тут, я и там.
Георгий налил (пятый?). — И по-фински могу, — прохрипел, выглотав залпом. Отхаркался: — Пóйми кук-ка! Каунис кукка. Знаешь, что такое? Красивый цветок.
Он встал. Теперь его заметно качнуло. Прошелся кругом, выглянул в окно. Посмотрел; повернулся спиной:
— Ну, пошли?
— Куда?
— Ко мне, — терпеливо.
— Я к вам завтра приду. Сейчас я уже спать буду.
— Ну, завтра, — согласился. — Силой не потащу. Я только вот это… — Георгий вернулся к столу.
(Выпил.) Уходить он вроде бы не собирался. — Или любишь… Сумерничать. Спрашивай — расскажу.
— Вы говорили — охотники! — вспомнила она. — Я бы хотела на охоту.
— Тебя не возьмут. Хотя с ними была. Женшшина… — произнес он задумчиво. — В лес не ходила, не. Готовила им тут.
Ей предстало, прямо картинкой: как бы она — эта женщина среди охотников. Готовила бы им, картошку… Это хорошо, конечно. Но на самое важное не попасть. Не выкрутиться из предположенного ей. Плохо быть женщиной. — Вслух сказала, что ли?
— Темный народ, лопари… — она уже не обращала внимания, Георгий вливал в себя обыденно, кажется задавшись целью прикончить эту банку. — Лопате молятся, бороной расчесываются…
— Тут есть церковь, — вспомнила. — Я не была. Завтра, может…
— Там нет ничего, — отмахнулся он. — Ну, Лена, ладно. Спи. Это заберу… — Георгий придавил банку крышкой, попав не с первого раза.
Она попыталась заставить его прихватить остатки еды, но он только сказал: «позавтракаешь»… Крупно шагая, шатаясь, устремился мимо выхода, пришлось поддержать его за локоть. Выпроводила наконец, зачинила дверь.
Посмотрела в окно. Георгий бормотал что-то сам себе, крупная фигура истаяла в темноте.
Она подошла к печке. Там лежало древко от лопаты, без лопаты. Она ее использовала вместо кочерги. Она ее взяла и вернулась к двери. Всунула в дверную ручку (дверь наружу открывалась).
Потом она легла, укрылась одеялом. Про комаров даже забыла. Не было комаров. Куда-то делись вообще все. Подтянула одеяло между ног.
Стала двигаться — но остановилась. Не надо. Не потому что — а просто не надо. Вспомнила лицо старушки с кладбища.
И тут ее перевернуло жалостью.
В мыслях у себя она корчилась, кусая кожу на руке. Но на самом деле тихо лежала. Георгий был прекрасен. Как музыка, такая большая, что ей не вместить. Деловито сосчитала: как она, он был совсем в другое время. Время скорее ее родителей. Но родители всегда во времени рядом, видишь, но не веришь. И вот вам доказательство. Как экскаватор с грудой породы в ковше.
То, что читаешь в учебниках, в литературе. А он оттуда, где она еще не родилась. Не воображаемый герой, про себя в том лесочке невозможно и вспоминать. Дура, дура. Эта груда высыпалась рядом, ее не задев. «Я битый, меченый…» — наяву произнес голос Георгия. Или не говорил? Такое бубнил, уходя. А эти… люди… они — могут? Как-то сосуществуют; с краю все равно высовывается. Может быть, его били. А иначе почему он не живет там, в Октябрьском. Может быть, ему нравится. Когда нравится, так не пьют. Так бухают, когда хотят не чувствовать пытки одиночества. Пьяный в зюзю — а сдержанный.
Все это время она не шевелилась. Но теперь больше не могла удержаться. Между ног приятно свербело. Придавила рукой одеяло, стала двигаться.
Дернули сильно дверь!
Она вскочила, босиком подбежала к двери. Ухватилась за древко.
Древко прыгало вместе с дверью. Она держала его с обоих концов.
— Открывай! Лена…
— Уходите, — громко сказала она. Сердце билось как сумасшедшее. — Идите спать, Георгий! Уходите! Я сплю.
— А-а-а… девка… — Дверь остановилась. Потом опять задергалась.
Георгий с той стороны опустил руки. — А-а-а-а… девка, ты там не одна! Знаю, кто у тебя. Спрятался… от своих… Пришел по темноте.
Георгий давно ушел, она опять выглядывала у окна, удаляющуюся фигуру, не отпуская дверь. Держала свой хлипкий засов. Пока не успокоилось бухающее внутри. И тогда еще не отходила. Наконец заставила себя оторвать руки от древка.
* * *

Проснулась она до света. Быстро встала. На столе валялись остатки от вчерашнего. Она отломила кусок белого хлеба, отрезала колбасы. Сунула в пакет. Остальное сложила в кастрюлю и прикрыла крышкой; смела крошки в горсть.
Пол подметала она уже вчера. Оглядела комнату. Затем свернула одеяло, целлофан, и упаковала. В самый низ — оставшийся картофель, рюкзак сразу стал тяжелым. Чуть не забыла грибы, потом, еду: на самый верх.
Она уходила с деревни, той же дорогой, что пришла, не прожив последний день из семи, ею себе положенных, зло и весело думая, что уносит ноги.
Небо, обещавшее быть лучезарным на восходе, затянулось серым. Уносить ноги было хорошо. Впрочем, недалеко. Сперва её постигло дикое везение. На дороге, песчанке, что вела по прямой на Андомский Погост, почти сразу за поворотом подобрал ее маленький автобус, «ПАЗик». Такие только тут оставались. Автобус был полон людей. Вез их, наверное, на работу. Она рассматривала лица, удивляясь их выразительной красоте. В городе она будет смеяться, попав в метро и поднимаясь на эскалаторе и глядя на лица спускающихся — такими они покажутся, как кукольные голыши: стертые друг о друга до неразличимости.
Но до города еще надо было дожить. После Андомского Погоста, на той же волне, ее подкинули за Вытегру, с десяток километров. Высадили у магазина.
И тут наконец она истратила свою тысячу — купив в этой придорожной лавке, такой как все деревенские магазины, пачку папирос «Беломор». Не «Урицкого» и не «Клары Цеткин», какое-то невнятное производство: «Моршанск», — сойдет!
Эту пачку она выкурит почти всю, до горечи во рту и саднящего горла, когда везение кончится. Пустая асфальтовая полоса. Она шла; останавливалась, садилась на рюкзак. Съела колбасу с хлебом. Смысла в том, чтобы идти, как и в том, чтоб стоять, примерно поровну (ноль). Шестьсот километров ей не одолеть. Здесь, в глуши, «трасса», разумея количественный прирост вероятности сесть в попутную, была не хуже и не лучше, чем вблизи крупных городов. Машин меньше в разы, но те немногие остановятся почти наверняка.
Но если за пять часов ни одной?
Она устала. Стала разговаривать вслух.
— Я — это последнее, что у меня осталось, — она знала что говорит. Ни амбиций, ни цели, ни справедливости — одно затерянное в пространстве я. — Не отнимайте это последнее… — в таком духе.
Один только лес. Устраиваться ночевать — это уже точно остановиться. Устраиваться ночевать, когда уносишь ноги, это совсем не то, когда только едешь туда, где каждые проносящиеся во тьме фары — обещание неведомого. Она все же шла. Остановилась, чтобы вытащить целлофан, когда дождь, начинавшийся и прекращавший, сгустел в ливень. Теперь и думать не нужно, колебаться ни о чем, под дождем костер не развести. Закуталась с головой. Дождь был прямо тут.
По целлофану над ушами шуршало, стучало и текло. Услышала, когда уже было поздно руку подымать, успела обернуться — машина на скоростях сквозанула мимо.
Обреченно остановилась, глядя, как уносится вдаль. И — нет веры глазам.
Машина начала тормозить.
— В Питер! — она подбежала; рюкзак подпрыгивал на спине — дверца с ее стороны приоткрыта.
— Я только до поезда, — перегнувшись через сиденье, он разглядывал ее, мокрую, с сочувствием. — Опаздываю — через час, согласно купленным билетам…
— Довезите меня, — выдохнула она. — До поезда!
* * *
Короче, дело к ночи. Поезд, такое явление, где «уносить ноги» становится пустым звуком. Тебя уносят, будь ты без ног. Она… Лена, раз представилась, — не могла постигнуть своего счастья (еще как могла, сразу, очутившись в машине, но придерживала: тут-то что-нибудь и приключится. В нее больше не лезло, приключений). В поезде она устроилась — сбросила рюкзак на полку; хотелось только спать, но нельзя же вот сразу.
Новый ее товарищ не подкачал, добавил на билет до Питера: тысячи ее, даже и не покупай тот «Беломор», не хватило бы. В общем-то, просто бы взяла докуда довезут, даже четыре бездумных часа были бы отдыхом — царским. Но хорошо, что так.
Пошла искать по вагонам.
Шла-шла, один вагон, два вагона, три вагона, в тамбуре остановилась. Не закурить ли? Тут он и вышел. Оказывается, он был в следующем. А то еще бы и не нашла — когда садились, впопыхах, еще как успела высунуть документ, тютля в тютлю подгадали. Забыли обменяться номерами (мест).
Задымили. До того было ни до чего; и он кисет не вынимал — берёг: тачка не его, друга. Одолжил до поезда, сам потом отогонит. А он ездил к нему, на охоту. Они были охотники. Вот это да!
— А расскажите мне, про охоту! Я бы тоже хотела… — из нее посыпалось невыговоренное. Много ли наговоришь за час в машине, выжимающей из себя и из них последние мощности, чтобы успеть к мифическому поезду в мифический Ленинград.
* * *
— А вот еще был случай… — Она уписывала колбасу (опять; другую); есть хотелось (а не только спать). Он щедро поделился. Отсыпал ей с горкой, еще с собой — а куда? Туда. Ну всё.
Никогда? никогда.
В Питере она пришла к другу — от которого выходила; друг, кажется, только встал; только проснулся, с той ночи, когда засыпал, не пойдя ее провожать, встав на пороге. А она уже — вот. Съездила. Поели картошки с грибами.
* * *
Никогда не забудет. Даже если забудет — на три месяца; на тридцать лет. Теперь уже поздно туда ехать. Хотя она же съездила — подальше, в Донецк. Где война (полдня пробыла, и давай бог обратно. Не чаяла выбраться. А они ничего, местные; даже не смотрят, когда грохочет).
