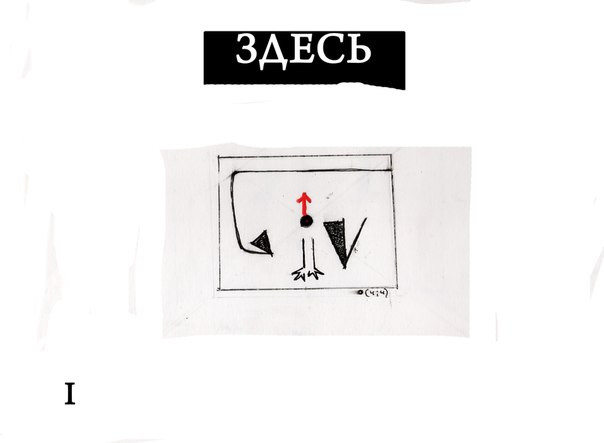Руслан Комадей, Кирилл Азёрный, Артём Быков. Праздник руки. Из материалов 1-го номера журнала "Здесь"
Данный текст представляет собой подходы к объяснению позиции, присущей редакции журнала «Здесь». Авторы текста: Артём Быков (поэт, г. Екатеринбург); Руслан Комадей (поэт, редактор журнала «Здесь», город Екатеринбург); Кирилл Азёрный (прозаик, редактор журнала «Здесь», г. Екатеринбург).
Читатель, опережающий скорость существования текста, опасен, потому не видит дальше кромки своего мышления. Разве читатель хочет становиться чтением? Он двигается вперёд, но забывает, куда его ведут. Поэтому давайте подарим читателю беспомощность существования, он заглядывает в текст — а там никого. Пусть и растёт вглубь самого себя, ну, как дерево. Нет, не с бумажной листвой, а с кожей — и рожей (розой), от которой никуда не деться, пока есть на свете зеркала, которые всюду, как карманы карманников, но всегда читатель остается при средствах к существованию, при желтых листьях сытой зрелости, при жидком ожидании, способном удовлетвориться чем угодно — даже тупой выдрой, выглянувшей из воды. Вне всякой воли к тому, чтобы освободить читателя от его тяжести, мы и сейчас усугубляем его тесную компетентность, равную приватности его седативного чтения. Ну и чем же ему мы дадим прикрыться, чтобы не дай Бг, читателю не пришло в голову к своему бесстыдству отрицать неочевидное? Надо ли говорить, что начально он должен быть беспристрастен, и тем самым введён в этот текст наглым бессознательным образом. И так, самим собой действуя, как образом, предвещая текстовое полотно, он выйдет наг и бос (нос и баг) человеческими печатями и штампами, без краеугольного камня предубеждения. Так ему и идти, наслаивая образы на собственную плоть воображения, что всячески, без поддавков, есть лучшее качество потустороннего наблюдателя. Чем, скажем, тот же восторг манипулятора.
Равнодушен ли текст к восторгу читателя? Или равнодушие похоже на единственное состояние, дающее возможность наслаждаться своей беззащитностью? Вот, идёшь ты по тексту, равнодушный и нежный, соскальзывают оптические слёзы, расходятся круги взгляда. Пусть равнодушие напоминает доверие, ну, пожалуйста. Тогда и молчание не будет непогрешимым, но полнокровным присутствием здесь и сейчас (икс и игрек того и сего), и отсюда становится видно, как переменные возможностей уходят за горизонт небытия, от нас, навсегда. Таким образом, мы вынуждены оказываемся признать, что вместимость алфавита не делает все сказанное необходимым, и что нужны другие средства оправдания речи там, где она вплотную смыкается с шумом, который только один и отличен от молчания.
Ведь отчего мы всюду подозреваем в молчании умолчание, и всегда отказываемся поверить в то, что сказаться нечему, как будто все причины уведены от нас на невидимый берег, где творится беспечное празднество следствий, на которое приглашены лишь наши тени? Не потому ли умолчание сильнее речи, ибо оставляет шум, в котором мысль невозможна как единица порядка, как белая полоса на белом полотне. И, следовательно, памятуя назойливого философа, невозможно и само существование. Вместе с тем, речь, удаляя шум, лишает сознание фона-фундамента, вызывая читателя на противостояние с собой. Никто не сойдёт с ума, но каждый спрыгнет раньше, чем схватиться за голову в ужасе от стерильного бытия, белым цветом которое и есть небытие. И так, ополоумевший, но точно говорящий, возводящий речь на табурет читатель, выводит свою собственную систему координат, измерений, весов, мер, и нет, не в надежде, а в богоборческой воле, стремглав выкупая и создавая юниверсум себя, оставаясь в проклятии греха, но множа и множа своё движение, свою пытку возведения мира. (((А если бы сдаться, остановиться то увидать, что себя вращающимся перпетуум мобиле.))) а если бы остановиться то, увидать, что сам себе врезающийся перпетуум мобиле.
Предположим, что возвращение к бесконечности противоположно необходимости. Чтения ли, узнавания ли. То и другое — повсеместно, сомнительно и самодостаточно. Вот и стоишь читателем на горе посреди моря и никакого тебе синкретизма. Слышно лишь, как входящий в текст уберегает себя без окон, без дверей, и горница оказывается полна одичалыми собаками смыслов со стершимися ошейниками имен: каждое слово — такая собака, и каждая узнаваема хозяином. Призрак собственности в процессе именования постоянен, плоть собственника — временна: таковы условия бессмертий, составленные еще до рождения слова — до его смерти в неволе и референциальной вымученности, в отрыве от свобод перемещений, в которых смерть — легче сна, и короче. Вне времени она ещё и не состоятельна. Невозможно встать из ничего и нигде и забыть беспамятное слово. Открывая речь вместо рта, закрывая зрачки вместо изображения, двигаешься как теплоход сквозь дубовые брёвна пробуждения. И вот, разведя на мосты языка оглушённое слово, тебе уже не состоятельно забывание.
Забывание после прочтения — не забвение, а переход к следующему самому себе. Обретая себя, оставляешь себя в покое. Когда, где, кто, повторение авторов — авторитарно. Сопредельность безымянностей — не метод, а ткань. И тканью становится все, что ею не было — и это предельное обосновании материальности, не допускающее утилитарной значимости слова как дела, или полудела, или его, дела, замены. Выдергивая значения на энный раз из повторяющихся поворотов, невозможно скрыть стыда за свою слепоту, и восторга от прозрения: теперь заново.
Раз за разом мы вынуждены наблюдать данное нам в отражениях и отнятое в проявленности — то есть именно там, где мы ощущаем себя, и приучены ощущать чьей-то анонимной волей. За волевыми пределами времени нет, а слово сбывается внимательным зеркалом. И тем самым перспектива очутиться вне мысли разворачивается во все стороны, а слово позволяет себя единственным отражающим методом. Из приученной шкуры мы выпрыгиваем поражённые (без пяти минут, как присвоенной) собственной волей. И тогда понимаем быстрее, чем должны внимать, ведь зеркало никогда не обяжет повторяться.
Принести зеркало в жертву/в угоду зрению — невелика забота. Также как и доморощенное слово, уснувшее на своём месте, не хочет становиться частью звука, речи, рекламы, концепции, контрацепции, в конце концов! Журнал нам поможет, как говорили древние — и слова обеднённые редакторской бессмыслицей будут просить милостыню у читателя. И читатель, юный подаван, отпрыгивая от милости своей в кошмаре словесной брезгливости, увидит себя сам в отражении, начисто и постепенно лишающимся опоры факта, фактуры, орнамента и колористики. Очутившись, но не очухавшись, как первопрестольный чухонец, только лишь из прагматичных побуждений существования в буйном вавилоне на своей земле, зафиксирует он новый для него пласт понятий, закутанный в шубы фонетики. И наново начнёт выговаривать предвиденное знание, и наново придумает вымысел, заставив смысл окружиться. Таким образом, в параллельную плоскости речи он поставит мост на канатных верёвках вер — многобожие языка, неисчислимость его подобий там, где перестает работать право собственности. В предельно личном акте потери любых собственнических потребностей мы видим судьбу читателя, наделенного способностью слышать звон, не спрашивая, откуда — имея достаточно оснований (а вернее — достаточно безосновательности) полагать, что не последует в ответе имени, что ему не доставят удовольствия быть именованным даже перед лицом исчезновения (ибо имя — смерть), что он обречен на бессмертие и неведение, как на бессмертие и неведение бывает обречен голос, вечно ищущий источника (и оставляющий, подобие за подобием, подобия, не сознающие родства, а сознающие одну только случайность событий).
Имена — это прятки. Поэтому люди выдумали обзывательства, чтобы перекладывать ответственность на других. Так что, возможно, любой текст — это тоже обзывательство, оскорбление для восприятия. И чем меньше маркеров (символов присутствия в тексте кого бы то ни было: курсив, абзац, подпись, опечатка), тем быстрее дойдёт чистое обзывательство — оскорбление до ещё незапятнанной бумаги. И обида будет кристально чистой. Потому как что более затуманивает обиду, чем неопределенность референта, склонность, например, сатиры — к обобщению, пародии — к искажению, пану (неутомимому английскому комику без корней) — к дружелюбной хохме, все это вместе — процессия мимов (от слова «мимо»), ничто не тыкнет в тебя пальцем, когда ты ковыряешь в носу. Фамильярность писателя обречена попадать пальцем в небо, ибо читатель — птица без краев, глаз без свойств, имя без звука. Я потому тебе и пишу, что тебя нет.
Впрочем, вся эта астрономическая безответность не должна соблазнять читателя романтической дальностью его (ее) конкретного образа, ибо знание о себе неполно, но неполнота эта железна, как кровь, и пять этих пальцев ты знаешь лучше, чем свое имя, данное для других (а другие, в свою живую очередь, не есть данность, но в пределах своих — отъятие власти, когда пытаешься раздавать награды имен). Внутри неполноты существует без места и времени маневр маньериста, уже готовится резкий ответ всему, что пытается дополнить комментариями овеществления, мир без всякой торжественности возможностей. Их явления — уже достаточное торжество.
Мы продолжаем наблюдать эту неявную силу противления, снимающую пошлины значения со всего, способного к самостоятельной жизни — с тайн свидетельств, подкрепленных одной только внутренней необходимостью. Законы такой жизни представлены ниже.
Сам себя написал — прочитал, сочинил — не исправил, но опубликовал, задумал — состоялся (изобрёл состояние). Иная препона, нет, нить, нет, тропа — механика остановок. В этом, возможно, нет искомого. Поэтому ископаемые тексты вымерли, а другие — стареют с удовольствием. Изобретение блаженного ускользания, места отсутствия — здесь, сям, где-нибудь.
Мимолётность существования автора на бумажной земле. Соберутся авторы на правах рекламы где-нибудь на форзацах и