Эгоистичный мем идеологии: капитализм как киноперсонаж
В издательстве «Канон-плюс» вышла новая книга философа (д.ф.н.), председателя Международного фестиваля авторского кино «КиноЛикбез» Вячеслава Корнева, которая посвящена теме всепроникающей роли идеологии. Автор на конкретных примерах современного масскульта и анализе механизмов воспроизводства позднего капитализма выявляет современную логику правящей идеологической конструкции. Вопреки устоявшемуся мнению о том, что крушение соцлагеря ознаменовало «мир без идеологий» в книге доходчиво раскрывается логика комфортного существования капиталистической идеологии в современном мире именно за счёт навязывания дискурса о её, якобы, отсутствии. Растворяясь в миллиардах мемов, рекламных роликов, постов, статей, роликов и т.д. идеологическая «матрица» овладевает субъектом, воспроизводясь «синхронно генезису этой самой “субъективности» или «индивидуальности»». Автор констатирует, что отдельный человек и общество в целом не могут существовать без идеологии в принципе. «Каждый из нас живёт с идеологией как с любимой или нелюбимой семейной «половинкой”. Но лучше, разумеется, — с любимой и по собственному желанию».
Мы публикуем фрагмент из книги «Эгоистичный ген идеологии» — главу «Капитализм как киноперсонаж», посвящённая тому, как проявляется господствующий идеологический дискурс в знаковых картинах современного кинематографа.

Монополизируя средства информационного производства, капитализм создает тотальное зрелище, поглощающее наше внимание целиком. Но каков бы ни был предмет изображения, в любом кадре заметна идеологическая режиссура. Отношения общества цифрового потребления и «похищенного у ученых коммерческим шоубизнесом»[1] кинематографа очень близки. Как «черный ящик», бортовой самописец капитализма, кино фиксирует не только события, но и самоощущения каждого десятилетия ХХ и ХХI веков.
В начале пути кинематографа и общества потребления, капиталистические отношения нередко становились темой и проблемой. В легендарном «Метрополисе» (Metropolis, 1927) Фрица Ланга мы видим историю богатых праздных господ и порабощенных дегуманизированных пролетариев. Положение низов буквализировано их подземными фабриками и жилищами. Первые кадры картины: сияющие зиккураты власти, поршни и колеса бездушной машины, умноженные в эффекте калейдоскопа, двигающиеся в гипнотическом, растворяющем волю ритме. Контрапункт со стенными часами объясняет, какую именно материю перерабатывают агрегаты: в расход, в пар идет человеческая жизнь, человеко-час.
Следующая сцена, с титром «новая смена», показывает зрителю конвейерный обмен выжатого социального материала на перезаряженные человеческие батарейки. На мой вкус, это одна из лучших метафор капитализма в кино: низко опустившие головы, обезличенные зомби-пролетарии шагают навстречу, как осужденные на смерть арестанты.

На дворе 1927-й год, позади разрушительная Первая мировая война и серия революций, впереди Великая депрессия, фашизм, Вторая мировая… Ланг снимает крупнобюджетный коммерческий фильм (разоривший студию-производителя), но при этом критически высказывается о политике, экономике, классовой борьбе и «духе времени». Режиссер «Метрополиса» улавливает логику нового господского дискурса «От Калигари до Гитлера»[2] или «От Канта к Круппу»[3] и связывает ее с экономической рациональностью капитализма.
В другом фильме на все времена — в «Новых временах» (Modern Times, 1936, США) — тему продолжает Чаплин. Снова в первом кадре картины циферблат часов отмеривает время потерянной жизни. Следующий кадр рифмует предназначенных на убой овец с массой наемных работников, направляющихся на «родную» фабрику. Дальше — офис балующегося утренней газетой и собиранием пазлов директора в контрапункте с железной анатомией конвейера, буквально втягивающего в себя людей. А будет еще и нищета пригородных кварталов, и рабочая демонстрация, и знаменитая «кормящая машина» — жуткое и вместе с тем смешное воплощение капиталистического прагматизма…
От Ланга и Чаплина до современных антикапиталистических фильмов Кена Лоуча и Аки Каурисмяки хорошо заметна критическая традиция осмысления не причин конкретной человеческой трагедии, но миссии «капитализма катастроф». Даже в коммерческом голливудском кино регулярно появляются картины, где настоящий герой — это, например, банковский капитал, виновник всемирного экономического кризиса 2008 года. И действительно, как сказал Брехт, что такое ограбление банка, по сравнению с основанием банка?
В продюсерском кино капитализм редко становится объектом исследования. Основание фирмы или банка — дело хорошее, даже если средства не очень чисты. Зато, в духе вольнодумного «голливудского марксизма», экспроприация экспроприаторов приветствуется. Чеканная формула Прудона «собственность есть кража» могла бы стать эпиграфом к вечным сюжетам о большом и красивом ограблении в компании лучших друзей.
Конечно, есть закономерность в выборе «плохих парней» или «нехороших корпораций» на роль возмутителей спокойствия. Порицаемый капиталист — это, как правило, нарушитель правил экономической игры (монополист, коррупционер, лоббист). Вот только критические мишени не выглядят актуальными. Например, когда на экране с помощью револьверов и автоматов устраивали свои дела грязные бандиты, настоящие проблемы решались уже в бухгалтериях и чистеньких офисах. Когда антигероем в кино выступал отдельный нечестный бизнесмен, подлинными хозяевами жизни были уже советы директоров. Когда (с 60-х годов) появились сюжеты и о «плохих фирмах», мир делили транснациональные корпорации… Словом, предмет общественного осуждения — это всегда ретро-мишень, восковая фигура музея американской истории. Пар социального недовольства выходит, температура экономического и

Тем не менее, в плохом или хорошем кино капитализм присутствует в качестве информационного фона. По аналогии с реликтовым излучением в астрофизике, чувствительная кинопленка регистрирует остаточное излучение системы социальных отношений. Вольные реконструкции античной истории в «пеплумах» или воображаемые миры в кинофантастике могут переодевать героев или менять антураж, но мотивация персонажей и производственные отношения — из нашего времени.
В регистре Воображаемого капитал опознается через систему интегральных образов, с высоким коэффициентом узнаваемости и предсказуемости. При желании можно было бы составить длинную классификацию объектов, одновременно влюбляющих в себя и вызывающих чувство угрозы. Небоскребы, мосты, автомобили, хайвеи, дорожные развязки, лифты, буржуазные интерьеры, оружие — это не просто киногеничные вещи, это знаки идеологической грамматики. Например, автомобиль (и всё для него предназначенное: заводы, парковки, заправки, автомобильные кинотеатры, закусочные на колесах и т.п.) — это, по Бодрийяру, верховное означающее системы вещей. Водительские права и автомобильные ключи являются «дворянской грамотой для новейшей моторизованной знати, на гербе которой начертаны компрессия газов и предельная скорость».[4]
Лифты — это еще и социальные лифты, небоскребы — пирамиды для правящей элиты, супермаркеты — витрины капитализма, офисы — загоны для когнитариата, фабрики — резервации тяжелого труда… Дело не только в том, с какой функцией появляются названные объекты. Важно, что они раскодируют систему значений, в которой человек — то, что он носит, что ест и пьет, на чем и куда ездит. Субъект капитализма — человек, мечтающий стать вещью (образцовые герои интернета — «живая Барби» и «живой Кен»). Объект капитализма — вещь, подменяющая человека (например, робот, добивающийся человеческих прав в кинофантастике).
Вещи нередко становятся героями истории: как винтажная автомашина в «Кристине»(Christine, 1983, США) Джона Карпентера. В бесконечных сиквелах и приквелах «Бондианы» персонажами являются скорее хитроумные гаджеты (от стреляющей ручки до космического корабля), нежели туповатые и линейные главные герои. Сменный Бонд и совсем уж одноразовая «девушка Бонда» не так важны для истории, как рекламные контракты на автомобиль суперагента. Само же действие происходит там, где больше платят, и с теми персонажами, что имеют больший коммерческий потенциал. В «Кинополитике» Алексея Юсева приводится пример с одной из последних серий франшизы:
…выяснилось, что власти Мексики предлагали студии от $14 млн до $20 млн за внесение существенных изменений в сценарий картины про Джейса Бонда «007: СПЕКТР». В обмен на финансовую дотацию создатели фильма должны были заменить схватку в реслинге на празднования Дня мертвых, пригласить мексиканскую актрису и т. п. В итоге все условия были выполнены…[5]
В целом в модусе Воображаемого реликтовое излучение капитала проявляется как его навязчивое самолюбование, завороженность производственной мощью и товарным изобилием. Кадры разбивающихся в дорожной погоне дорогих машин или уничтожаемых инопланетянами городов и районов — это нескромный голливудский потлач, показное уничтожение капиталистических избытков. Смотрите, завидуйте, у нас еще много добра!
На уровне Символического капитализм кодируется как система социальных отношений, моделей поведения и знаков различия. Идеология экономической конкуренции, логика товарно-денежного обмена проявляется, как мы помним, и в первобытном строе, и в устройстве «внеземной цивилизации». Трудно отделаться от подозрения, что у римского патриция под тогой или у космического дальнобойщика в бардачке не припрятана шпаргалка из Томаса Дж. Леонарда или Уве Бенинга.[6]
Все мотивации и ценности героев прошлого или будущего подозрительно современны и меркантильны. В нескончаемых «Пиратах Карибского моря» (первый фильм франшизы: Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, 2003, США) все персонажи походят на контрагентов в поисках выгодной сделки. Отношения дружбы, любви или ненависти носят вторичный характер и подчиняются только руководящей логике конкуренции. Мораль большинства приключенческих сюжетов определяется не выбором между жизнью приятеля и «сокровищами», а выяснением денежного эквивалента цены вопроса. Диалектика цены выбора и стоимости жизни такова, что при достижении предельного значения (сумма «для полного счастья») первого показателя второй сбрасывается со счетов.
Вспомним, как много остросюжетных фильмов с избитой историей: старые друзья вместе идут на дело (большое ограбление, афера, поиски клада), но полученный куш быстро делает их врагами. Результат общих усилий кто-то присваивает, герои подставляют, преследуют и убивают друг друга — словом, отношения товарищества и муки совести отменяются одним обстоятельством: такое богатство нужно иметь одному.
Язык коммерческого кинематографа целиком захвачен дискурсом капитала, медиумом товарно-денежных отношений и логикой меновых операций. Использовать другого как средство, не видеть ценности в том, что не имеет денежной цены, — это категорический императив, диктующий поведение героев. Поэтому все герои — капиталисты. Только некоторые владеют богатством, другие уже разорились, а третьи только мечтают об успехе. Эта психология завидующего, догоняющего капитализма, как показали 90-е годы, наиболее разрушительна. Как пишет Андрей Приепа:
…суть потребительского общества не в том, могу ли я купить рекламируемый товар, а хочу ли я этого. Потому что сегодня потребление расположено не в кошельке, а в голове. Я начинаю потреблять не тогда, когда зарабатываю «свой первый миллион», а когда обнаруживаю у себя желание стать обладателем некоего товара или услуги.[7]
Наконец, на уровне Реального капитализм — это непристойный секрет того, как всё в действительности устроено. Морфеус утверждает, что нельзя объяснить, что такое «Матрица», можно лишь самому ее увидеть. Так же невозможно рассказать о капитализме, переубедить капиталистического субъекта словами. Есть небольшая надежда на сбой в персональной матрице, как в ситуации сломавшегося солдата в «Черном зеркале» (Black Mirror, 2016, Великобритания, эпизод Men Against Fire).
Так бывает с мясоедами после посещения бойни, с книжными милитаристами после попадания в армию, тем паче на войну или в концлагерь. Система фильтрации реальности отказывает, и болевой шок перезагружает программу ценностных координат, меняя плюсы на минусы.
На уровне Реального и Символического капитализм устроен неплохо: кризисы и коллапсы, конечно, случаются, но невидимая рука рынка перемешивает уцелевшие костяшки и возвращает их в игру. Вновь отстраиваются города и торговые центры, печатаются акции и списки Forbes. Как в кинематографических антиутопиях, мы продолжаем блуждать по чистым верхним этажам социальной реальности, не рискуя спускаться на «технический уровень» или заглядывать в командный пункт. Лучше не знать, как функционирует система, если на нашем этаже есть свет и пища.
В «Матрице» Вачовски агент Смит разъясняет, что нынешняя ее версия — лучшая из всех предыдущих обновлений, адекватно имитирующая человеческую реальность с помощью языка программирования. Поскольку «человечество определяет свое бытие через нищету и мучения», Матрица оставляет в программе не только блеск, но и нищету капитализма: чтобы мозг не воспринял симулируемый мир как невозможно идеальный и не попытался проснуться.
Таким образом, обычные контрасты капитализма мы действительно принимаем как истину реальности, законы социальной онтологии. Никого сегодня не шокируют сцены повседневной дегуманизации: старики ищут еду в мусорных контейнерах, бездомные умирают на городских улицах.
Шокирующее открытие случается совсем не в тот момент, когда за глянцевой витриной системы мы нашли изнанку грязной нищеты. В «Матрице» Нео сбивает с привычного ритма не грязная социальная реальность, а именно Реальное — тайна высшей целесообразности. Так выходит, что не система создана для человека, а человек для системы?
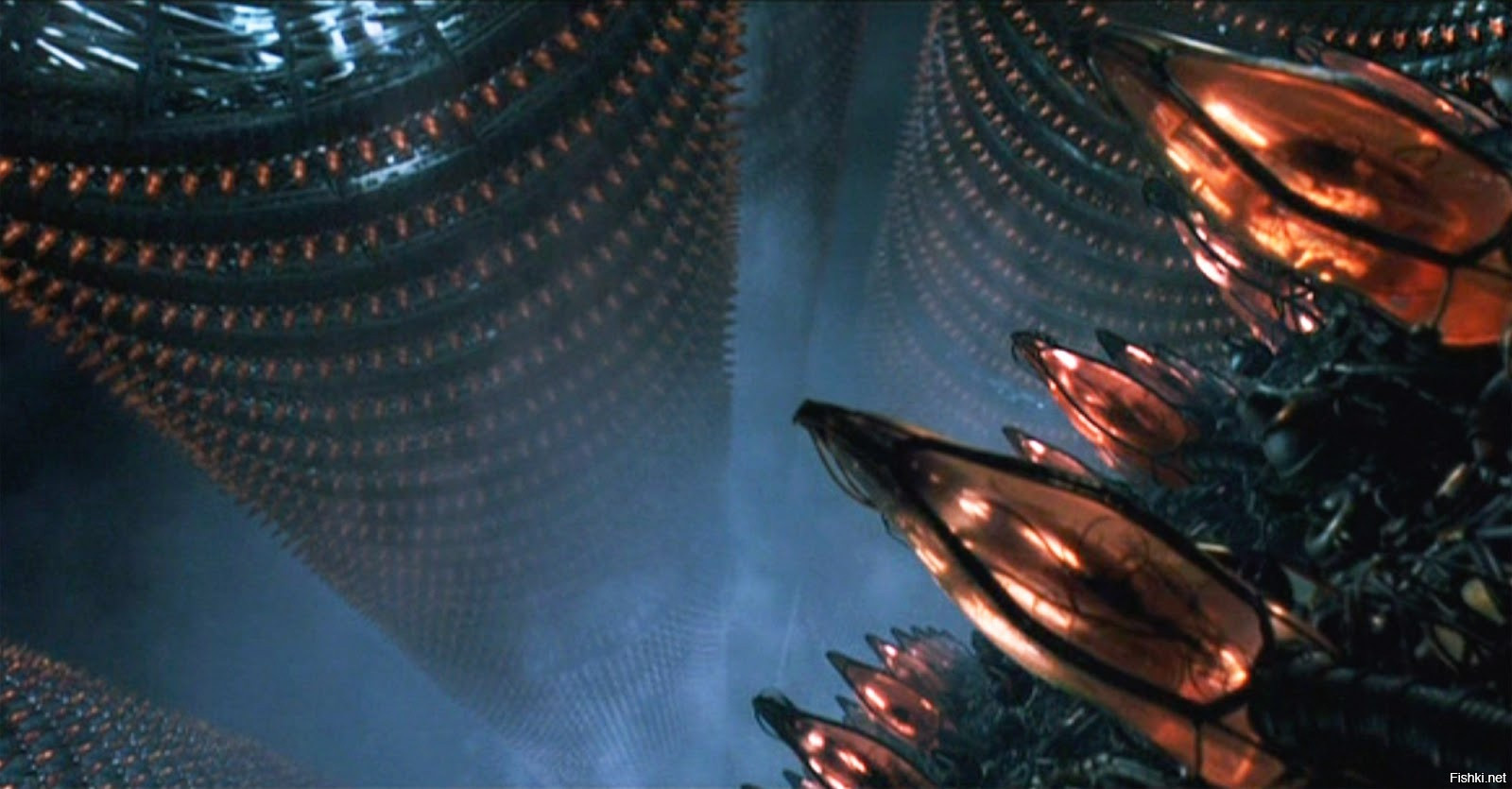
Поля, Нео, бескрайние поля, где люди даже не рождаются. Нас выращивают. Я долго не верил в это. А потом увидел поля собственными глазами, видел, как мертвых растворяют в питательную смесь и через вены кормят ею живых. Глядя на эту ужасающую точность, я осознал очевидную истину. Что такое Матрица? Контроль. Матрица — это мир грез, созданный компьютером для того, чтобы держать нас под контролем, для того, чтобы превратить человека вот в это.
Аккумулятор, который держит в этот момент Морфеус, — не такое отталкивающее зрелище, как помойка или бойня, но открытие Нео действительно ужасающее. В «Киногиде извращенца» Жижека оно интерпретируется в терминах неомарксизма:
Мои друзья из лакановской школы говорят, что авторы «Матрицы», скорее всего, читали Лакана; приверженцы Франкфуртской школы видят в «Матрице» экстраполированное воплощение Kulturindustrie — отчужденно-овеществленную социальную Субстанцию (Капитал), которая воспринимается нами непосредственно, колонизирует нашу внутреннюю жизнь и использует нас как источник энергии»[8].
С формальной точки зрения, Матрица устроена правильно и рационально. Это сверхэффективная экономика, тотальный рисайклинг, где в силу производственной необходимости люди клонируются и утилизируются, мертвые превращаются в питательную смесь для новых поколений. Такова железная логика машины, и таков чистый дистиллированный антигуманизм. Как говорят бизнесмены, устраняя конкурента, — «ничего личного!». Что означает, что вас исключает сам принцип капиталистической рентабельности: Ghost in the Machine.
Теперь можно дополнить брехтовский вопрос о том, что хуже: ограбление или основание банка. Сравните, например, два вида насилия: берджесовское ультранасилие со стороны уличных отморозков и невидимый, но беспощадный пресс социальной системы, формирующий «отбросы» целыми кварталами и городами. Что хуже: банальное зло бюрократа, оставившего в системе образования два коридора (для детей состоятельных родителей и для остального населения) или криминально-террористическое зло?
Подобная инженерная непристойность капитализма и обнаруживается как тайна социального Реального. Тайна в лакановском смысле — как то, что лежит на поверхности, но умом не регистрируется. Парадокс с похищенным письмом из новеллы Эдгара По проявляется в кинофильмах как парадокс переднего плана истории и своеобразного фона или «задника».
Например, в кинофантастике мы можем следить за сюжетным аттракционом, героями или технологиями «будущего». Но самые смелые человеческие фантазии не скрывают реликтового излучения эгоизма и жадности, мотивирующего почти все действия персонажей. Что такое футуристические гаджеты по сравнению с фантастической алчностью и бесчеловечностью архитекторов системы?
Так, в фильме «Луна» Дункана Джонса (Moon, 2009, США) по ходу истории выясняется, что работающих на лунном модуле астронавтов бесконечно убивают и клонируют. Астронавты — тоже расходный материал, и этот порядок для компании рациональнее и дешевле, чем вахтовые командировки. В антиутопии «Остров» Майкла Бея (The Island, 2005, США) сытая жизнь в новом дивном мире оказывается всего лишь скоротечным существованием доноров органов для богатых клиентов.
В «Аватаре» Джеймса Кэмерона (Avatar, 2009, США), этом типичном образце консервативного «марксизма по-голливудски», «честный белый парень становится на сторону экологически правильных туземцев против военно-промышленного комплекса оккупантов-империалистов».[9] Конечно, иносказание Кэмерона о политике капиталистического геноцида нельзя считать по-настоящему критическим: режиссер воскрешает в памяти зрителей уже почти мифические времена колониальной экспансии европейских цивилизаций. Мишень для общественного возмущения здесь тоже извлечена из музея, и проблемы для действующей идеологии не представляет.
Но истории о том, как система использует человеческую личность и целые народы в роли совместимых картриджей, популярны и показательны. В сюжетах криминальной тематики философскую фабулу образует глубоко спрятанный «секрет фирмы»: обратная сторона успеха респектабельной и богатой корпорации. Например, в фильме с самым подходящим для этого названием — в «Фирме» (The Firm, 1993, США) — молодой юрист в итоге обнаруживает, что работает на преступников. Но в широком смысле, история первоначального накопления капитала — это почти всегда история преступления.
Так или иначе, семиотический и психологический штрих-код капитализма вписан в продукцию продюсерского или авторского кино. Иногда, как в документальных картинах Майкла Мура (Capitalism: A Love Story, 2009, США; Sicko, 2007, США), вещи называются своими именами и системе предъявляется неоплачиваемый гамбургский счет. Чаще дело касается отдельных персонажей, но, пользуясь формулой агента капиталистического дискурса S1/$, мы всегда обнаружим за их спинами могущественные финансово-промышленные структуры, очередной параллаксный заговор — то, о чем впрямую не говорят, но всегда подразумевают.
Расщеплению на капиталистического агента и Капитал, несомненно, соответствует оппозиция социальной реальности и социального Реального. Трудно сформулировать это различие лучше Жижека (потому использую самую длинную цитату):
Маркс описывал безумное самовозрастающее обращение капитала, солипсистское самооплодотворение, которое достигает своего апогея в сегодняшних метарефлексивных спекуляциях с фьючерсами. Было бы слишком просто сказать, что призрак этого самопорождаемого монстра, неумолимо идущего своим путем, не проявляя никакой заботы о людях или окружающей среде, представляет собой идеологическую абстракцию и что за этой абстракцией стоят реальные люди и природные объекты, на производительных способностях и ресурсах которых основывается обращение капитала и которыми он питается как гигантский паразит. Проблема в том, что эта «абстракция» состоит не только в неверном восприятии социальной реальности финансовыми спекулянтами, а в том, что она «реальна» в смысле определения структуры материальных процессов: судьба целых страт населения, а иногда и целых стран может решаться «солипсистской» спекулятивной пляской Капитала, который преследует свою цель получения прибыли, сохраняя счастливое безразличие к тому, как его действия скажутся на социальной реальности. Поэтому идея Маркса состоит не в сведении этого второго измерения к первому, для того чтобы показать, как теологическая безумная пляска товаров возникает из антагонизмов «реальной жизни». Скорее его идея состоит в том, что невозможно в полной мере понять одно (социальную реальность материального производства и социального взаимодействия) без другого: именно организованная без всякого внешнего принуждения метафизическая пляска всесильного Капитала служит ключом к реальным событиям и катастрофам. В этом и заключается фундаментальное системное насилие капитализма, гораздо более жуткое, чем любое прямое докапиталистическое социально-идеологическое насилие: это насилие больше нельзя приписать конкретным людям и их «злым» намерениям; оно является чисто «объективным», системным, анонимным. Здесь мы сталкиваемся с лакановским различием между реальностью и Реальным: «реальность» — это социальная реальность действительных людей, участвующих в различных взаимодействиях и производственных процессах, тогда как Реальное — это неумолимая «абстрактная» и призрачная логика Капитала, которая определяет происходящее в социальной реальности.[10]
Подлинной глубиной драматургического противоречия становится сегодня не конфликт между антагонистическими классами или их представителями. И даже не внутренний антагонизм вовлеченного в капиталистические отношения субъекта — в духе борьбы личности против служебного долга, социальной роли, профессиональных инстинктов (представим себе случай с капиталистическим агентом, выселяющим из собственных домов должников). Важно заметить онтологическую погруженность капиталистических абстракций в сознание конкретного человека, отменяющую сами условия различения этического и профессионального, личного и общего, доброго и злого.

Эта ситуация сравнима с тем эпизодом в «Матрице», когда Нео узнает, что машины и программы тоже умеют чувствовать и любить. Трансформацию капиталистического субъекта в машину дополняет превращение машины в гуманоидного субъекта (еще раз вспомним о «вежливых роботах» в сети, исправляющих нашу речь).
Об этом без обиняков рассказывает один из самых интересных фильмов последнего десятилетия — «Космополис» (Cosmopolis, 2012, США) Дэвида Кроненберга по одноименному роману Дона Делилло. Формально героем здесь является мультимиллиардер Эрик Пэкер, рекламно-символическое олицетворение Капитала, его рабогосподин.
Но настоящий анализ «Космополиса» сосредоточен на шизофренической расщепленности героя на субъект и объект капитала, функцию и персону. Название отсылает, разумеется, к легендарному «Метрополису» Фрица Ланга. И там, и здесь предметом изображения становится конфликт труда и капитала. У Ланга он подан метафорически: в образах разделения города будущего на «верх» и «низ», на анонимную рабочую массу и праздных «элаев» правящего класса. В «Космополисе» тоже хватает метафор: мир «внутри» и «снаружи» лимузина; пресыщенная холеная элита и грязные «крысы» из числа уличных анархистов; пульсация сердца и пульс денежных потоков, «перекрестная гармония между природой и информацией». Однако конфликт труда и капитала становится здесь не эстетическим, а диалектическим. У Ланга капиталист и рабочий в финале подавали друг другу руки — это можно понять как формальный хэппи-энд, но одновременно и как шаткое перемирие до следующих классовых битв.
В финале «Космополиса» Дона Делилло сверхкапиталист Эрик Пэкер и неопролетарий Ричард Шитс сходятся в старомодном дуэльном поединке, и за бывшим наемным работником остается последний выстрел. В экранизации Кроненберга финал выглядит оборванным — действие заканчивается за секунду до выстрела. При этом решимость Шитса уже не выглядит железной, а потому узловой конфликт раба и господина становится совсем запутанным. Вместо решения коллизии, финал подводит к зыбкому «подвешенному» состоянию.
«Матрица» — другой источник «Космополиса», что очевидно и в стилистических, и в содержательных моментах. Уже в самом начале фильма несколько опознаваемых знаков (черные костюмы, светозащитные очки, зеленоватый тон картинки) отсылают нас к трилогии Вачовски — с той существенной поправкой, что у Делилло и Кроненберга исследуется матрица внутренняя. Дело касается проникновения абстрактной логики системы в сферу фантазий и желаний субъекта. Отсюда заторможенность действий, реакций и речи персонажей, находящихся в поле тотального самоконтроля. Здесь уже не обойдешься красной таблеткой, не отключишь сетевой кабель… Единый язык программирования, на котором написана Матрица, становится в «Космополисе» языком и кодом движения денег:
Он глянул мимо Цзиня — потоки цифр бежали в разные стороны. Он понимал, сколько это для него значит — бег и скачки данных на экране. Рассмотрел фигуративные диаграммы, которые вводили в игру органические узоры, орнитоптеру и многокамерную раковину. Поверхностно утверждать, что цифры и графики — холодное сжатие буйных человеческих энергий, когда всяческие томления и полуночный пот сводятся к ясным модулям на финансовых рынках. Сами по себе данные одушевлены и светятся, динамический аспект жизненного процесса. Таково красноречие алфавитов и числовых систем — оно полностью реализуется в электронной форме, в
Проблема Пэкера в том, что он «оцифрован вживую», погружен в персональную матрицу, подключен к финансовым потокам не посредством гаджетов и биржевых сводок, а через ежеминутную работу собственного мозга. Не случайно в этом дремотно-безвольном состоянии, в котором граница жизни и смерти неощутима, Пэкер чувствует почти физическую близость к цифровым индексам хаотического круговращения капитала. Он похож на введенного в транс пророка, находящегося сразу в двух мирах, но при этом вне
Это и делает «Космополис» точным описанием устройства социальной реальности, с ее тектоническим противоречием между неумолимой абстрактной властью денег и конкретными человеческими жизнями. Пустыня реальности становится теперь не выжженной землей, но опустошающим и обезличивающим социальным Реальным.
В романе Делилло Пэкер рефлексирует свое шизофреническое расщепление, лакановскую перечеркнутость и раздробленность субъекта. Он даже умирает вследствие этого противоречия, когда метастазы цифровой экономики окончательно «переписывают» его человеческую субъективность. В фильме Кроненберга герой деперсонализируется, превращаясь в модель, схему человека.

Изумительно точно использование в главной роли Роберта Паттинсона, который в массовом сознании навсегда связан с вампирскими «Сумерками». Таким образом, означающим второго уровня становится в «Космополисе» симбиоз капитала и вампиризма или, еще точнее — Капитал-Вампир: «В связке с Вампиром Капитал оживает. Он ˮразвивает мечтыˮ, он ˮжелаетˮ, он ˮпротивостоитˮ, у него ˮимеется моральˮ».[12]
Именно красавчик Паттинсон лучше всего иллюстрирует перерождение в капитализме любых человеческих качеств в оптимизированные функции: вместо любви — секс, вместо красоты — смазливость, вместо личностных отношений — партнерская зависимость. Прогрессирующее омертвение героя — двигатель вялого сюжета и буквальная иллюстрация тезиса о прижизненном загнивании капитала. Как агент некрофильской этики, Капитал мертвеет именно тогда, когда он лучше всего себя чувствует: когда он с иголочки одет, сыт, ухожен, натренирован в
Понятно, почему Пэкер так желает прорваться к травматическому Реальному — даже через боль и смерть. Эта разрушительная жажда реальных ощущений, не искаженных защитными экранами общества дигитального потребления, — очень современный психологический симптом, время от времени превращающий скучающих буржуа в одержимых опасными фантазиями экстремальщиков. Все бесцельные приключения Пэкера в «Космополисе» подчинены поиску травматического ядра Реального в отчуждающих и экранирующих структурах социальной реальности. Проблема Пэкера в том, что вместо собственно Реального он встречает лишь Воображаемое Реальное или Символическое Реальное. Или в кантовской диспозиции — не
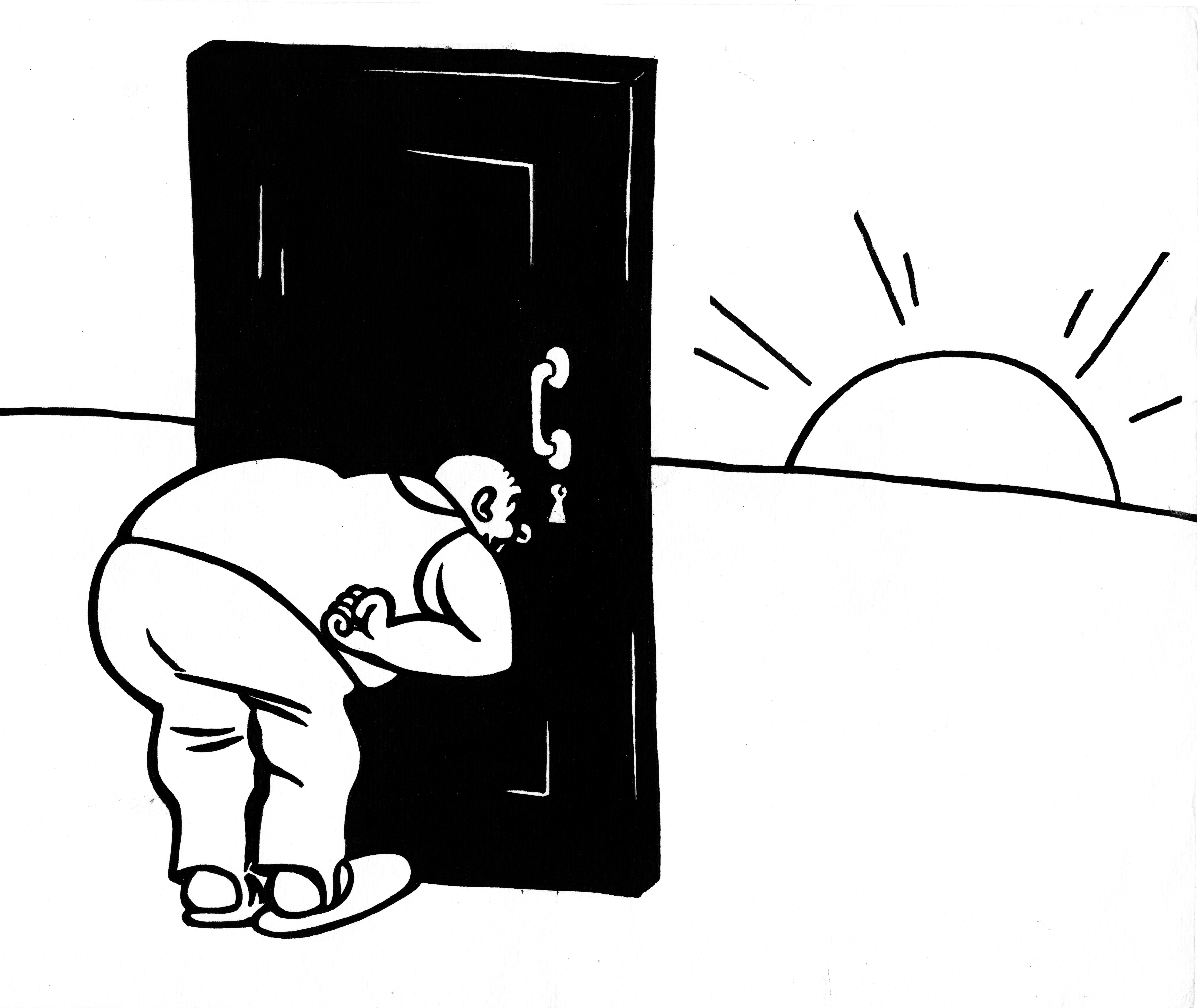
Сентенции о том, что конец света проще представить себе, чем конец капитализма, «Космополис» противопоставляет картину внутренней деградации капитала. Финальный поединок раба и господина (длинная сцена объяснения-дуэли между Пэкером и Шитсом) переходит в чтение обвинительного акта:
Ты должен умереть,
Но офисный пролетарий Шитс — не единственный могильщик капитализма. Интегральной метафорой «Космополиса» становятся крысы — и те, что первыми бегут с корабля, и те, что переносят смертельную болезнь. Чума капитализма — это, помимо прочего, перепроизводство денег: «Я
Тормозящая и связывающая функция товарно-денежных отношений вступает в противоречие с развитием информационного общества. Разрыв между священным для капитализма копирайтом и свободным распространением интеллектуальных продуктов в Сети есть разрыв между самим капитализмом и свободным развитием общества. В ближайшей перспективе, как и в финале «Космополиса», место капитализма — на помойке истории.
Книгу Вячеслава Корнева «Эгоистичный ген идеологии» можно приобрести в книжном интернет-магазине «Читай город».

Примечания
[1] Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М.: «НИИ киноискусства», 1993. С. 17.
[2] Кракауэр З. От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино. М.: «Искусство», 1977.
[3] Эрн В. От Канта к Круппу // Русская мысль. 1914. Кн. XII. C. 116–124.
[4] Бодрийяр, Ж. Система вещей / Ж. Бодрийяр. М.: Рудомино, 1995. С. 76.
[5] Юсев А. Кинополитика. Скрытые смыслы современных голливудских фильмов. С. 14.
[6] «Гуру» лайф-коучинга и
[7] Приепа А. Производство теории потребления // Логос. 2000. — № 4. С. 58.
[8] Жижек С. Киногид извращенца. Кино, философия, идеология: сборник эссе. Екатеринбург, 2014. С. 380.
[9] Жижек С. Искусство смешного возвышенного. О фильме Дэвида Линча «Шоссе в никуда». М.: «Европа», 2011. С. 163.
[10] Жижек С. О насилии. С. 14–15.
[11] Делилло Д. Космополис. М.: «Эксмо», 2012. С. 30.
[12] Мазин В. 18 заметок в движении от биовампира к техновампиру // Лаканалия. 2010. № 3. С. 12.
[13] Делилло Д. Космополис. С. 198.
[14] Там же. С. 68.
