О технике анализа и символической кастрации
Мы не устаём задаваться вопросом о том, как и какими траекториями письмо конституирует «позитивное отсутствие» объекта, к которому имеется априорно неудачная попытка приблизиться. Михаил Куртов однажды приводил иллюстрацию, которую он некогда с удивлением обнаружил в тексте Декарта, когда последний в качестве безумия ссылался на бред помешанных, кто считал себя сделанным из стекла — параноидально боялся разбиться, треснуть, всячески избегал контактов с людьми и объектами. Данный феномен был зафиксирован в Европе как раз в то время, когда было изобретено стекло, а потом сошёл на нет. Хотя нам было бы интересно рассмотреть странность вопроса о том, как и почему Декарт ставит в качестве референта разума — бредовую речь, однако сейчас нас скорее интересует, говоря грубо, регистрация широкой манифестации психозов параллельно изобретению и внедрению в повседневность нового технического средства. И ежели по иронии судьбы сам картезий стал родоначальником дискурса науки, в основание которого было заложено форклюзирование отцовской метафоры, следствием может выступать попытка отбросить сексуацию и субъективацию, сам Фрейд велел вернуться к интенции, на которую делал ставку Лакан — каков способ существования психоанализа как науки. Или — в более оригинальной — формулировке: какую могла бы принять форму подобная психоанализу наука. И уже на руках имеется следующая формулировка: символическая инкорпарация из «технического языка сущего» описательных средств, их метафоризация — как риторических фигур — возвращение отцовской метафоры в метонимический ряд. То есть «бифуркация» означающего. Ведь в клинической действительности мы активно пользуемся тем, что возвращаем анализанту (скажем, вытесненное) означающее не таким, каким «оно было прежде» (точнее, его и вовсе не было или оно — не-было) и вместе с тем и конституируется субъект бессознательного.
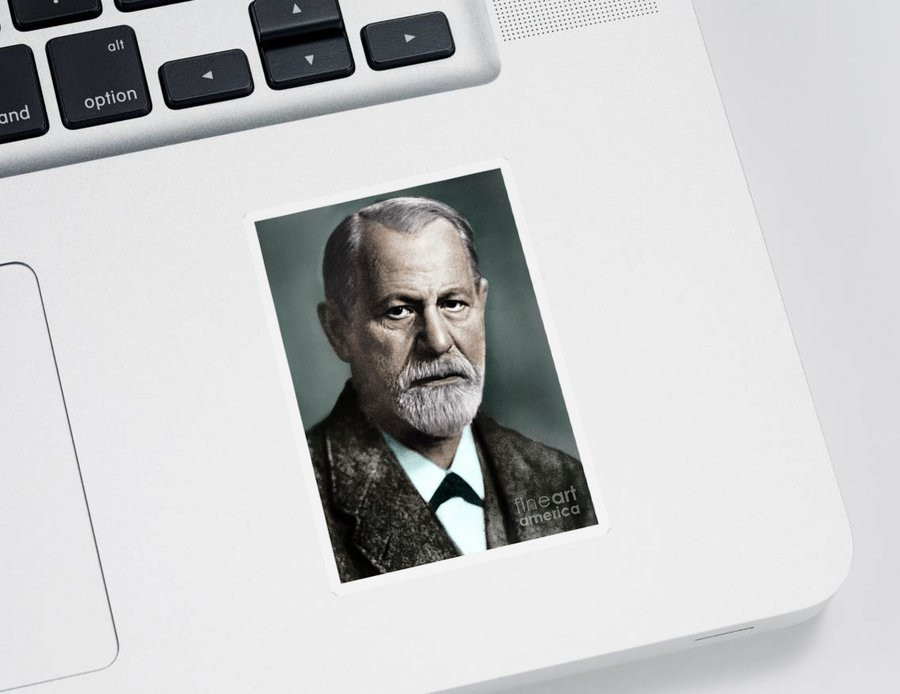
В своей ранней статье Фрейд, проводя клиническую дифференцировку невроза тревоги от неврастении, чуть ли наивным образом выводит этиологию того или иного симптомокомплекса как само собой разумеющееся — из превратностей сексуальных отношений, имеющих своим следствием осложнения в жизни психической. Казалось бы, Фрейд в подобной прописи детерминации симптома, находится чуть ли не на руссоиской позиции, которая подразумевает изначально предзаданную гармонию сексуальных отношений — и только какие-то внешние, мешающие факторы вносят смуту в дефолтную конфигурацию отправлений влечений в половой сфере между мужчиной и женщиной. То есть Фрейд выступает чуть ли не шовинистическим, эссенциалистом и натурализатором в консервативном современном значении этой маркирующий затычки. Даже учитывая тот факт, что уже явно выступает против медицинского консенсуса той поры в вопросе о
Мы уже активно пользуемся прекрасным наблюдением о том, что Фрейд начинает свою карьеру с оглашения о чрезмерной сексуализации обращения с истерическими пациентками в медицинской практике и тем самым начинает «подсушивать» горячность, с которой общественность «бредит» о необходимости дрессировкой восполнять нерадивых симулянток, что в своей испорченности уклоняются от матриманиальных обязанностей. И здесь мы, в свою очередь, хотели бы скромно добавить следующее соображение. Ведь в историческом контексте викторианских нравов, что регулировали сексуальную жизнь, совсем не является тривиальной публичная позиция Фрейда, исходя из которой он вообще ставит вопрос — и даже ратует — о женском удовлетворении. Даже в самом косвенно-консервативном аргументе — требовании от женщины производить потомства — он видит не цель, а лишь средство «нормальной» любовной жизни: того промежутка времени, в котором партнёры могут избегать «рассинхронизации» в удовлетворении и не прибегать к продуцирующим невротизацию практикам — coïtus reservatus и coïtus interruptus.
Мы помним переворачивающий аргумент Фуко, в котором система запрета и умолчаний и создавали цепочки соответствующих наводок на объект. Если когда и была «сексуальная революция», так знаменовался её апогей правлением королевы Виктории. Но дело как
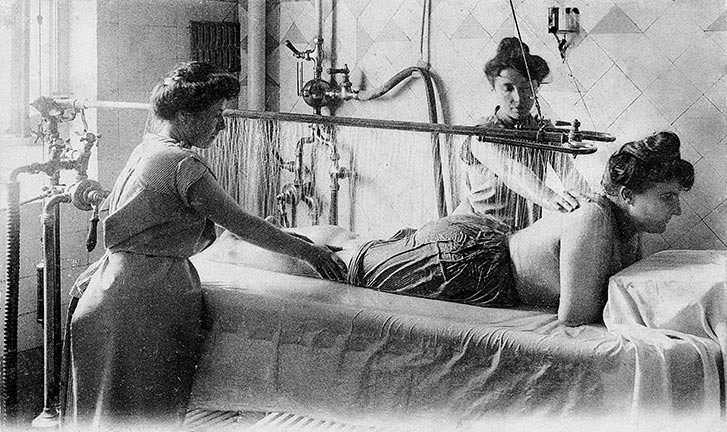
Совершим ещё один риторический вираж. Настаивая на приоритете генитальной формы удовлетворения с мужским субъектом с отказом от мастурбационной, Фрейд не замыкался на анатомической истина полов, но подводил субъекта женского мысли о том, что, говоря лакановски, «благодаря размещению в своей пустотности места для выреза его кастрации, она обретает средство справиться с тревогой о том, что она не только объект, но и найти как фаллос, так и способ обращения с ним» и если сам оргазм здесь служит целью, то тем не менее — и в лучших традициях этого вещего разделения — объектом здесь выступает речь «после того, как всё случилось»: скажем, «поболтать после секса и посмеяться над тем, каким он становится смешным, забавным и беззащитным на контрасте после оргазма и наслждаться тем, что он может на это ответить кроткой улыбкой».
И в тоже самое время мы вынуждены отметить соположенность между выбором и использованием «научной достоверности» для создания алиби сепарации от требования генитального образца и
Говоря иначе, если мужчина, по выражению Лакана, стёр в своём воображении зеркальное отражение пениса — фаллического коррелята, — то происходит это не-без связи с тем, что его орган заполняет не-всё, как бы первый не старался фантазировать о «тотальном заполнении и полном слиянии». Именно детумисценция и появление частицы плоти от мужчины позволяет женскому субъекту приугасить тревогу собственную на уровне символического обмена, потому как биологическая субстанция получает свою символизацию и метафоризацию: «он — может не всё, потому что она — не вся и оно — "семя» — наделяется достоинством свойства отцовского порождения. И, возвращаясь к конверсии, женский генитальный оргазм выступает здесь как репрезентация ограниченности мужского желания (символическая кастрация), прописанного по контуру её части тела и несущий источник повторения, но в то время же самое время не имеющего доступа к «её отсутствию и одновременном расположении по ту сторону кастрации» — в чём она обретает наслаждение, поддающийся разрядке не-один раз, т.к. «в её распоряжении не один источник тревоги», а оргазм (или их серия) трансверсально служит «промежуточной станцией» между влечением к смерти и
Известно, как феминистская критика разных формаций проходилась по Фрейду катком за его реакционный и кондовый сексизм, но дело обстоит ровным счётом наоборот и сам эта критика на поверку оказалась ещё более реакционной, поскольку если основатель психоанализа и исходил из мифа, то миф этот был совсем иного порядка и функционировал радикально отличным от ассортимента «прописных истин» актуального ему времени. Так, мы уже можем утверждать, что с первых работ Фрейд руководствовался структурной логикой эдипова комплекса, описание которого он анонсировал позже. И в то же самое время хитрость работы «практической теории», его техническая спецификация исходила не из метафизики «предустановленных опций» половой жизни, но, наоборот (в лучших традициях срабатывания правил второго 2-го перед 1-м): некоторое обещание «нормализации» любовной жизни могло исходить из психоаналитической теории и практики как следствие, некоторого рода горизонт — феномена до того в принципе немыслимого — тогда как не только клинической, но и «культурной», публичной действительностью был «невроз как таковой» в качестве «онтологической и эпистемологической предпосылки» для осмысления. Да, эдипов Фрейд всецело был “одержим” в фаллической функцией, но чтобы это эксплицировать — понадобились Джонс, а уже затем и Лакан. Но суть заключается в том, что, согласно темпоральности срабатывания nachträglich, никакой фаллической функции, обретая которую на пути “сквозь эдипа”, до конституирования аналитического дискурса — не существовало. Ровно как и субъекта бессознательного той или иной сексуации, не вошедшего в поле желания аналитика, организующая структуру указанного дискурса.
Так всё же что делает Фрейд такого, что возвращает “возвращает из небытия” научного дискурса инстанцию Имени-Отца? Как уже ранее говорилось, отец психоанализа совершает дискурсивную ротацию — или переворачивание. Мы можем предположить его “образ действия” — его праксис “над реальным посредством символического”. Пресловутый фрейдовский медикализм, как нам кажется, уже в своём основании метафоризирует врачебный дискурс, в котором совершается т.н. отбрасывание, вводя в его сердцевину диалектику кастрационного комплекса “представитель представления” самой теории, что неизбежно претерпит расщепление. А именно: неудача, ляпсус в клиническом “приложении” фаллической функции к “не-всей”, что и обнаружит подступ к Реальному как невозможному. До того помыслить, что “она” может сквозь инициацию символической кастрации, подобно “ему” — никому в голову не приходило. А что мы можем, опять же, задним числом помыслить как эллинский и средневековый “добропорядочный матронат” — это, скорее, праксис создания “мифологической” затычки для закупорки дыры Реального в качестве создания мульки, алиби воображаемой видимости универсальности символического порядка, сокрытия его нехватки. Но — не обнаружения и асимптотического “обхаживания” в виде попытки теоретической формализации аффекта тревоги в связи с постановкой во главу угла вопроса: “Чего же она желает?”
Скажем иначе, парафразируя критическое наблюдение Лакана, в котором он выступает против сантимента «глубин несказуемо-невыразимого реальности» и ставя ему в клинч тезис о том, что только благодаря искусности риторических изобретений мы и можем претендовать на продвижение к Реальному, психоаналитический дискурс способен сублимировать «спекулятивные отбросы» иных дискурсов — скажем вдобавок, религиозного или магического — с возведением их в статус господских означающих, по отношению к которому с неизбежностью и будет конституироваться субъект бессознательного и в тоже самое время распологать в отношение себя иные дискурсы, знание которых (S2) после психоаналитической дискурсивной ротации в последействии обречено структурно занять место «раба» в диалектике с «господином». Но с той лишь разницей параллаксного смещения, что произведённый репрезинтант презентует не кастрацию господина в наслаждении, но — указание на Реальное
Но здесь мы рискуем встретиться с рядом опасностей, ассоциативный ряд имён которым можно было выразить, как: фетишизация, подозрение в идеологической «подкладке» и просто переоценки того, на что пытаемся указать. И для этого следует совершить очередное отступление и привести ряд выдержек из работы, которая, как кажется, имеет причастность к нашему взгляду, но располагается совсем в иной области и занимается совсем иными задачами — «рефлексией» о способах исследования собственной дисциплины. Мы говорим о социологии. Попытка заимствовать некоторые любопытные моменты может найти оправдание в некотором дефиците теоретических средств для покрытия некоторых «неожиданных» явлений, с которыми могло столкнуться психоаналитическое сообщество ещё в недавнем времени. Например, тревога, связанная с т.н. Удаленной формой анализа и её противопоставления с классическим кабинетным форматом. В нашу задачу сейчас не входит решение этой проблемы — она приводится именно как показательный казус, — как и хоть сколько-нибудь серьёзная претензия по работе над «составлением и переводом» с одного языка дисциплины на другой. В нашу задачу входит лишь частично наметить ограничительные контуры для дальнейшего развития обсуждения.
Сразу стоит попытаться определить отношение психоаналитической техники к её теории, понимаемых в русле создания процедуры, регулирующей аналитическую ситуацию между аналитиком или анализантом или в её отсутствие — не так давно мэтром обозначенное — «изобретение» символической прописи ad hoc.
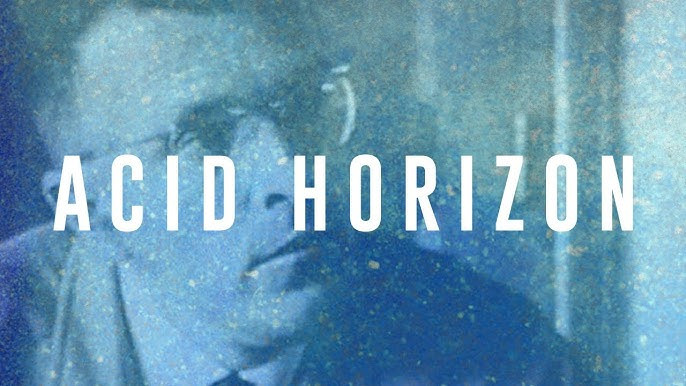
Что мы имеем в виду, когда говорим «техника»? В языке здравого смысла этим словом обычно обозначается крайне разнородный класс материальных объектов, к которому в равной степени принадлежат дрон, смартфон, карабин и камертон. Мы можем классифицировать такие объекты по размеру (от микросхемы до Большого адронного коллайдера), по времени изобретения (от колеса до беспилотника), по укорененности в повседневности (от плойки для волос до
Из приведенного отрывка становится ясно, что под техникой психоанализа, вероятнее, всего, не мог понимать «единого» инструмента или хотя бы набора практик, основывающихся на общем существующем принципе. Как уже отмечалось не раз, психоаналитическая техника, начиная с Фрейда, обращает внимание на то, каким способом с анализантом уже происходит работа и что несёт за собой тот или иной способ обращения с последним, ввиду чего складывается та или иная «тупиковая» клиническая картина, в которой и обнаруживается тенденция к воспроизведению утилитарной унификации: один способ обращаться с массой пациентов в противовес сингулярности утраченного объекта, пути к которому в анализе и реконструируются через символические отношения, установленные сеттингом. Отсюда может следовать промежуточное понимание, почему Лакан «кромсает» уже окаменевший на скрижалях свод правил, установленный IPA. Его ставка на функцию выреза направлена в первую очередь против «господства церковного запирательства», в котором легко узнаётся религиозный церемониал с доступом к симптоматичному удовлетворению подобного аналитика, а «благо» анализанта здесь уже выступает возможным эпифеноменом. Здесь и обнаруживается несостоятельность несмолкающих жалоб, что аналитики, что придерживаются и ограничиваются «апофатическим» принципом: так лучше не делать, объясняя почему, но не говорят — как, — поскольку задачей анализа и стоит внесение ограничения синтезу как таковому. Потому можно заключить, что родовым понятием для техники психоанализа является желание Фрейда (или — тот пробел, благодаря которому может заступить желание аналитика), а видовым — внесение купюры в это место, когда на него по причине той или иной нерадивости привносится затычка или ставится хомут, чтобы сделать технику психоанализа «сподручной».
Техника как объект коллективных представлений, техника как оператор интеракции и техника как субъект социального действия вокруг трех этих концептуализирующих метафор было выстроено наше повествование. Но выбранные точки фокусировки на первый взгляд создают три совершенно разных образа Технического. Что же их объединяет? Прежде всего, идея фрейминга. «На стороне субъекта» мы относительно легко можем выделить, описать и проанализировать те схемы восприятия, которые делают технику частью рефлексивных мировоззренческих представлений и нерефлексивного практического использования.
Также вы хотим отметить, что взятый нами исследователь, подводя промежуточный итог анализа отмечает доминирование использования метафоры в качестве теоретического инструмента. Для Лакана это было проблемой, по причине чего он и вводил свою алгебраическую запись вместе с использованием топологии. И тут встаёт вопрос, на что мы можем рассчитывать, делая ставку на означающее в приращении знания для техники теории психоанализа, если оно «по природе» метафоризирует. Введение регистра Реального как того, что устанавливает преграду для знания (оно не для того, чтобы его знали), можно счесть как завет для деструкции сетей символического, т.к. именно оно и претерпевает по отношению к первому сбой.
Однако здесь снова становится очевидным, что в попытке сделать ставку на остановку символического — являет себя старое доброе «ничего не желать об этом знать» на уровне акта. Мы же можем повторить, что в инвестиции ставок желания важна именно расстановка акцентов. Реальное нужно не для того, чтобы его знали, но оно позволяет совершить необходимое для знания смещение — столь важный параллакс для теории — принимающий всегда непредсказуемый вид и следствия. Именно он — сбой, ляпсус — по отношению к регистру Реально и является условием функционирования и раскрутки последнего. И то, что в социологии может обозначаться как «фрейм», в психоанализе получает свою прописку под именем «фокус Реального». Т.е. то самое, на что и было так тонко настроено чутье Фрейда и Лакана.
II
Мы то и дело можем наблюдать, что относительно вопроса генитальности психоаналитикам есть необходимость занимать «ту или иную позицию». В то время, как говорящий включается в дискуссию (даже — полемику), всё более может становится очевидным, им сказывается нечто — что не относится ни к предметному содержанию, ни «лично» к дискутанту. Но само означающее «генитальность» — как S1 аналитического дискурса — взывает к себе порядок знания и его циркуляцию. Интересно было задать вопрос о том (без надежды дать ответ на него), что происходит с генитальной позицией по ту сторону сексуации пола: если на «предварительных этапах» либинального развития субъект «платит дань» реальному отцу за обещание «на право иметь фаллос» как осевой момент разрешения эдипова комплекса — и следствием того обретает «закабаление» в символическом порядке закона запрета на инцест и смещения на «подобающий объект», — то каким образом «выходец» из аналитической ситуации может обращаться с «генитальностью» на новых основаниях, какой вид может иметь логика «технического» изобретения к концепту генитальности в случае субъекта аналитической сексуации? Ведь даже если субъект вследствие «раз-решения» невроза может перестать «дергаться» на ниточке генитального требования и данный момент может быть для него «потерять значение», это не значит, что сам концепт, означающее, надлежит уволить из сокровищницы аналитических означающих. Хотя никто и не утверждает, что это необходимо делать. Тем не менее сам концепт как бы «повисает в воздухе», напоминая своим положением прежний способ обращения субъекта с объектам –прокрастинация в неврозе навязчивости.
И здесь мы переходим к тезису, который с полным правом можно обозначить «бредовым» в попытке его формулировки, однако, на наш взгляд, пока стоит сделать выбор в пользу: «говорить и претерпеть неудачу», а не «молчаливым указывать на невозможное, взяв ляпсус как точку «старта», — не в последнюю очередь ввиду нехватки «топологических ресурсов» в в нашем распоряжении (хотя надеяться, что они тоже являются «гарантом доступа» — нет никаких оснований, помимо желания Лакана).
Исходя из положения о том, что перспектива обретения сексуации — так или иначе, половой или же нет — не может не возвращаться к инстанции отцовской метафоры, мы ставим вопрос о связи: необратимости, неустранимости функционирования метафоры как структурного оператора между Реальным и Воображаемым и ретроактивности — как «константного индикатора» обретения субъективности и сексуации.
«Отец имеет право на уважение и на любовь только в том случае, если таковое уважение, и сейчас вы не поверите своим ушам, ориентировано пер-версивно, то есть делает из женщины объект-причину его желания»
R.S.I., сеанс 21 января 1975
“Можно ли, к примеру, сказать, что если Мужчина хочет Женщину, то получает он ее лишь ценой крушения на мели перверсии? Именно такова формулировка опыта, заданного рамками психоаналитического дискурса. И если эта формулировка подтверждается, может ли она быть преподана всем без различия, [[Матема]] то есть является ли она научной — ведь именно исходя из этого постулата наука проложила себе дорогу? Я утверждаю, что именно так и есть, тем более что, как и желал этого «для будущего науки» Ренан, последствий это иметь не будет, ибо Женщины как
TELEVISION, 1974
В «психозе» обретение нехватки — означает поделиться нехваткой воображаемого образа Другого;
В то время как при одержимости «пробивание» заслона торможения может знаменоваться утратой образа Другого с временным тактом, в ходе которого принцип этой серийности «присутствия и отсутствия» преобразуется в синхронию расщепления акта и содержания высказывания. Акт высказывания — то самое место, в котором конституируется не-существование Другого как места, транзитный пункт, окаймляющий ту границу пустотности, по чью сторону и лежит пустота как таковая, доступ к которой и обретается засчёт ретроактивного срабатывания Идеала-Я — как установления инверсии желание закона на закон желания.
Недурно также отметить теоретическую смычку, переход, между этими двумя пунктами, ставя его в качестве критического замечания по отношению к наивно понятому и абсолютизироманному лакановскому назиданию о том, что необходима редукция воображаемого до «символического костяка, в котором оно, символическое, терпит сбой при доступе к не символизированному Реальному». Сама эта интерпретация противоречит как духу «Римской речи», в которой происходит возврат к Воображаемому, но из преобразованного, модифицированного топоса речи, «другого места» или «места Другого», так уже всё чаще обнаруживаемым «критическим протестом» с обозначенным положением в переводной литературе на русский язык: что как бы намекает на формирование критического консенсуса. Однако само по себе привносимое в место лакановской нехватки интерпретационное искажение требует не отбрасывания, а надлежащего и подобающего духу аналитического идеала теоретического истолкования, в котором бы ставился вопрос в терминах "обратного отступления к категории Блага». Само по себе клиническое наблюдение — пусть и риторически состряпанное на коленке, — гласящее, что: без кольца воображаемого — функция желания невозможна, — ставит непроходимость, с которой так запросто разделаться не получится.
Но мы можем выдвинуть гипотезу, согласно которой может быть объяснено, в следствием чего выступает разночтение, ниспосланное лакановскому пункту. На наш взгляд, обозначенное «искажение» — суть символические цепочки на основе сексуационного различия, возникшие как продукт осмысления клинического исхода и динамики практики в психоаналитическом дискурсе.
Наслаждение по ту сторону лишения и кастрации «не-всей»
«Ещё более ограничивающим является то, что мужчина имеет фантазматический доступ лишь к той части фаллической женщины, которая пассивна захвачена как объект, а (как его фаллос). Само активное измерение того, что женщина что женщина находится в фаллической функции как
… что мужчина желает, а женщина соглашается быть желанной (в конечном счёте, представляя собой объект мужского наслаждения), идентификация достаточно остро ставит перед нами вопрос об «истинно женском желании»…последнее касается также женского несексуального вне фаллоса…, посредством которого женщина экс-зистирует, ровно как и её активной сексуальной вовлечённости в наслаждение фаллическое (перечеркнутое Ла — стрелочка большое Ф), посредством которого ин-зистирует.»
Из приведённого пассажа нам кажется очевидным, что принцип организации клиники наслаждения, в рамках которой будет протекать психоаналитическая ситуация, будет радикально различаться между «женским» и «мужским» выбором объекта. Вроде бы как кажется, что данный тезис должен быть сам по себе очевидным, базовым рабочим моментом — консенсуально установленным положением — однако наблюдая за апроксимацией выводом из лакановского аппарата на клиническую практику, можно лишь удивиться, что для очень многих аналитиков подобным образом вопрос даже не ставился. А именно: что комонсенс ниспосланного клинического описания структур субъекта не только носит «статичный», «обще-абстрактный характер», но и то, что следствием использования таких риторических средств является почти — или полное –исключение в теоретическом описании динамического аспекта либидинального созревания объекта в ходе психоанализа.

Строго говоря: если обсессивному субъекту и суждено выйти по ту сторону кастрации, формируя в ходе психаналитической практики новый аппараты наслаждения в возможным минованием матримониальной перспективы, то для объектного созревания в структуре истерии в
В этой перспективе возникает интересное вопрос о том, как соотносятся несуществование тавтологии истины и преобразования абсолютного требования любви (признания обсессивного раба — господином или принятия истерического дара невозможного наслаждения — кастрированным отцом). Ведь вполне закономерно предположить, что, если в ходе анализа претерпевает преобразование «профиль» наслаждения на базе отцовской метафоры того или иного субъекта — сингулярного или фаллически ограниченного, — то преобразовываться должна и сексуационная асимметрия — по ту сторону «наследия» эдипова комплекса. Так, скажем, Фрейд в статье “анализ конечный и бесконечный” сокрушается над тем, что “мужской протест”, что выражается в виде кастрационной тревоги перед тем, чтобы занять “женскую позицию” — по сути гомофобский идиотизм, поскольку: “не всегда уступить другому мужчине –означает быть женщиной”. По сути, здесь мы обнаруживаем пределы “проработки” невроза навязчивости, к выходу за которые субъект выказывает жесточайшее сопротивление, удерживая иллюзию о том, господское означающее может быть тавтологично. Что значит уступить Другому “мужчине” — по ту сторону вытеснения гомосексуального влечения со столь сильной фиксацией на истине “чёрного входа в мужской афедрон”?
И всё же нас смущает, что выпадающим в данном вопросе остаётся тот, кто сам проходил анализ и от чьего имени ведётся речь об итогах анализа — психоаналитик, но этом поговорим в другой раз.
Наш канал в Telegram: https://t.me/GonzoAnalyst
