Geometry of Now: Рассел Хасвелл
Расселл Хасвелл, неутомимый новатор, мультидисциплинарный художник, исполнитель и куратор, чья практика уходит корнями в компьютерную музыку, блэк метал, нойз, техно, фристайл и сольную импровизацию, и знаменита расширением границ визуального и звукового искусства.
Накануне своего выступления в ГЭС-2 Рассел обсудил с Павлом Миляковым предельные физические опыты прослушивания и целительную силу звука, как злость иногда помогает в написании музыки и почему для него важно искажение времени.

ПМ: Значит, ты впервые будешь в России?
РХ: Нет.
ПМ: Ты был здесь? Играл?
РХ: Я был только в Москве вместе с другими британскими электронными музыкантами в середине 90-х, но не играл.
ПМ: Это тот самый безумный фестиваль электронной музыки, где должны были играть Aphex Twin и другие знаменитые артисты? Есть куча странных историй о загадочных промоутерах, которые его делали, о том, как отравился Aphex Twin, и прочем.
РХ: Да. Я был с Брюсом Гилбертом, Aphex Twin, Autechre, Seefeel и всеми остальными. Это была сумасшедшая поездка, сильный опыт. И еще год назад я был на русской границе в Киркенесе, в Норвегии. Я должен был отправиться в Никель — этого не случилось, но я проехал по всей границе между Киркенесом и Никелем.
Рассел Хассвелл и Люси Рэйлтон рассказывают о полевых акустических исследованиях, проведенных ими на границе между Норвегией и Россией.
ПМ: Что касается «Геометрии настоящего» — ты видел площадку? Это бывшая гидроэлектростанция.
РХ: Звучит неплохо. Я люблю играть в местах с историей. Разумеется, у всех разные подходы. В моем случае есть несколько вариантов: когда я знаком с местом и уже там играл, когда много раз там играл или когда попал куда-то впервые. Надо адаптироваться к месту в зависимости от того, что ты делаешь. Среда всегда достаточно важна, если речь идет о фестивалях, потому что они проходят в самых разнообразных местах, будь то электростанция, карьер или, скажем, лес, как в случае с
Но опять же, это зависит от того, что ты пытаешься сделать. Мне нравится физический звук, мне нужна громкость: только тогда звук становится скульптурным. Мне не терпится узнать, что это за место, каково там. И тогда я буду знать, что я могу сделать.
ПМ: Готовишь ли ты для этого проекта что-то особенное? Я знаю, что иногда ты используешь квадрофонические системы или видеопроекции.
РХ: Как правило, я не готовлюсь. Обычно, то есть в последние годы, я делаю импровизированные электронные модульные концерты, и они либо стерео-, либо квадрофонические. Я только что закончил тур с Autechre по 29 городам Европы. Для России я поменяю набор модулей в рэке. Разберу то, что брал в Европу, и повезу в Россию другое. Так что — да, я буду делать новое, это будет мировая премьера! [Смеется.]
ПМ: Если говорить о модулях, в свое время ты начал работать со звуком на компьютере, но потом перешел на модули. Почему? Ты применяешь в творчестве те же методы, что использовал с Pure Data или CSound?
РХ: Во-первых, есть простой ответ: многие обратились к модульным синтезаторам исключительно потому, что им до смерти надоело смотреть в компьютеры, которыми они и так пользуются целыми днями. Так что хотя бы иметь возможность крутить ручки и подключать кабели — это уже хорошо.
Лично я просто не хочу делать музыку так же, как все остальные. Не хочу попадать в те же ловушки, что и все остальные. Конечно, у модульных синтезаторов, или, как их в шутку называют, «EuroCrack», есть свои недостатки — они вызывают привыкание, люди говорят: «О, хочу это!», «Интересно, лучше это или хуже?». Но в итоге здесь то же, что и с программами: очень много дерьмовых вещей, которые не делают того, что обещают. Даже если ты очень, очень хорошо знаешь, что делаешь, эта штука не работает. И даже если ты не знаешь, что делаешь, она все равно ни хрена не работает. Короче, полно очень плохих вещей. С другой стороны, есть совершенно превосходные, очень дорогие модули.
А в плане техник или звучания, композиции — есть отличия. Сейчас я склоняюсь к использованию таких вещей, как фидбэк и генеративные алгоритмы. Вещи сами себя создают, это как процессуальная живопись в визуальном искусстве.
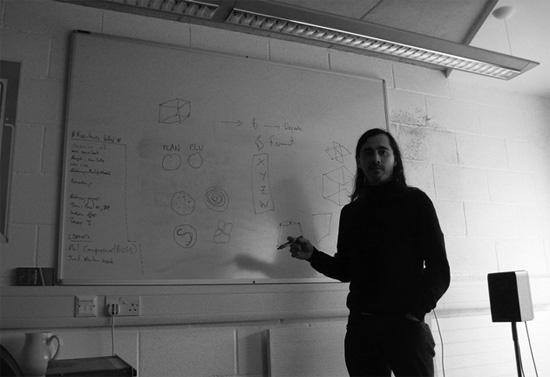
ПМ: Однажды ты сказал, что, когда выступаешь, время может растягиваться или, наоборот, уплотняться: тебе кажется, что играешь час, а на самом деле прошло только десять минут. Я слышал твой лайв на Atonal и испытал ровно такое же ощущение. Концентрация была очень высокой: ты играл минут пятнадцать, а мне казалось, будто два часа.
РХ: Я думаю, в своей жизни каждый замечает искажение времени, когда не знаешь, сколько по времени что-то происходило. И когда погружаешься в звук, тоже начинаешь по-другому видеть время. Например, потому что синхронизируешься с музыкой, но меня это обычно не очень заботит. Я стараюсь искажать время. Если речь идет о ритмах, нет причины не менять темп. Гаммы могут меняться, все может меняться.
Это как картина, масштаб или любой мыслимый элемент которой могут меняться. В кинематографическом смысле это похоже на переход вытеснением, когда одна картинка смещает другую. Если ты все время таким образом «смахиваешь» происходящее, время искажается, ведь различным фрагментам материала или звука присущи различные временные характеристики, чему, конечно, есть психоакустические примеры.
Но я думаю, это также происходит потому, что нет никакой точки отсчета. Помню, как несколько лет назад играл в Тасмании, и на сцене был экран, который показывал длительность и время выступления, — такое я видел впервые. Часы я не ношу. В детстве, когда у меня были часы, я обнаружил, что, когда мне нужно где-то быть вовремя, я постоянно опаздываю. Когда я прекратил носить часы, я начал лучше ощущать время и успевать на все встречи. Если спросить моих друзей, думаю, они скажут, что я достаточно пунктуален. То есть, полагаю, у меня есть ощущение времени и временной длительности. И само собой, все это важно, когда занимаешься звуком, цифровой обработкой сигналов, когда берешься за альтернативные методы обработки звука, сложные методы.
Я хочу искажать время и исследовать вещи, которые меня захватывают, расширять границы исследования звука и работать на действительно высококачественных акустических системах.
Так или иначе, искажение времени меня захватывает. Понятно, что ощущение времени — это именно ощущение, и в итоге оно синестетично. Как ориентир во времени звук не очень подходит: он искажает время, иллюзорен, имеет обратную связь. И я замечаю, что мне интересно слушать то, что получается в результате отказа работать с темпами, с этими жесткими правилами, которым ты вынужден подчиняться. Я делаю эти вещи для себя, стараюсь произвести то, что сам хочу испытать. Во время лайва я переживаю то же, что и аудитория, стараюсь привести их туда, где хочу быть сам. Остается надеяться, что они хотят попасть в то же место, исследовать те же вещи. Все это в реальном времени, все полностью живьем, я не использую компьютер, чтобы воспроизводить какие-то файлы. Одна из причин, по которой я перестал использовать лэптоп, — потому что все их использовали.
В 90-е, когда мы только начинали выступать, первые несколько лет никто не пользовался лэптопами. А потом они вдруг оказались повсюду, и ими стали пользоваться все. Затем был период диджеинга с лэптопов: вышли все эти программы, и все их поставили. Видимо, поэтому я и прекратил этим заниматься. И в итоге эти люди, второе поколение, вторая волна, практически ничего не делали: нажимали пробел и играли файлы, выдавая это за лайв. И люди все еще так делают. Не буду называть имен, но в целом они говорят, что играют лайв, хотя, по сути, играют диджей-сет.
Я стараюсь не заниматься такими вещами. Мне неинтересно. Они могут продолжать это делать, если хотят. Я хочу искажать время и исследовать вещи, которые меня захватывают, расширять границы исследования звука и работать на действительно высококачественных акустических системах. Можно создавать интенсивные, физически интенсивные вещи, которые стимулируют ментально, с которыми не замечаешь времени.
ПМ: Это, как я понимаю, одна из твоих главных задач?
РХ: Да, речь о физических ощущениях. Эти вещи должны воздействовать на телесном уровне и не должны быть обыденными, как вся та дерьмовая музыка, которую нам все время приходится слушать, и все эти шлаковые группы, которые мы видим на постерах, в клипах, по телевизору, все эти люди думают: «Что идиоты ходят смотреть?», «Что идиоты слушают?». Дерьмо, которое повсюду, все дерьмо. Я не составлял никаких чартов-2016, потому что никто не сделал в прошедшем году хорошую пластинку!
ПМ: Да, я как раз хотел спросить: может, ты можешь упомянуть кого-то или какую-то хорошую запись этого года.
РХ: Я могу сказать, что этот год был гребаным дерьмом.
ПМ: Я полностью с тобой согласен.
РХ: Самый сраный год на свете в плане пластинок. А на сайте BBC пишут, что продажи винила в Великобритании достигли пика за последние 25 лет.
ПМ: Да, я это видел. Безумие.
РХ: И что это все? Люди покупают гребаный альбом Coldplay или что-то подобное, какое-то дерьмо. Мне кажется, я могу упомянуть Coldplay — они так известны, что это не имеет значения. Но в остальном я не называю имен, потому что есть многие сотни других совершенно дерьмовых артистов, просто повсюду. И люди ставят их в чарты и говорят, что они очень хороши и что их запись очень хороша. А это было полное дерьмо! Я просмотрел чарты, все их прочитал и прочитал все рецензии — всё шлак! Ничего хоть сколько-нибудь хорошего. Альбом Autechre — лучший, и он даже не упоминается, потому что он был только в Интернете. Лучшей пластинкой прошлого года было переиздание «La Légende d’Eer» Яниса Ксенакиса на виниле — и все. Я никаких записей в прошлом году не выпустил.
ПМ: Значит, ты изучаешь много старых пластинок?
РХ: Я не слушал никакой музыки, если не считать пролистывания полнейшего дерьма в Интернете, превью или даже целых альбомов, или постоянного поиска на YouTube. В этом году я слушал в основном Яниса Ксенакиса. Sisters of Mercy — по абсурдным причинам. [Смеется.] И кучу старого техно, качественного старого техно и, что странно, бельгийских пластинок.
ПМ: Ты имеешь в виду записи ранних 90-х?
РХ: Да, именно. И еще в прошлом году был очень важен альбом Оскара Пауэлла, на который не обратили внимания. То есть да, некоторые люди в этом году вышли на первый план, но в целом год был дерьмовый. В политическом плане год очевидно дерьмовый. В плане терроризма это дерьмовый год. В общем, это было дерьмо. А теперь 2017, и пора хорошо провести время!
ПМ: Надеюсь. Так что насчет старого техно, которое ты упомянул?
РХ: Psychodrums! В этом году я слушаю много Psychodrums. Pattern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Вот что я, пожалуй, больше слушаю в этом году. Я только что открыл свой iTunes, и в нем ничего нет. Ну, немного Surgeon, немного Regis, немного Майкла Сноу, немного Роберта Герла, Psychophysicist, то есть Эндрю Маккензи из Hafler Trio, Pain Jerk, Incapacitants, Missing Channel, Марьян Амаше, Forgemasters.
ПМ: Мог бы ты рассказать о рабочем процессе? Как он протекает, всегда ли ты удовлетворен результатами своего труда?
РХ: В плане создания записей я склонен работать, как сказали бы некоторые, «очень критично». Я импровизирую, потом сразу слушаю запись и тут же могу ее выбросить. Просто выбрасываю, не храню в папке. Она исчезает, и снова найти ее невозможно. И даже если она была очень хорошей, ее нет.
ПМ: То есть ты мгновенно понимаешь, что это мусор, и просто его удаляешь, не давая вещи шанс? Ведь потом можно ее обнаружить, например, через несколько лет, и понять, что это нечто очень ценное.
РХ: Да, я не хочу идти назад, восклицать «Боже мой!» и проводить годы в архивах. Это дерьмо. Я думаю, это сродни изготовлению ювелирного изделия: ты можешь на полпути понять, что это не годится, и выбросить в корзину. Возможно, в истории были примеры, когда стараниями ценителей такие черновые фрагменты складывались в невероятную коллекцию, которая в результате считается лучшей работой какого-нибудь художника. Но я многое выбрасываю; признаю, если это дерьмо. И замечаю, если в некоторых вещах схватывается нечто, чем стоит поделиться, и нечто, что может быть критикой всего окружающего.
Думаю, многое из того, что я делаю, — это, на самом деле, отклик на то, что происходит вокруг нас. Было бы глупо это игнорировать. То, что я делаю, — отклик на все. Мне нравится находиться во взгретом состоянии. В смысле, довольно здорово записывать, когда я немного зол. Например, почитав газету. Хотя на самом деле я не читаю газет — все время смотрю новости: мне не нравится читать комментарии, я хочу видеть, что происходит. Короче, когда я злюсь — это обычно очень подходящий момент пойти и
ПМ: То есть эти вещи тебя вдохновляют? Дают тебе силы что-то создавать?
РХ: Да, определенно. Отлично себя чувствуешь, когда твой мотив: «Я сделаю лучше. Я сделаю культурно значимую вещь». Если бы это не имело культурного значения, я бы не стал этим заниматься. При этом некоторые люди не в состоянии доводить до ума свои работы или хотя бы переводить их в сохраняемый и распространимый формат. Многим людям следует заняться другими вещами. Они у них лучше получаются, пусть их и делают. Не знаю. Какого хрена? В конечном счете, это стиль жизни, это значит быть по хардкору — придерживаться того, что по-твоему правильно. И помогать другим людям достигать того же, если они в
Я не знаю, почему все этим занимаются. Я просто смотрю и изучаю искусство и кино, другие формы творчества, философию — и эти вещи влияют на все, что я делаю. Мои треки могут быть настолько же вдохновлены какой-нибудь серьезной скульптурой 70-х, каким-нибудь концептуальным искусством, насколько и
Отлично себя чувствуешь, когда твой мотив: «Я сделаю лучше. Я сделаю культурно значимую вещь».
ПМ: Хорошо. Если говорить о таких вещах, как харш нойз или блэк метал, или то же самое техно — все эти направления строятся на довольно мощных формах. Как ты считаешь, необходима ли артисту, использующему такие инструменты, большая внутренняя сила для того, чтобы с ними работать? Мне кажется, многие люди теряют себя в них.
РХ: Да, но в этом и смысл. Ты хочешь пойти туда, где ты никогда прежде не был, тебе наскучила реальность, она обыденна, полна ужаса. Почему люди пьют? Почему принимают сильные вещества? Почему ходят к врачу? Всему этому есть причины. И что касается этих, скажем, возвышенных реальностей — ты можешь отправиться в неизвестное, но также заново пережить прошлое, можешь испытать флэшбеки, можешь деформировать и перемешать настоящее и прошлое; это, разумеется, часть ситуации с искажением времени, когда играешь концерт.
Так или иначе, я стараюсь быть полностью преданным тому, что делаю. У меня есть твердая вера в то, что я делаю, и я стараюсь в это погружаться. Предполагается, что, выступая, я отправляю людей в
Я думаю, некоторые люди находят то, что я делаю, слегка враждебным, потому что это считается громким. И в некоторых случаях аудитории бывают, можно сказать, шокированы. В любом случае, по идее, это не пассивный опыт, это активный опыт. Предполагается какое-то участие аудитории. На самом деле, я просто веду себя честно. За последнее время я видел много концертов и понял, что, если люди реагируют на происходящее помимо того, что наслаждаются, тогда все действительно хорошо. Хорошо иметь баланс. Хорошо вызывать в людях противоположные реакции, поляризовать аудитории; не отдельных людей, только массы. Но не ради бунта или конфликта, скорее для дискуссии, диалога, чего-то позитивного. Это позитивное действие, не негативное.
Хотим ли мы погрузиться глубже, хотим ли куда-то потемнее, хотим ли к свету, хотим ли мы вообще идти?
Я не вписываюсь в жанр. Некоторые скажут, что я делаю нойз, другие — что экспериментальную музыку или что-то еще. Конечно, должна быть какая-то категоризация, если ты, например, составляешь исторические примечания к архиву. Но в плане попыток попасть в категории, я не буду действовать в духе: «О, ни хрена себе, это новый трэп? Отлично, мне надо сделать то или это» или «Надо положить на все реверб». Я точно не буду придерживаться какого-то стиля. И я думаю, наилучший вариант — сталкивать стили и формы, устоявшиеся системы. Я стараюсь включать в процесс все, перемалывать и получать из этого что-то новое, что-то захватывающее, стоящее исследования, чтобы возникало желание двинуться дальше. Я лазаю по пещерам, и там порой встаешь перед выбором: «Спуститься ли в следующую? Стоит ли переступить край? Переходить ли дальше? Сможем ли мы вернуться? Мы не хотим там умереть, так мы идем или не идем?». Как бы то ни было, приходится принимать такого рода решения. И, по-моему, в случае с аудиопредставлениями, которые обычно называют концертами, в помещениях с мощной саундсистемой, с аудиторией — эти решения тоже необходимы: «Хотим ли мы погрузиться глубже, хотим ли куда-то потемнее, хотим ли к свету, хотим ли мы вообще идти?». По идее, это должно происходить на уровне физических ощущений.

ПМ: Значит, каждый раз ты решаешь, куда двигаться, в зависимости от людей, которых ты видишь, и места?
РХ: И места, и системы, и возможностей. «Есть ли у вас оборудование? Можем ли мы погрузиться, cможем ли вернуться обратно? Приведет ли это нас туда, куда мы хотим? Если возможность есть, то да, мы пойдем, это захватывающе! Но если нет, то получится дерьмо!» И мне нужно хорошее шампанское. Я не могу играть без шампанского. Это часть набора для выживания.
У меня нет никаких песен, я не исполняю ту или иную песню или «трек с последнего альбома». Хотя во время недавнего тура я начал делать введения и заводить диалог с аудиторией или по меньшей мере с людьми, которые были в первых рядах, которые разговаривали или бранились и так далее. И я начал представлять треки, как будто они были песнями, кусками, сегментами. Я делал введения: «Этот трек называется… » или даже «Раз, два, три, четыре… », просто чтобы добавить человеческий элемент и еще отсылку к
Интервью: Павел Миляков
Перевод: Егор Немцов
