Интервью с Сергеем Бородаем. Беседа о монографии «Язык и познание: введение в пострелятивизм»
Специалист в области когнитивной лингвистики и теории познания, научный сотрудник Института философии РАН Сергей Юрьевич Бородай ответил на актуальные вопросы о языке, связанные с его монографией — «Язык и познание: введение в пострелятивизм», вышедшей в 2020 году и посвященной анализу современных тенденций в изучении проблемы влияния естественного языка на когнитивные процессы. Каково соотношение структуры языка и когнитивных операций? Что делает человеческий язык уникальным? Под каким углом стоит смотреть на язык сегодня? Какие открытия в науках о языке были сделаны за последние столетия? Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете найти в нашем интервью.
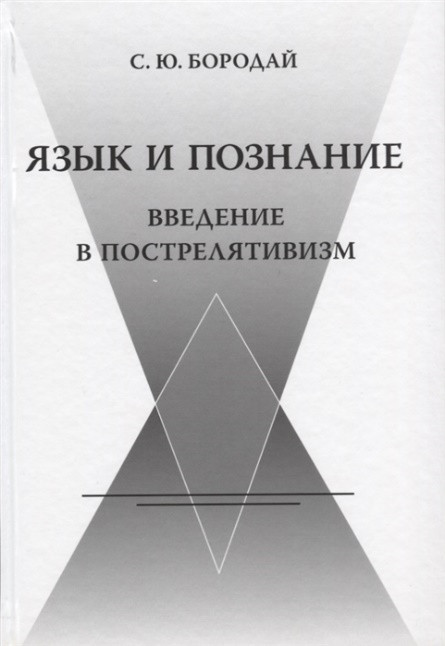
А.К.: Уважаемый Сергей Юрьевич, не могли бы Вы рассказать подробнее для читателей, чему посвящена Ваша книга?
С.Б.: Моя книга посвящена проблеме влияния языковых структур на познавательные процессы, или тому, что известно как концепция лингвистической относительности. Корни этой проблемы уходят еще в XVIII в., и ее первые отчетливые формулировки могут быть найдены у критика И. Канта — И.Г. Гамана. Впоследствии она занимает важное место в лингвофилософской системе В. фон Гумбольдта и вообще в немецкой мысли. Однако профессиональное и детальное рассмотрение она получает лишь в начале XX в. у американских последователей Гумбольдта — структуралистов и этнолингвистов Ф. Боаса, Э. Сепира и их ученика Б. Уорфа. Почему эта тема оказывается в центре их внимания? Прежде всего стоит сказать, что к началу XX в. в американской лингвистике уже были достаточно сильны позиции гумбольдтианства. Вообще Боас, Сепир и Уорф в период интеллектуального становления испытали сильное влияние различных философских направлений — от классической немецкой философии до неопозитивизма. Они не были лингвистами в узком смысле слова, но являлись, скорее, теоретиками и философами языка, демонстрируя при этом высокие профессиональные навыки в полевой лингвистике. Эта «междисциплинарность», а в действительности — просто глубина мысли, является одним из важных факторов в разработке проблемы лингвистической относительности. Но ключевой фактор, как я полагаю, это
На самом деле, судьба концепции лингвистической относительности оказалась трагичной. В своей книге я подробно рассматриваю исторический аспект проблемы. Эта концепция не получила четкой формулировки ни у Сепира, ни у Уорфа — скорее, она ими нащупывалась и
Я хотел бы подчеркнуть, что речь идет о концепции, которая, будучи не лишена (как и всякая концепция) теоретических предустановок, тем не менее в основном опирается на экспериментальные данные. В наше время проблема взаимосвязи языковых структур и когнитивных процессов — это в значительной степени экспериментальная проблема. Ее нужно четко отделять от получивших распространение лингвокультурологических спекуляций о «концептах» и «языковой картине мира». Конечно, есть хорошие исследования в этой области — например, работы А. Вежбицкой, Анны А. Зализняк, А.Д. Шмелева, Е.В. Рахилиной. Однако это, скорее, исключение. Сама область в основном остается спекулятивной и спорной, а переход от языковых структур к мышлению здесь дан однонаправленно и механически (порой и вовсе без
А.К.: Что, на Ваш взгляд, отличает язык от других знаковых систем?
С.Б.: Прежде всего, я бы обратил внимание на проблематичность употребления по отношению к языку понятия «знаковая система». В своей книге, правда, я говорю о «языковом знаке» и о языке как о «системе», но для меня это, скорее, дань структуралистской традиции, нежели четкая дефиниция. Об этом стоило бы подумать. Предварительно выскажу следующее соображение: едва ли возможно дать такое метаопределение «знака», которое охватывало бы «языковой знак», зеленый свет светофора и золотую монету. Я скептически отношусь к возможности построения «науки о знаках» как некоей метанауки различных видов «указывания», которая бы не упускала что-то важное в результате стандартизации и формализации. Как я показываю в своей недавней англоязычной статье «Overcoming word-centrism: towards a new foundation for the philosophy of language» характер языкового «знака» столь специфичен, что сама реляционная структура «означающее — означивание — означаемое» в существенной мере зависит от устройства конкретного языка; при этом неправильно рассматривать референцию, с одной стороны, как
Если перейти от старой схемы «слово — референция — объект» к предлагаемой мной схеме «язык (как набор морфосинтаксических паттернов концептуализации) — соотношение — событие (как комплексная смысловая ситуация)», то мы увидим, что 1) в самом языке способ изображения того, с чем соотносится язык, обладает чертами конструктивности; 2) в самом акте соотношения играют важную роль морфосинтаксические особенности языка (универсальная «референция», которая была бы связана с универсальным «словом», невозможна уже хотя бы потому, что понятие «слова» не является металингвистическим); 3) сам характер соотношения между языком и событием лингвоспецифичен ввиду перманентного влияния языка на когнитивные операции — иначе говоря, в
Кроме того, язык не является «системой» в структуралистском смысле. Язык — это разнородный набор регулярностей и иррегулярностей, и если мы будем описывать не только искусственно вырванную из живой речи и тем самым умерщвленную «языковую форму» (которая, замечу, в таком дескриптивном виде никогда не хранится в памяти носителя языка), но учтем всю ту сложную семантико-прагматическую и ситуативную действительность, в которую погружен и которую отчасти конструирует всякий язык, то увидим, что иррегулярностей в нем — особенно в отдельных узусах — порой гораздо больше, чем регулярностей. Еще одним аргументом против представления языка как стандартизированной системы (в структуралистском смысле) является неоднородность его «элементов», которые — и это уже указывалось выше — нельзя определить как набор «знаков», не потеряв при этом чего-то важного. В общем, если и говорить о языке как о системе, то, пожалуй, в этимологическом смысле — как о сочетании греч. syn- и istemi, т.е. как о «совместном состоянии», «состоянии совместности», «согласованности», «связности», «гармонии», короче говоря, состоянии взаимосвязи (именно это Б. Уорф называет имеющим оккультные истоки словом rapport «контактность»).
А.К.: Что до сих пор делает человеческий язык чем-то уникальным?
С.Б.: Человеческий язык в принципе уникален — и феноменологически, и структурно. Любые внешние сходства со «знаковыми системами» животных — которые тоже, разумеется, в зависимости от вида в
Во-первых, человеческий язык — это не только продукт творчества, но и постоянное творчество. Хорошо известно определение Хайдеггером языка как «дома Бытия», однако не замечен тот факт, что в такой многогранной метафоре неявно заложена какая-то «стабильность», какой-то «уют». Для Хайдеггера язык — это что-то «свое», «родное», «уютное» — здесь те же смысловые оттенки, что и в его анализе феномена подручности из «Бытия и времени». Однако в действительности, язык — это не только основание, но и безосновное; язык устремлен в неизвестность, он всегда творчески недоопределен — притом не только на уровне лексики и оборотов (что вполне очевидно), но и на уровне морфосинтаксических конструкций, которые находятся в постоянном динамическом напряжении между неконвенциональностью и конвенциональностью, и решение об их статусе нередко оказывается делом случая и конкретных обстоятельств. Этот творческий компонент не столь значим (если вообще сколько-нибудь значим) для «знаковых систем» животных.
Во-вторых, человеческий язык всегда внутренне разделен на грамматическое и неграмматическое — иными словами, какие-то элементы языка оказываются частью «грамматики». Это действительно специфика человеческого языка. Но надо сказать, что в лингвистике до сих пор нет общепринятого определения «грамматичности» и четкого представления о критериях деления на грамматическое и неграмматическое. Я являюсь сторонником подхода, предложенного Ф. Боасом и развитого Р.О. Якобсоном, согласно которому грамматичность — это обязательность. К грамматике относятся те (в основном довольно абстрактные) значения, которые не могут не выражаться при определенных обстоятельствах: например, носитель русского языка не может не выражать род существительного, носитель центрально-юпикского языка не может не выражать особенности пространственной локализации объекта («далеко» / «близко», «виден в ограниченном пространстве» / «виден в неограниченном пространстве» / «не фиксируется визуально», и т.д.), а носитель языка тукно не может не выражать информацию об источнике, из которого он узнал о сообщаемом событии («видел» / «слышал» / «по косвенным данным» / «мне сказали»); грамматическое по определению понуждаемо к выражению. Эта дефиниция интересна тем, что она предполагает 1) градуальность грамматического, 2) зависимость степени грамматичности от конвенциональных способов концептуализации конкретных ситуаций. Данный факт — факт принципиальной погруженности живого языка, даже на структурном уровне, в ситуативную стихию действительности — делает его чем-то уникальным, достойным удивления и, замечу, сущностно неформализуемым. Происхождение грамматикализации — большой вопрос, который сейчас активно обсуждается в теории языка. В связи с этим хотел бы порекомендовать работу Б. Хайне и Т. Кутевой «The genesis of grammar: a reconstruction», которая, собственно, и вывела эти дискуссии на новый уровень.
А.К.: Какие современные социокультурные особенности уже нашли свое отражение в языке? Что происходит с языком в эпоху глобализации? Справедливо ли говорить об упразднении лингвоспецифичности?
С.Б.: Честно говоря, я не являюсь специалистом в современных языковых процессах, в частности касающихся русского языка. Этой темой у нас активно занимается М.А. Кронгауз, так что рекомендую ознакомиться с его работами. Могу выделить лишь то, что лежит на поверхности: 1) малые языки стремительно вымирают; 2) те, которые все же выживают, оказываются под сильным влиянием более «престижных» языков; 3) экзотичные языки с редкими грамматическими категориями упрощаются; 4) процессы проникновения грамматических и лексических элементов доминирующих языков в другие языки усилились (вследствие активного или пассивного билингвизма); 5) выросло разнообразие регистров речи; 6) снизились диалектные вариации, возросла роль литературных языков; 7) в то же время увеличилось число социолектов и возросла их роль, появилось то, что можно назвать «сетевым социолектом» — языком определенной группы в сети, независимо от географической локализации; и т.д. Кронгауз сознательно формулирует свой вердикт в отношении русского языка с долей провокационности: русский язык находится «на грани нервного срыва». Я думаю, это касается не только русского языка, но и многих других языков, в том числе английского, беспорядочное использование которого приводит, с одной стороны, к большим вариациям, а с другой — к его «пиджинизации». Я не языковой пурист. То, что языки меняются, — это нормально. Кроме того, я вообще не думаю, что есть «хорошие» и «плохие» языки в абсолютном смысле (на манер «классической» и «вульгарной» латыни) — каждый язык по-своему хорош и
Тем не менее мы не должны забывать и того, что глобализация поставила перед нами вызов, которого не было раньше: это три взаимосвязанные тенденции, упомянутые выше под пунктами 1, 2 и 3. По разным прогнозам в течение текущего века вымрет от 50 до 90% языков планеты (сейчас их насчитывается примерно 6-7 тыс.); к этому нужно добавить, что те малые языки, которые все же не вымрут, испытают (и уже испытывают) сильное влияние доминирующих языков, в результате чего исчезнут редкие грамматические категории и уже мало актуальные способы выражения. Если бы мы говорили о «всего лишь языках», которые выражают «уже готовую мысль», то с этим, возможно, и не было бы проблемы. Но на основе многочисленных исследований можно утверждать, что язык — это 1) способ доступа к когнитивным процессам; 2) бесценный источник сведений о конкретной культуре; 3) уникальный способ организации концептов и связей между ними. Таким образом, мы теряем не только языковое богатство в узком смысле, но и вообще когнитивное богатство. Если бы какие-то уникальные вещи — как, например, абсолютная система ориентации в австралийском языке гуугу йимитир и особенности ее использования — не были исследованы в 1980-1990-е гг., то сейчас (
А.К.: Какие основные задачи стоят перед специалистами в области философии языка на сегодняшний день?
С.Б.: На мой взгляд, философия языка нуждается в реформе. Во-первых, ее нужно избавить от излишнего европоцентризма — от склонности универсализировать и проблематизировать феномены, характерные только для европейских языков, и игнорировать все то, что известно нам из лингвистической типологии о других языках. Во-вторых, философия языка должна перестать быть только философией и только языка. Конечно, говоря о «философии» мы всегда говорим о
А.К.: Каковы Ваши планы дальнейших исследований?
C.Б.: В своей монографии «Язык и познание: введение в пострелятивизм» я собрал большой материал по теме «структура языка и когнитивные процессы», осмыслил его, развил собственную теорию, касающуюся места языка в когнитивной архитектуре и его связи с познавательными способностями, и разработал программу исследований. В рамках своей теории я попытался показать (если резюмировать), что (1) каждый язык предоставляет уникальный способ организации значений, (2) который релевантен для познания, поскольку (3) язык способен структурировать когнитивность в процессе онтогенеза и (4) он вовлечен в когнитивные процессы в режиме реального времени. Результатом центрального места языка в когнитивной архитектуре являются различия между носителями разных языков в (5) обработке и хранении информации, (6) отдельных когнитивных способностях, (7) содержании ментальной модели, (8) сенсомоторных реакциях и (9) нейронной активности. Я назвал это концепцией «воплощенной относительности» (embodied relativity) — ситуативного и воплощенного представления когнитивности с учетом центрального места языка в познании. В рамках этой концепции мной была развита программа исследований, включающая анализ доконцептуального опыта, работы сенсомоторных систем, мышления и философского творчества. Все это пока нарисовано широкими мазками. Требуется детализировать многие вещи — прежде всего, в области теории. Кроме того, я полагаю, что тот материал, который был собран, и те тематические связи, которые удалось показать, дают почву для самых разных направлений мысли в области теории языка, мышления и когнитивности. Так что в будущем я планирую сосредоточиться на проработке этой теоретической составляющей. Мне представляется перспективной попытка осмыслить появившиеся в последние десятилетия экспериментальны факты, касающиеся вовлеченности языка в когнитивность, в свете телесных, или воплощенных, подходов к познанию, в частности энактивной феноменологии и энактивизма в широком смысле. К сожалению, это пока мало продумано, и когнитивная наука по-прежнему остается отделена дисциплинарными барьерами от когнитивной лингвистики и когнитивной антропологии. Эти барьеры в
Проблема связи структурных особенностей языка и познания затрагивалась некоторыми философами сознания — Дж. Принцем, П. Каррутерсом, Э. Кларком, отчасти Д. Деннетом. К сожалению, уровень представленного ими анализа мне кажется не соответствующим глубине проблемы и в целом неудовлетворительным (а порой и вовсе идеологически ангажированным). Вообще же философия сознания по-прежнему сильно вписана в аналитическую традицию и наследует ее предустановки, касающиеся философии языка. Я не думаю, что в ее рамках возможен какой-то существенный прогресс в плане изучения интересующей меня области. Понятие «когнитивности», «когниции» мне кажется более широким, чем понятие «сознания», и потому более гибким в теоретическом плане — например, как я уже сказал, возможно энактивное понимание когнитивности, в границах которого мы уже можем говорить не о сознании как элементе традиционной субъект-объектной корреляции, а о
В целом же хочу сказать, что несмотря на всеобщее стремление к «междисциплинарности», мне все больше кажется, что исследователи из разных областей отдаляются друг от друга. Материала по разным темам, касающимся познания, стало так много, что имеется соблазн погрузиться во
А.К.: Сергей Юрьевич, благодарю Вас за интересную беседу, с нетерпением ждем Ваших новых работ.
Беседу вела специалист отдела научной коммуникации и популяризации науки Института философии РАН Анастасия Конищева
