Гнев, ревность, фрустрация: интервью с Петером Слотердайком
Перевод большого интервью немецкого философа Neue Zürcher Zeitung: о культуре гостеприимства, политических принципах MeToo и агентах криптосталинизма в обществе нарастающей раздражительности.
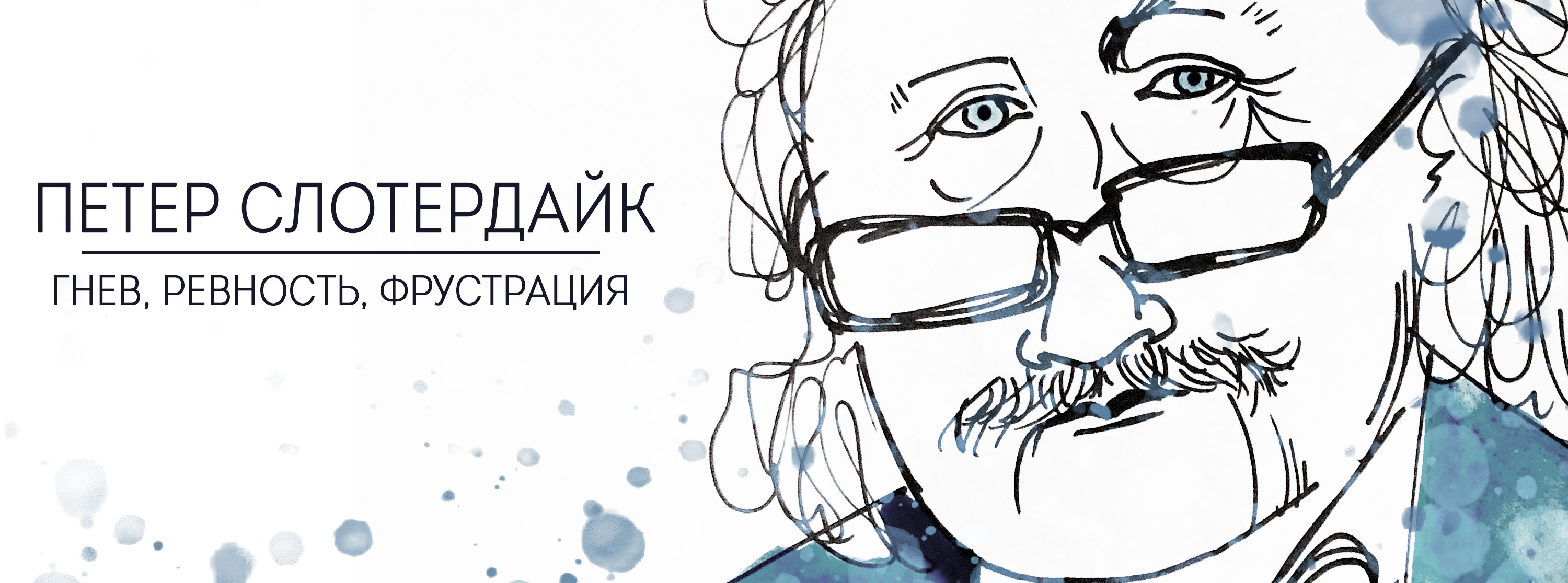
Neue Zürcher Zeitung: Господин Слотердайк, появление современной онтологии некогда стало возможным благодаря вопросу Лейбница: «Почему вообще существует нечто, а не ничто?». Сегодня, в эпоху миграции и прогрессирующего беспокойства, возникает тот же вопрос со слегка смещенным акцентом: почему в принципе существуют общества и мы в них живем?
Peter Sloterdijk: Наше совместное проживание в условиях крупных политических образований — чудо эпохи модерна, для объяснения которого до сих пор было мобилизовано недостаточное количество ментальных ресурсов, несмотря на все усилия социологии и политологии. Того, кто сумеет дать достоверный ответ на Ваш вопрос, нужно считать единственным достойным лауреатом Нобелевской премии мира за все время ее прошлого и будущего существования.
NZZ: Здесь можно с Вами только согласиться, однако так мы не продвинемся к решению вопроса. Скажите же нам, почему мы живем в обществах!
Sloterdijk: Не стоит так торопиться. Уже само понятие «общество» может быть ловушкой для наивных. Разве мы знаем, что оно значит? Если рассматривать национальные государства, в которых мы сегодня, как правило, не можем жить, не жалуясь на них, то нам следует, в первую очередь, исходить из философского удивления. Вместительность современных политических великанов варьируется: от Норвегии, где проживает 5 млн человек, 60-миллионных Италии и Франции, Германии с ее 80 млн человек, 140-миллионной России и 300-миллионных США до Индии и Китая, имеющих на двоих 2,6 млрд жителей. Все это чудеса, в основе которых лежат системные связи и взаимное принуждение. Мы должны разрабатывать их более точно, если хотим существовать в мирных условиях настолько долго, насколько это вообще возможно. К этим механизмам следует подойти со всей осмотрительностью. Знать лично пару десятков или, в лучшем случае, сотен человек, но при этом сосуществовать с миллионами — это ведь чистая алхимия. Так что поспешные разговоры об «обществе» и «коммуникации» скрывают проблему.
NZZ: Можно было бы ответить в духе греческих классиков, сказав: человек как существо общительное неохотно проводит время в одиночестве.
Sloterdijk: Аристотель, конечно же, был прав, когда описывал человека как zoon politikon: человек живет в обществе, поскольку он является общительным существом. В этом зоологическом ответе, однако, заложена тавтология, ведь то же самое можно сказать и о пингвинах, и о муравьях с овцами. Впрочем, старые греки, возможно, и понятия не имели о величине современных обществ. Но они знали: можно только удивляться, когда обращаешь внимание на жизнь других народов. То же самое происходит и с нами, как только мы переступаем границы чужой страны: создается ощущение, будто попал на шумное сборище людей, которые целыми днями дискутируют как одержимые. Нужно провести довольно много времени в их окружении, чтобы уловить суть спора.
NZZ: Таким образом, напрашивается второй ответ: единственным, что сегодня удерживает людей внутри больших тел — народов или наций — является спор вокруг определенных тем. В этом случае политику следовало бы считать не проблемой, как это делалось в прежние времена, а решением: политический спор — это способ соединения всех этих людей, которые обычно слабо связаны друг с другом.
Sloterdijk: Политика — это боль, которая возникает, когда желания одних людей не сходятся со стремлениями других. В этом смысле народы можно понимать как сообщества страдания, травм и нервозности или как коммуны спора. В последнее время я все чаще думаю о Никласе Лумане и его тезисе: все, что мы знаем о мире, мы знаем благодаря медиа.
Медиа — это устройства по перекачке тем. Они же, как правило, и формируют знание о мире, в то время как роль так называемого личного опыта постоянно сужается.
Это одна сторона истины, проявившейся уже в период античности. Афинские граждане времен Перикла извлекали большинство своих представлений о действительности из долитературных медиа своего времени: из городских слухов, мифов, сплетен и выступлений на агоре. Сюда же следует отнести и народные радиопередачи Гомера.
NZZ: Опосредованное знание приобретает все большее значение, опыт же становится менее важным. Что в таком случае будет второй стороной подразумеваемой Вами истины?
Sloterdijk: Общества конструируются посредством разделяемого стресса. Я точно не одинок в убеждении, что в последние годы наше состояние стало определяться тем беспокойством, которое производят медиа. Резкость и токсичность оскорблений нарастает как в Европе и на Западе, в целом, так и в остальном мире: левые нападают на правых, правое крыло атакует леволиберальный мейнстрим, верхи борются с низами, один пол выступает против другого, местные жители — против иностранцев, старое — против нового. Проблема идентичности становится настолько болезненной, как никогда прежде. Все имеющиеся различия, из которых было соткано современное общество, уже сметены. Все существующие дихотомии пришли в движение; все течет, но не так, как мыслил Гераклит. Я действительно подозреваю, что есть некий механизм, который приводит всю систему дискуссий в состояние повышенной нервозности. Назовем его законом нарастающей раздражительности.
NZZ: Современные люди крайне заинтересованы в поддержании своего «Я» как минимальной гарантии существования идентичности. Тем самым, они предчувствуют: если cдашь свое «Я», в
Sloterdijk: Верно подмечено. Однако стоит задуматься о том, что личность всегда балансирует между двух безумий: назовем их максимальной идентичностью и нулевой идентичностью. В случае с первым из них индивидуум растворяется в собственной личности. Подумайте только о язвительном замечании Жана Кокто [1]: «Наполеон был безумцем, считавшим себя Наполеоном». В случае же с нулевой идентичностью индивидуум оказывается полностью деперсонализированным вплоть до полного непонимания, кем или чем он является.
NZZ: Т.е. имеет смысл искать опору в коллективе.
Sloterdijk: Правильно, но нужно учитывать, что коллективы, как и их медиа, справляются со своей задачей все хуже и хуже. В XXI веке уже невозможно оставаться вне медиальной связи, которая усиливает существующие различия и на основании спора о них создает новый, еще более хрупкий вид сплоченности. Медиа пытаются задать основу, внутри которой сами производят потрясение. Они дестабилизируют посредством стабилизации.
NZZ: Звучит не очень, особенно для того, кто сам занимается журналистикой. И в то же время я бы сказал: всеобщее порицание медиа тоже не несет нам ничего хорошего.
Sloterdijk: Нет смысла ругать медиа за
Да и сами люди живут слишком мало, чтобы увидеть происходящее в целом. Даже горы не вечны. Иначе говоря, устойчивость мира является ничем иным, как иллюзией, возникающей вследствие быстротечности человеческой жизни. Сама мистификация долгой протяженности скрывает то, что мы ради когнитивного удобства до недавнего времени считали данным раз и навсегда миропорядком. Но такого фиксированного порядка не существует, и это нелегко увидеть и понять. Даже Дарвин, после того как описал эволюцию видов, почувствовал себя убийцей. Что-то похожее происходит и с другими божественными идеями, а именно — с народами.
NZZ: Тем не менее, еще есть люди, убежденные в том, что народы являются настоящими акторами исторического процесса. В их глазах отдельные люди — голые абстракции, которые могут воплотиться лишь в принадлежности к коллективу.
Sloterdijk: Эта позиция не особо популярна в индивидуалистической цивилизации, но она есть. Да, последние приверженцы романтической философии народов еще существуют. Они вполне серьезно полагают, что народы произошли от Святого Духа. На практике же преобладают прагматичные популисты, ссылающиеся на народ из инструментальных и манипулятивных соображений, причем иногда весьма цинично. Они хотят создать из народа партию, призывающую стать народом, вместо того чтобы быть им сейчас.
NZZ: Популизм проблематичен, поскольку он не воспринимает своих адресатов всерьез. В то же время я не понимаю, почему отвращение к популизму заводит нас настолько далеко, что всякое высказывание о народе per se становится презренным. Ведь, когда говорят «народ», указывают на некую культурную общность, связывающую жителей определенной территории.
Sloterdijk: Конечно, народы существуют. В этом вопросе я частично являюсь сторонником эссенциализма. Это означает, что народы существуют, но они находятся в непрерывном процессе трансформации из мелких и крупных, собственных и чужеродных составляющих, которые в определенных исторических обстоятельствах оказываются втянутыми в материальные и символические общности. Для людей, живших на рубеже XIX — XX века, как и для современников, последнее дополнение является не менее важным, чем предыдущее, к которому мы все привыкли и которое повторяем как мантру: естественный отбор плюс мутация — равно эволюция.
NZZ: То есть касательно животных существует консенсус: они не были всегда такими же, какими мы их видим сегодня.
Sloterdijk: Да, но подвижность человеческих коллективов все еще вызывает большие подозрения. В случае с народами и культурами изменение протекает как бы на поверхности, оно происходит во времени, и его можно наблюдать невооруженным глазом. И здесь мистификация длительной протяженности больше не может служить утешением. Происходит непрерывное самоусиливающееся движение, в ходе которого постоянное оказывается в положении обороняющегося.
Виртуальное растворение народов поражает многих одиночек до глубины души или того, что они считали душой: ускользает воображаемый ими образ самих себя.
Если не существует «французскости», то что тогда делает меня французом? Кто я тогда? Неужели я сумасшедший, принявший себя за француза, за корсиканца, за турка?
NZZ: Тот, кто следит за вашей речью, заметит: Вы работаете над историей культуры ускользания. Это направление стало набирать ход в ХХ веке: люди увидели, как благодаря технологическим инновациям мир изменяется прямо у них на глазах.
Sloterdijk: Вплоть до XIX века временные рамки любых изменений были намного шире, нежели история жизни отдельно взятого человека. В этом отношении кому-то вообще не было дела до всеобщих течений. В ХХ веке этот фильтр вечности, что так долго обеспечивал стабильность картины мира, постепенно выходит из строя. И это феномен, присущий исключительно эпохе модерна: трансформационные процессы настолько ускорились, что их становится слишком много для жизни отдельно взятого человека.
NZZ: Означает ли это, что биографии одиночек все больше сближаются со всеобщей историей?
Sloterdijk: Можно сказать и так. Сегодня дрейф охватывает в том числе и отшельников: он поглощает их даже тогда, когда сами они не двигаются. Впрочем, сам угол, в котором они прячутся, подобен темнице, куда бросают людей, страдающих от недостатка смирения с ускоряющимися переменами. Эта темница не представляет опасности до тех пор, пока ее обитатель признает, что слишком медлителен для этого мира. Отравление наступает тогда, когда медлительность становится слишком навязчивой. Между тем, часть этой темницы населяют так называемые «штурмовики прошлого» [2]: им тоже следует знать меру.
NZZ: Если сместить центр Ваших мыслей к современности, что на самом деле движет людьми сегодня?
Sloterdijk: Я говорю о всеобщей миграционной динамике, которая происходит в несколько этапов. Трансграничный обмен идеями и благами, в том числе и со странами Востока, существовал в Европе уже в Средние века, пусть и в относительно вялой форме. В XVII веке он активизировался благодаря почтовой системе, политике меркантилизма и зарождающейся машинной культуре. Однако только в начале XIX в. начинается новый этап нашей жизни в тех социальных формах, которые можно назвать обществом миграции идей и продуктов. Среди нас начинают, наконец, перемещаться множество истин и товаров, в том числе и чужих, которые постепенно становятся для нас приемлемыми. Просвещение — это культура гостеприимства в отношении идей. За натурализацию этих первых мигрантов в наших головах отвечают университеты и площадки публичных дискуссий, сюда же мы отнесем и потребителей новых благ: стимуляторов, текстиля и печатной продукции. В то же самое время Европа и европеизированная часть мира становятся прибежищем для машин.
NZZ: Разве машины могут быть иммигрантами? Это звучит оригинально, но не очень убедительно.
Sloterdijk: В общепринятом словоупотреблении — нет, но по сути — да. Посмотрите, улицы и парковки современной Германии наполняют порядка 45 млн легковых автомобилей. Сто лет назад их еще не было, сегодня же они повсюду. Очевидно, они являются желанными чужаками — жестяными друзьями, с чьим присутствием мы примирились. Это может зайти настолько далеко, что местные старожилы заработают своего рода диссоциативное расстройство. Когда мы предлагаем другу подвезти его и указываем на припаркованный в конце улицы автомобиль, то говорим: «Я стою вон там!». Если наши сограждане-легковушки получают такой статус, можно считать, что их интеграция удалась на 100%.

NZZ: Если считать такую аналогию полноценным аргументом, имеет смысл с Вами согласиться.
Sloterdijk: То, что я хотел показать на примере автомобилей, работает и в отношении десятков тысяч других помощников, импортированных в нашу повседневность и окружающих наше вот-бытие.
Мы принимаем близость вещей, которых совсем недавно еще не было, — это огромное ментальное достижение, которое вряд ли будет оценено по достоинству.
Помощники нашей повседневности, безусловно, являются еще и источником неприятностей, которые приходится устранять, но в целом мы обходимся с ними вполне заботливо.
NZZ: Развернем наши мысли в более болезненное направление: за иммиграцией незнакомых идей и инноваций следует переселение чужаков. Как мы обходимся с ними?
Sloterdijk: До тех пор, пока личная подвижность существовала в форме туризма, люди — по обе стороны турпутевки — наивно искали радость именно в нем. Всем известно: каждый отъезжающий вернется назад, а тот, кто прибывает, в скором времени исчезнет прочь. Совсем иначе обстоят дела с односторонней мобильностью, которую мы называем иммиграцией в узком смысле. В силу своего массового характера она относится к самым значительным признакам ХХ века, а в XXI будет играть еще большую роль.
Здесь важно учесть, что движение происходит не только с юга на север, как склонны полагать многие европейцы, но и в несколько ином и более глубоком направлении: из сельской местности в урбанистические и субурбанистические агломерации. Дуг Сондерс в своей работе «Город прибытия» впечатляюще продемонстрировал, что мы являемся последствием величайшего переселенческого движения: в течение следующих 50 лет порядка двух миллиардов людей переедут в города прибытия в рамках той же страны и континента либо за их пределами. Эти мощнейшие передвижения представляют собой лишь последний этап всеобщей ускоряющейся подвижности.
NZZ: Выходит, более ранние картины мира работали в условиях медленного, незаметного скольжения, а современные должны соответствовать быстрым изменениям. Что это означает?
Sloterdijk: Великое скольжение уже стало частью общего спектра человеческой жизни. Это значит только то, что нет такого места на свете, где бы ты, как среднестатистический ископаемый человек, был защищен от инноваций. Беспокойство нарастает, но все же многое остается совершенно ясным: человек переносит подвижность, только когда чувствует, что где-то внутри его существа продолжает покоиться некий полюс, который при всех изменениях остается таким же, как прежде.
[…]
NZZ: Преобразование продолжается и чем дальше оно заходит, тем больше становится людей, уверенных в том, что этот процесс можно или, точнее, нужно замедлить. Как к таким эмоциональным взрывам должна относиться политика? Способна ли она уберечь людей от их добровольного перевоплощения в неповоротливых жуков?
Sloterdijk: Ну, она вполне может обращаться к тем, кто не хочет становиться жуком. Объяснять всякому, что подобные мечты гарантировано приведут в среду тех, кто «не боится сказать». Сегодня в берлинском бундестаге есть две партии, которые функционируют по принципу #MeToo: Альтернатива для Германии и Левые. Первые говорят: вчера на улице мы видели слишком много иностранцев, и нам было неприятно. Кто разделяет этот опыт, может сказать: я тоже. Вторые думают: мы видели слишком много менеджеров, на лицах которых читались те непристойные ухмылки, какие бывают всякий раз, когда им переплачивают после очередного распределения бонусов. Кто видит это точно так же, может сказать: я тоже.
NZZ: Означает ли это, что ксенофобские и антикапиталистические движения действуют через присоединение к разделяемому неприятию?
Sloterdijk: Кое-кто пытается охарактеризовать подобные движения при помощи старых понятий «национализм» и «социализм», как будто АдГ является национал-социалистической партией, а Левые — социал-националистической, что, в итоге, означает то же самое. Сегодня оба эти понятия являются ложными, поскольку и классический национализм, и социализм представляли собой наступательные движения, ведомые светлой мечтой.
Альтернатива для Германии и Левые, напротив, являются движениями типа MeToo. Такие движения управляются неприязнью и поддерживаются людьми, которые не могут совладать с тем, что в реальном мире действие предваряет реакцию.
NZZ: Остальные создают условия; принимать участие в их деятельности необязательно, но можно, по крайней мере, проследить за ее ходом и результатами. Если они мне неприятны, я начинаю искать тех, кто говорит «мне тоже». Можно ли описать таким образом то коллективное чувство, которое проявляет себя в сообществах жертв и уже давно является главной характеристикой современных политических движений?
Sloterdijk: Думаю, это неплохая попытка. От движения до партии — один шаг. И в нем кроется некая двойственность: с одной стороны, чрезмерное волнение, а с другой — ничтожный эффект. Оба этих признака обратно пропорциональны друг другу. Впрочем, все политические партии эксплуатируют принцип MeToo. Он проявляется там, где между активными и пассивными возникает слишком большой разрыв. Подобные реакционные движения заметны и в других сферах, где влиятельные мужчины позволяют себе слишком много в отношении женщин, где маститые предприниматели раздражают нас своими слишком навязчивыми инновациями, где могущественное государство все чаще смотрит на своих граждан, как на потенциальных преступников. Женщины, потребители и граждане легко попадают в реакционную ловушку.
NZZ: Уязвимыми чувствуют себя, прежде всего, те, у кого нет стабильности на материальном или символическом уровне. Будем конкретны. Можно ли исправить ситуацию, обеспечив на уровне государства безусловный базовый доход?
Sloterdijk: Можно попробовать, но, я боюсь, ничего не выйдет. С одной стороны, в социальной системе западноевропейских государств уже действуют основные гарантии: в Германии это Hartz IV, в Швейцарии — еще более щедрое пособие. Хорошей жизни они не обеспечивают, но, в известной мере, предотвращают сползание в нищету. Кто утверждает обратное, не имеет понятия о той безнадежной бедности, в которую ввергнуты миллиарды людей по всему миру. Ни о каком успокоении в странах с таким общественным режимом не может быть и речи.
Думаю, еще Фрэнсис Фукуяма в «Конце истории» указал на то, что в обществе, материально обеспеченном хотя бы наполовину, недовольство не только не снижается, но возрастает экспоненциально.
Борьба за признание входит в горячую фазу именно тогда, когда она формально выиграна и все взрослые дееспособные индивидуумы утверждены в гражданских правах.
И здесь мы снова наталкиваемся на закон нарастающей раздражительности. После конца истории, если он вообще имел место быть, в полную силу вступает диалектика: чем больше относительное благосостояние, тем хуже чувствует себя одиночка до тех пор, пока он не оказывается наверху. В обществе, кажущемся умиротворенным, каждый сравнивает себя с другим, не осознавая всей вредности выводов этого сравнения. Иначе говоря: объемы неконтролируемого недовольства в последующем будут больше, нежели возможности поглотить его при помощи имеющихся средств умиротворения.
NZZ: Правильно ли я понимаю: Вы утверждаете, что чем более эгалитарно мыслит общество, тем более агрессивно оно выступает против различий?
Sloterdijk: Абсолютно верно. Потому что остатки неравенства в данных условиях становятся неисчерпаемым источником ресентимента. Как следствие, конфликт будет разгораться между все более недовольными и все более отличными от них недовольными.
NZZ: Но ведь можно объяснять эту ситуацию позитивно: масштаб неудовлетворенности является мерой, позволяющей определить уровень эгалитарности в обществе. Власть разделится на множество властей, каждая из которых будет обладать собственным статус-кво. В этом процессе разделения каждый хочет получить свой кусок пирога: чем более равное общество, тем более оно конфликтное. Такова цена эмансипации и равного доступа к власти и ресурсам.
Sloterdijk: Можно приветствовать подобные альтернативные описания. Они указывают нам на то, что мы не должны прозябать в условиях монокультуры недовольства. Меня, например, веселит тот факт, что перед лицом трагедий ХХ века появился один американский социальный психолог по имени Стивен Пинкер, который со всей настырностью и статистическими выкладками отстаивал позицию, согласно которой жизнь людей на планете, в целом, стала намного лучше, чем в прежние времена. И тут многие начинают чесать затылок, будучи уверенными в том, что ослышались. Даже если допустить, что он [Пинкер] не совсем прав, его утверждения обладают проясняющим эффектом. Это позволяет придать существованию конфликтующей и, можно даже сказать, провоцирующей общественности позитивное значение. Куда больше следует бояться той гробовой тишины, которую несет с собой культура согласия. Монотематизм как раз и является худшим из всего возможного. Как только он будет объявлен, мы окажемся втянутыми в войну. Ведь только в состоянии войны и террора мы все будем обязаны говорить одно и то же.
NZZ: И как тогда общества, которые всегда обладали более устойчивой идентичностью, сумеют удержаться в условиях нестабильности?
Sloterdijk: Сегодняшний мир и его дебаты с каждым днем все больше напоминают мне семинар Лумана, который вышел
NZZ: Приведите пример.
Sloterdijk: Как только несчастный господин Телькамп [3] заявил, что 95% беженцев и иммигрантов, прибывших в Германию начиная с 2015 года, были заинтересованы лишь в получении доступа к нашей системе социальных гарантий, его высказывание тут же поглотили мнения второго порядка. Здесь дело не в том, что его утверждение ложно — эту ложность используют для того, чтобы избавиться от
NZZ: Боюсь, все намного сложнее. По логике Лумана, статистику следует считать не выражением чистого факта, а лишь предпринятой статистами попыткой повлиять своими методами на восприятие.
Sloterdijk: Конечно. У всего есть тенденция. То, что это стало заметным, является побочным эффектом всеобщей подвижности: ускользают не только мнения, но и знание. Эффект объективности ослабевает, в действие вступают гнев и ревность [4]. Наше время все больше определяется вульгарным релятивизмом или, точнее говоря, дешевой версией агностицизма, которому хотелось бы, чтобы все было не так, как представляют деятели науки и высокой культуры. В этом случае никому уже не понадобится учиться чему-то лучшему. Здесь мы наблюдаем грубый вариант критической теории, при котором прежде естественное «лучшее» мыслится уже как «иное». Утопический потенциал мышления в категориях «все может быть по-другому» состоит в том, что на выходе остается лишь пустое «иное». Значение этого, скорее, неутешительно. Среди прочего, регрессия «лучшего» до «иного» хорошо видна на примере названия партии АдГ: она украла термин «альтернатива» и направила его в противоположное русло. Своим изначальным оттенком этот термин обязан Рудольфу Баро [5], пытавшемуся изобрести либеральный социализм.
NZZ: Это звучит несколько противоречиво, учитывая, что тогда утопия еще как
Sloterdijk: Сегодняшнее замешательство точно продиагностировано в самой известной работе Фукуямы. В ней он сказал: мы больше не можем представить себе жизнь в таком порядке вещей, который существенно отличался бы от нашего и, в то же время, был бы лучше нашего. Фукуяма был абсолютно прав. Возможен другой мир, именно худший, и мы его уже получили. В конце истории прогресса как раз худшее представляется наиболее вероятным.
NZZ: Является ли этот дрейф неизбежным или Вы видите какую-то возможность его приостановить?
Sloterdijk: Мы стремимся не к успокоению, а к тому, чтобы канализировать потоки. Наша ситуация подобна тому же древнему Египту в период междуцарствия: предыдущий режим фараона распался, а новый еще не утвердился; Нил тем временем делает все, что хочет, затапливая угодья, деревни и храмы. Устои попраны, справедливость изгнана. Новый фараон, способный овладеть мастерством управления потоками, еще только должен родиться.
Одним словом, нам не хватает неоегипетской науки канализирования или, говоря современным языком, мирового правительства.

И пока его нет, нас будут наполнять оголтелые психополитические энергии вплоть до неизвестного исхода.
NZZ: Вы проектируете картину текучего мира, и здесь нам не продвинуться с понятиями физики твердых тел. Это уже диагноз. Он скрывает недостаток и не вселяет уверенности.
Sloterdijk: Мы работаем над тем, чтобы развивать подходящий язык. Однако до той поры, когда описание новых феноменов и управление ими будет нам по силам, может пройти целое столетие.
NZZ: Вы заигрываете с пессимизмом.
Sloterdijk: Нет, мое послание имеет радостное начало: вместе с забытым великим историком права Ойгеном Розенштоком-Хюсси я хочу сказать: решения опережают проблемы, пока дело не доходит до их применения. Великие агенты мировой сцены будут изводить себя до тех пор, пока однажды не найдут подходящий способ взаимодействия с непредсказуемым.
NZZ: Не так давно «New Yorker» опубликовал весьма развернутый портрет, в котором назвал Вас самым воинственным мыслителем Германии. Это, по-Вашему, комплимент или упрек?
Sloterdijk: И ни то, и ни другое: это ошибочный приговор. Я никогда не был воинственным, вплоть до того единственного раза, когда двадцать лет назад напал на моих доносчиков по делу о человекопарке [6]. Видите ли, я знаю себя уже достаточно давно. Хочу сказать, что я — идиллик, с пониманием относящийся ко многому из того, что нарушает идиллию.
NZZ: Вы как раз разметили панораму великого дрейфа современности и в ней уже отвели себе место, описывая свою позицию как левоконсервативную. Что Вы в точности под этим подразумевали?
Sloterdijk: Поначалу я думал, что выражение говорит само за себя, однако, ввиду возрастающей неосведомленности это предположение оказалось ошибочным. Если быть немногословным: за последние 150 лет на основании modus vivendi индустриального общества европейские левые вместе с либералами добились невероятных и, возможно, максимальных выгод, расширив границы свободы и жизненных возможностей для огромного количества людей на этом куске земли. До недавнего времени эти выгоды называли достижениями. Те, кто считает их достойными защиты, в том числе и я, являются консерваторами вне зависимости от того, называют они себя так или нет.
NZZ: Почему же тогда скауты добра относят Вас к правым?
Sloterdijk: Паскаль говорит, что сердце имеет основу, не знающую разума. Это подразумевает вывод: кто независим, тот зол, а кто зол, тот правый. Я независимый, признаю!
NZZ: При каких ментальных условиях вообще может быть справедлив силлогизм «консервативного» и «праворадикального»?
Sloterdijk: Ясно, что он не справедлив, а только используется отдельными людьми в корыстных целях — я говорю «людьми», а не «болванами». С исторической точки зрения, этот запутанный мыслительный образец уходит корнями в 30-ые годы ХХ века, когда московский ЦК запустил лозунг, приравнивающий западную социал-демократию к «социал-фашизму». Тем самым была развязана война понятий. Ее отпечатки до сих пор хранятся в головах, не знающих, откуда происходит все то, о чем они говорят. Старые леваки уже умерли, а криптосталинизм умудрился выжить незаметно для всех на уровне габитуса. Следует выяснить последствия того языкового регулирования, согласно которому такая левоцентристская партия, как СДПГ, должна называться фашистской. В результате, большая часть левых интеллектуалов Европы так и осталась прозябать на
NZZ: Несмотря на всю очевидность абсурда, я постараюсь.
Sloterdijk: Итак, головоломка звучит следующим образом: если немецкие социал-демократы, с точки зрения других левых, являются фашистами, то что тогда собой представляют либералы в Германии и бог весть где еще? Что такое консерваторы в прежнем смысле этого слова? Из фрустрированного криптосталинизма произрастает силлогизм, который до сих пор проявляет себя то тут, то там при посредстве прогрессивной прессы: социал-демократы консервативны, консерваторы — это правые, правые — это праворадикалы, а праворадикалы — это фашисты. Впрочем, закрепившийся в нашей среде криптосталинистский габитус является, прежде всего, продуктом скрытой боязни стать не на ту сторону. Товарищ Сталин отбрасывает длинную тень. Он сформировал политику страха, которая незаметно действует по сей день.
Агенты скрытой боязни действуют сегодня так же, как тогда: лучше поскорее примкнуть к обвинителям, чем самому оказаться под прицелом.
NZZ: Я предполагаю, Вы не хотите называть имена.
Sloterdijk: Совсем нет, нужно дождаться подходящего момента.
NZZ: Для либерального наблюдателя со швейцарскими корнями Ваши размышления звучат достаточно авантюрно.
Sloterdijk: Вы уверены? Разве NZZ как флагмана швейцарского либерализма недавно не упрекали в том, что она катится вправо?
NZZ: Это была плохая шутка — так мы ее и воспринимаем. В открытом море нет углов.
Sloterdijk: Значит, вы плохо знаете тех, кто их расставляет. В случае чего у них и Атлантика окажется справа.
NZZ: Как Вы совмещаете это со старым добрым либерализмом?
Sloterdijk: Для меня либеральность является тем, что я воспринимаю в качестве своего естественного состояния. Делать из этого программу было бы явным шагом назад.
NZZ: Что бы Вы ответили своим критикам, в частности, еще уцелевшим сторонникам критической теории?
Sloterdijk: Разве четыре десятка книг не являются ответом?
NZZ: Как Вы умудряетесь сохранять свою веселость в условиях полного отсутствия порядка?
Sloterdijk: Тут Вы тронули за живое. Я остаюсь выжившим представителем того поколения, которое в свои юные годы видело перед собой широко распахнутые двери. Никогда в жизни не смог бы предположить, что в более позднем возрасте стану свидетелем нелиберального регресса, переживаемого нами сегодня как слева, так и справа. Слава богу, у меня еще есть друзья, которые родились в другие времена, также я знаком с молодыми, которые способны передать импульс дальше. Касательно всего остального, я бы позволил себе вольно процитировать Талейрана: тот, кто не жил во времена упадка, ничего не знает о сладости жизни.
Примечания:
1. Жан Кокто (1889 — 1963) — французский писатель, художник, драматург и режиссер
2. В оригинале — Rückwärtsstürmern (реакционисты и реваншисты)
3. Уве Телькамп (род. 1968 г.) — немецкий писатель
4. В оригинале — Zorn und Eifer. Здесь обыгрывается знаменитая максима «sine ira et studio» («с гневом и пристрастием»).
5. Рудольф Баро (1935 — 1997) — философ, общественный деятель ГДР и ФРГ, идеолог зеленого движения
6. Имеются в виду дебаты, развернувшиеся после публикации доклада П. Слотердайка «Правила для человекопарка». Подробнее об этом — в книге: Слотердайк, П., Хайнрихс, Г.-Ю. Солнце и смерть. Диалогические исследования / Пер. с нем. А. Перцева. М.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015.
Перевод осуществлен по публикации Neue Zürcher Zeitung.
Все вопросы переводчику можно задать здесь.
