Литературная левая: коллективный диалог одного социолога и шестерых поэтов, проведенный вслепую
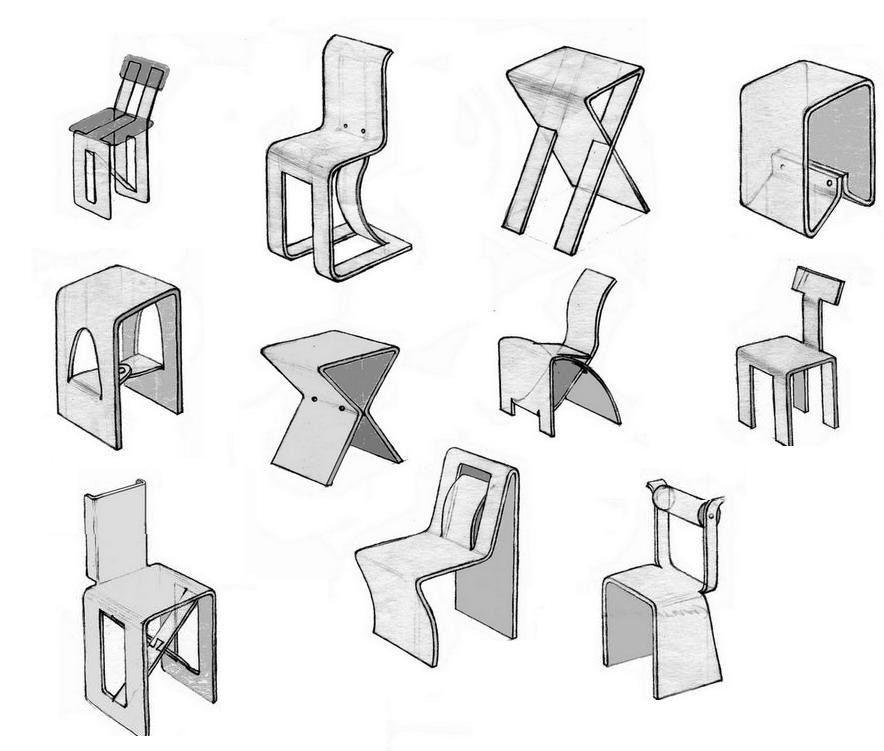
По тексту материала, опубликованного в #15-16 [Транслит]: Литературный труд, конфликт, сообщество, создана многоканальная видео-инсталляция П. Арсеньева «Разделяя сказанное / Crowd-speaking» (Институт ProArte, 2015)
Проект Гёте-института в
Олег Журавлев (предуведомление): Мне показалось, что самое время обсудить, что может означать сегодня словосочетание «левая поэзия». Эта потребность вызвана вовсе не неизбывной страстью левых к манифестам и программным дискуссиям. К обсуждению подталкивает сама сложившаяся ситуация, в которой критики говорят о гражданской, ангажированной, политической и даже «левой» поэзии как о
И неосторожные в своей категоричности суждения о «левой поэзии» извне, и отсутствие публичной и согласованной реакции со стороны самих левых неудивительны: постсоветский комплекс заставляет видеть во всем, именующим себя «левым», наследие или реинкарнацию культурных паттернов «совка»: подмену языка искусства агиткой, грубое использование эстетических форм «в политических целях» и т. д. Эти стереотипы подчас оказываются сильнее желания разобраться в устройстве современной левой поэтической сцены. При этом сама «литературная левая» только начала складываться, а ее эстетики — оформляться, поэтому было бы странным ожидать от этих авторов коллективного манифеста. Вместе с тем, именно отсутствие отчетливых формулировок саморепрезентации позволяет критикам и оппонентам видеть в современной левой литературе то, что они хотели бы в ней увидеть. Однако, на мой взгляд, внутри сообщества «литературной левой» уже сложилось если не понимание, то интуиция некоторых важнейших общих, объединяющих это сообщество представлений о взаимосвязи поэтического и политического, стратегиях микрополитики левых внутри литературного поля, принципах литературного труда и производства, «литературного быта». Не менее важным моментом является созревание некоторых принципиальных разногласий по этим ключевым пунктам. Однако и общие принципы, и разногласия, остаются неартикулированными. Общаясь со многими представителями «литературной левой» все эти годы, я ловил себя на одной мысли — что они, так много делая вместе и так много общаясь друг с другом, нечасто обсуждают «программные» вопросы. Что собой представляет или чем могла бы быть левая и авангардная поэзия сегодня, в эпоху деполитизации культуры и общества? Какова связь и где находятся точки соприкосновения между искусством и политическим активизмом? Можно ли говорить о сообществе левых поэтов в современной России? Все эти вопросы как будто бы откладываются на потом. Но когда о «левой поэзии» начинают писать как об устоявшемся феномене, часто стигматизируя ее, необходимо задать эти вопросы напрямую — и начать отвечать на них. Поэтому я и решил задать их, спровоцировав дискуссию. Нужно, впрочем, пояснить, что в действительности я взял у каждого из «участвующих в диалоге» интервью, а затем сфабриковал из полученных реплик дискуссию, на деле не имевшую места или ведущуюся вслепую. Такая а-топичная форма может как служить метафорой настоятельной необходимости очного диалога, так и лучше намечать и прояснять на данном этапе как общее, так и расхождения по важным вопросам литературной теории практики.

Павел Арсеньев: Несмотря на соблазнительную тавтологичность определений пророков автономии мне представляется прежде всего необходимым ввести некоторую различающую классификацию, с чего я и начал, будучи поставлен перед вопросами Олега (см. таблицу ниже). Политическое же действие и активистскую практику я вижу в экспериментальной работе с языком и в подрывной деятельности на территории самого искусства прежде всего. Более того, хотелось бы напомнить и заядлым активистам, что больше политической практики порой обнаруживается в способе организации словесного материала. Это не пустые слова — один доклад, который я готовил для анархо-фестиваля «Черный Петроград», назывался «Поэзия как самоорганизация языка» и должен был показать, что большее раскрепощение заключено не в тематическом выборе анархистской субкультурной чувственности или оглашении пусть даже очень радикальной политической программы, оформленной ямбом с перекрестной рифмовкой, а в «отвлекающемся» от «непосредственной» активистской повестки и риторических штампов т.н. «гражданской лирики» письме, в котором сами слова находятся в отношениях гражданской самоорганизации, а то и гражданского конфликта, выливающегося в том числе в нелинейные способы организации языкового материала и эксперименты с горизонтальными медиа, расширяющие возможности поэтического синтаксиса. По этой же причине я довольно скептичен и в отношении «активистской поэзии» в духе новых Маяковских чтений. Несмотря на свои претензии на революционность, авторы этого круга, как мне кажется, заблуждаются касательно степени своего радикализма, потому что при всех сопутствующих доблестях других рядов (активизм, публичность, etc), ситуация чтений на улице никак не гарантирует перестраивания собственно языкового строя, и это ведет к тому, что в этой среде, как правило, некритически сохраняются самые конвенциональные представления о поэтическом письме. Грубо говоря, намерение совершить социальную революцию до революции языка по очевидным причинам иллюзорно, если не вредно.
Кирилл Медведев: Это напоминает мне позицию аполитичных литераторов, которые видят свою задачу в создании нового канона, позволяющего отправлять «власть номинации»: это — литература, а это — нет.
Павел Арсеньев: Напротив, проблема здесь вовсе не в том, что поэзия новых Маяковских чтений не отвечает канонам, а в том, что такое — инерционное — письмо и является каноническим (что для меня синонимично догматическому, некритическому, etc). Революция, в том числе и прежде всего языковая, возможна только в противофазе каноническому, и списывание условных маргинальных поэтов-активистов происходит не
Кирилл Медведев: Вместе с тем, твоя собственная поэтическая практика последних лет предполагает помещение поэзии в политический контекст. Обладая лидерскими качествами и амбициями, ты формулируешь некие позиции, лозунги и требования на определенном языке и предлагаешь разделить их определенному кругу людей. Надо сказать, что это то, чем занимаются лидеры любой действующей левой организации. Другое дело, что ты обращаешься к интеллектуальной аудитории начитанных активистов и продвинутых студентов, в которой марксистские штампы, ортодоксальные формулировки не работают. Поэтому чтобы выразить запросы этой среды — и свои собственные запросы — ты ищешь новые интонации и формулировки, но я бы не стал называть это созданием нового языка. Твой лозунг «Вы нас даже не представляете», четкий и емкий, развернутый на митинге, — отличный пример экспериментальной работы на границе политики и поэзии, вернее, пример того, как работа, в том числе поэтическая, которая ведется в относительно узкой среде и многим кажется герметичной, в моменты политического подъема способна обрести политический смысл, и не оставляя собственных оснований, стать достоянием большого политизированного движения. Я считаю, что ставка на изобретение нового языка неотделима от ставки на новые социально-политические конфигурации, от нашего участия в их формировании.
Я не очень понимаю, что такое революция языка. Я знаю, что политическая революция происходит в тот момент, когда вслед за крахом экономики и/или кризисом управления язык власти, пытающийся идеологически прикрыть этот кризис, перестает работать, быть убедительным для огромного большинства, которое в этот момент как бы наделяет активное меньшинство правом на насилие для свержения власти. А дальше начинается борьба (среди прочего, и на уровне языка, конечно) за то, чтоб политическая революция стала социальной. Очень сложная, многоуровневая борьба, в том числе в тех архаичных пластах сознания, которые революция обычно выворачивает на поверхность.
На мой взгляд, мы не изобретаем новый язык, чтобы потом сказать: это новый язык, а это старый. Наша главная задача — создавать новую зону дискурсивного эксперимента и политического действия на границе между поэзией и активизмом. И в этом пространстве стихи, к примеру, авторов новых Маяковских чтений имеют другое значение. Я понимаю твои, Паша, претензии по поводу архаизма, явной неотрефлексированности определенных пластов их поэзии и мысли. Но факт отрефлексированности и инновативности поэтики еще не наделяет поэта и его текст политической функцией. Я бы даже сказал, что существует парадоксальная связь между поэтической архаичностью и политической новизной.
Представление о поступательном универсализирующем шествии капиталистической глобализации вкупе с постмодернистской чувствительностью по планете не оправдалось, и все эксцессы, говоря словами Троцкого, «неравномерного и комбинированного развития», в том числе культурные, налицо. Можно только надеяться, что через десятки лет дети или внуки тех, кто сегодня оказывается вне доступа даже к элементарному образованию, смогут прочитать Маяковского, Гумилева или, например, Омара Хайяма и может быть, воспримут их как
Павел Арсеньев: Вопрос о пространстве активистского действия на границе литературы и политики представляется мне важным, прежде всего, в смысле проблематизации статуса и функции самого понятия границы. Если в начале каждый из нас заворожен известными попытками авангарда преодолеть литературу и литературность, то на практике (и, следовательно, в ходе литературной борьбы) эта позиция уточняется, переосмысляется: так, я совсем не призываю к тому, чтобы поэзия слилась с активистской практикой (даже на этапе объединения «Поэзия прямого действия» подразумевалась не просто прямота высказывания, намного более наивная с точки зрения функционирования языка, но некая перформативная включенность высказывания в действие по прямому изменению (политической) ситуации, являющейся объектом дискурса[1]). Очевидно, что само движение к границе (как это направление движения зафиксировано в названии одного претендующего на радикализм издательства), как и стремление к выходу за ее пределы, не столько чревато прорывом за эту самую границу (собственно, куда, как не в принципиально другое поле?), сколько де факто является шантажом находящегося внутри этих границ во имя их расширения наощупь и размещения бунтовавших (внешнесть устремлений которых опровергается их собственной критической адресацией к истеблишменту) на вновь присоединенных территориях в статусе наместников. Эта логика работает вне зависимости от того, сознает ли стремящийся за границы свой местнический выигрыш или свято верит в существование воображаемого déhors («вне»). Иногда такой стихийный радикализм позволяет только лучше выполнить задачу (также как наиболее успешные попытки побега из «тюрьмы языка» всегда оказывались впоследствии снабжены и наиболее подробным протоколом (само)описания), однако необходимо понимать: полный отказ от дипломатического представительства «внутри» грозит утратой точки референции самого демарша, по какому счету его собственно нужно судить, если он отвергает распространение юрисдикции всяких литературных законов на себя? Т. е. выходя за пределы пеленгации литературы даже самый радикальный отказ от нее не будет значить ничего, его просто не зафиксируют радары литературы (и, следовательно, никакие другие, если только эта попытка не вляпается в другое ведомство, что тем более не соответствует порыву вовне). Но в целом вера в существование «вне» должна, видимо, сохраняться в качестве регулятивного принципа, позволяющего вообще границы нащупывать, проверять их на прочность, а то и переворачивать топологические отношения внутри подведомственной территории: уходят из города, чтобы основать его центр в новом месте, как мы хорошо знаем по риторике одной «рабочей группы».
Так, к примеру, пореволюционное искусство единственной и успешно пройденной границей считало социальную революцию, за которой должно было следовать растворение искусства в жизни, но в действительности произошла лишь тривиализация художественных форм и артистических практик, поскольку границы больше не ощущалось. Собственно, именно граница и является единственной топологической реальностью авангарда, а ее многократное партизанское пересечение в различных направлениях со все новыми контрабандными партиями — его призванием. Никакое стирание/преодоление границы не гарантирует дальнейшей безоблачной коммунистической реальности искусства, но требует своего все нового и нового повторения и все пущего изощрения. Во всяком случае, эта реальность — более бесприютная, чем прорыв искусства к некоей самой жизни, растворение в некоей активистской политике —является единственной для меня очевидной сейчас.

Кирилл Медведев: Мне, как и тебе, Паша, идея растворения искусства в жизни никогда не была близка, я всегда считал, что граница, постоянно переосмысляемая и проблематизируемая, должна быть. Но дальше обязательно появляется фигура охранителя этой границы, который использует свой символический капитал для весьма произвольного жеста отделения литературы от
Мне кажется, главное, чего мы добились за последние несколько лет, отстраивая и преодолевая разные типы активистской, политической коллективности, утверждая и доказывая на практике отсутствие противоречия между автономией искусства/науки и ангажированностью, — мы выстроили систему координат, которая, не отменяя границу между искусством и жизнью, поэзией и политикой, постулирует постоянную необходимость проблематизировать ее, существовать на ней (делая вылазки то в ту, то в другую сторону), соотносить собственное эстетическое и коллективное политическое, дает возможность заниматься совершенно разными вещами — от прикладного политического творчества до сугубо индивидуальных поэтических высказываний, встраивая то и другое в общее проблемное поле. И мне кажется, сходить с этой позиции нельзя ни в коем случае.
Павел Арсеньев: Если говорить о связи поэзии и активизма, то мой артистический проект включает множественные активистские практики в качестве только одного из типов стратегии пересечения границы. Но если, грубо говоря, раздача листовок со стихами у метро больше не нарушает гладь повседневности, а становится еще одной рутинизированной практикой раздачи листовок у метро, то никакой телеологии служения поэзии/политике — вопреки усталости раздачи и автоматизации ситуации — не существует, существует только оперативная задача деавтоматизации артистического мышления и действования в любой из возможных форм (порой не имеющих ничего общего с узнаваемой политической практикой, не говоря уж об артистической). В этом смысле мой проект и понимание авангарда не имеет ничего общего с накопительством, которое отличает любого строителя канона, «прирастителя смысла», так как в его системе всегда есть некое добро («смысл»), которое надо наживать, окучивать, урожай которого нужно собирать, потом везти продавать, извлекать из этого прибавочную стоимость, вкладывать в новую рассаду и так далее. Как по мне, смысл имело бы этот самый смысл не наращивать, а истреблять, вместо его культивации — вычеркивать загустевающие словесные сочетания (как я делаю в одном своем тексто- и
Кстати, я совершенно не имею виду, что раскрепощение ограничивается речевыми актами, новое, как и старое, может корениться и в самих практиках (использования языка): вы выходите на вроде бы протестный митинг и вдруг замечаете, что на нем снова один говорит в микрофон, а остальные слушают и снова оказываются лишены своих голосов. Так и было, когда мы решили в декабре 2011 попробовать перенести принципы поэтической субверсии на практику политической манифестации и раздавали всем пустые таблички с маркерами, что я считаю большим самоорганизационно-языковым изобретением чем любой индивидуально придуманный субверсивный лозунг. В этом я вижу демократический потенциал той авангардистской стратегии, которую я условно назвал бы «самоорганизацией означающих» и которая является условием самоорганизации непредставленных социальных групп. И все же без субверсивного эффекта первой, мобилизационный эффект второй может иметь место только на авторитарной, зачастую вождистской основе, не имеющей ничего общего с подлинно революционными задачами. Поэтому я отказываюсь говорить об «искусстве на службе революции»; как уже было однажды предложено, это революция должна поступить на службу искусству для того, чтобы быть действительно меняющей отношения между людьми и словами, а не только фамилии на плакатах и досках почета.

Эдуард Лукоянов: На мой взгляд, и амбиция революции языка, и идеал политической поэзии являются утопичными в плохом смысле слова. Революционизировать язык бессмысленно, поскольку язык — это отдельное существо, менять его сейчас может только мем. Мы общаемся луркморовскими словечками и это нас цепляет, почему? Потому что в этом нет никакой цели, это всего лишь языковая игра. Поэзия должна не думать о политизации или деконструкции языка (хотя деконструкция языка необходима), она должна стремиться к тому, чтобы рождать и запускать вирусы. Что же до политических стихотворений вроде тех, которые оглашаются на новых Маяковских чтениях, то они могут спровоцировать людей на написание новых политических стихов, но могут ли они сподвигнуть людей выйти с гранатами к Кремлю? Когда человек читает политические стихи, потом пишет политические стихи, а затем выходит с ними к памятнику Маяковского, на это без слез смотреть невозможно — это суходрочка. Акт протеста должен быть не только и не столько текстуальным, сколько, и прежде всего, физическим — вместо оглашения гражданской лирики следовало бы забросать камнями машину депутата. Именно в этом проблема «политических стихотворений»: когда ты их пишешь, ты высвобождаешь свое политическое либидо, тогда как лучше пойти и поджечь машину, чем, кстати, занимаются очень многие люди. Задача подлинной политической поэзии состоит в том, чтобы заставить человека совершить террористический акт. Цель настоящего авангарда — вышибить слушателя из удобной реальности, в которой все, в действительности, неудобно. Обыватель живет себе спокойно, не ощущая того, что на самом деле с ним происходит настоящий ужас. Я вижу политическую функцию поэзии в определенном шоковом эффекте, благодаря которому мы начинаем осознавать, что происходит в мире в тот самый момент, когда мы обсуждаем с вами левую поэзию. Именно такой эффект производит поэзия Валерия Нугатова. Своим поэтическим хардкором и своей манерой исполнения Нугатов заставляет вспомнить об ужасе, в который мы погружены — в результате у большинства его слушателей это вызывает либо защитный смех, либо испуг, либо желание ударить автора, чтобы больше этого никогда не произносилось. Ужас, ощущение которого возвращает нам поэзия Нугатова, — следствие осознания бессилия людей и общества: бессилия мигрантов, к которым, кстати, относится и сам Нугатов, перед полицией и чиновниками, бессилия обывателей перед потоками масс-медиа и т. д. Стихи Нугатова, посвященные Деду Хасану, как и хоссонистский культ, — это элемент трансгрессии. И я понимаю, как это возникло у Нугатова: когда убили деда Хасана, все новости были только об этом. Но кто такой дед Хасан? Никому не известный криминальный авторитет (ведь мы с вами живем не в криминальном мире). В ответ на массированный, атакующий поток новостей о деде Хасане Нугатов написал: «дед хоссан носцал в стокан». Интересно, что если во «Фрилансе» Нугатов конструирует нарратив о том, что с нами происходит, то здесь он просто берет некую единицу реальности и стремится уничтожить ее через рифму и повторение. Аннигиляция первоначального смысла медийной новости за счет ее повторения в разных вариациях — это жест, который возвращает к осознанию бессилия общества.
С другой стороны, для того, чтобы писать по-настоящему революционную поэзию, необходим мощный политический импульс, импульс извне. Поэт рождается, когда происходит массовая гибель людей, трагедия, которую поэт впитывает. Я начал писать стихи после того, как произошла трагедия в Беслане. Для меня это очень важно не только в поэзии, но и в публицистике: я постоянно пишу про Чечню и Афганистан, чтобы люди не забывали о том, что там происходит, о том, что это есть.
Кирилл Медведев: Творчество Нугатова, который реагирует своей поэтической деконструкцией на малейшее, скажем так, дискурсивное уплотнение гражданской повестки (например, сюжет про «камин-аут») — отличная иллюстрация амбивалентности политического эффекта «критики» поэзии, того, как и близкое мне в целом представление о свободе художника подрывать и деконструировать любые нарративы при некритичном перенесении из искусства в социальную сферу ведет к деполитизации, к неспособности разделить ни с кем никакие лозунги, потому что становясь коллективными, они, конечно же, моментально профанируются. Это, я считаю, хорошая поэзия, и она может играть политическую роль, если автор одновременно разделяет некоторые политические ценности сообщества и встраивает в нее свое творчество как критику, а может быть и стопроцентно деполитизирующей, если автор просто программно подрывает политическую солидарность других из своего частного деконструктивистского экспериментариума. Ведь если поэт может бороться за революцию (языка или чего бы то ни было) у себя в кабинете, то почему кто-то другой, врач или пожарник, должны делать это на площади?

Никита Сунгатов: Поэзия Нугатова имеет мощный политический импульс, потому что она критикует устройство литературных институций и литературное сообщество. Между прочим, важное событие, которое в
Я считаю, что одна из политических функций новой литературы состоит в критике, которая ведется изнутри или на границе, в проблематизации болезненных точек в литературе, которых может быть множество: это и властные отношения в литературном цехе, и тоталитарность языка и речи, и проблемы литературного быта. Если, к примеру, журнал «Воздух» работает с уже готовым материалом: вот это уже литература, то наш вопрос должен быть поставлен так: что такое литература? Может быть, это нечто другое? Можно подходить к литературе с самых разных сторон, но это всегда должны быть проблемные стороны, не конформные и не комфортные.
На мой взгляд, подлинно политическая поэзия должна стремиться к тому, чтобы сам акт поэтического высказывания становился политическим поступком. После того как Мандельштам написал известное стихотворение «Мы живем под собою не чуя страны…», он его никому не показывал, потом прочитал Пастернаку и тот сказал, что это не акт искусства, а акт самоубийства.
В

Галина Рымбу: Чувствительность к своему положению в поле литературы как политический принцип вытекает из идеи литературной борьбы. Она есть у [Транслит], она, кстати, была и у Дмитрия Кузьмина, когда он создавал Вавилон. Эта борьба должна была способствовать появлению и установлению новой литературной формации. Но уже гораздо позже (и независимо от Кузьмина) это стало в некотором смысле «искусственной» борьбой, потребность в которой отчасти была вызвана изоляцией литературы от
В советское время неподцензурная поэзия развивалась в сообществах, организованных горизонтальными связями (что само по себе очень политично), однако это сообщество находилось в
Никита Сунгатов: Я хотел бы вернуться к словам Эдика о том, что поэтами становятся под впечатлением от массовой гибели людей. На мой взгляд, никаких специальных условий для становления настоящим политическим поэтом не нужно. И, вместе с тем, политический опыт, опыт какого-то политического события, действительно, важен. Разочарование в «Болотном» протесте стало одним из стимулов политической эволюции для молодых поэтов из Литинститута, которые затем примкнули к «литературной левой».
Галина Рымбу: Действительно, наш «левый поворот» (если только это точное выражение) в плане взглядов наметился под влиянием тотальной политизации университетской молодежи в протестах 2011–2012 гг. Как только стало понятно, что либеральная повестка «честных выборов» в текущей ситуации бессильна, мы стали обращаться к левой проблематике, но через теоретические и эстетические работы: если ты читаешь Деррида, то рано или поздно дойдешь до «Призраков Маркса»; читая Бадью, ты рано или поздно задумываешься: а почему он левый? Еще один важный толчок — студенческий активизм. Год назад мы участвовали в самопальной «протестной кампании», требовали от администрации Литературного института повысить стипендии, вовлечь студентов в процесс принятия административных решений, понизить плату за общежития, а два года назад делали там же альтернативную образовательную программу (с лекциями, философскими семинарами и пр.), в ходе которой уже добирали левый теоретический багаж. Так складывалась политическая субъективность.
Что же до субъективации поэтической, то можно сказать, что субъект в актуальной поэзии как бы «расщепляется» на разные голоса, на разные культурные идентичности, что его речь масочна, многолика, а формы такого письма фрагментарны. Но такой разговор не очень продуктивен, хотя ясно, что это самое «расщепление» на разные голоса по своей природе очень политично и поэтично. Желание «держать речь» от имени различных и многих, желание понять природу их речи, обнаружение в себе различных идентичностей и голосов само по себе политично. Но мне бы хотелось здесь сказать о фрагментарности в отношении к утопии, поскольку нынешнее поэтическое уже определенным историческим и сущностным образом связано с утопическим (и с мессианским) ожиданием. Блох пишет о незавершенности, фрагментарности произведения искусства как о его неизменном свойстве. Произведение искусства не может быть завершено, не может быть целым, оно всегда уже-фрагментарно. Но оно может быть «точным». Что это за точность? Утопичность искусства, пишет Блох, проявляется в том, что «здесь проливается свет на то, что обычные непритупленные чувства пока еще едва ощущают в индивидуальных, общественных или естественных процессах». Но именно в искусстве оно является парадоксальным образом наиболее оформленным, вот в чем политическое преимущество искусства над проективностью политики. Что же касается нарочитой фрагментарности, распыленности в отсутствии (заложенной в методе), которая явлена в некоторых современных стихах, то, на мой взгляд, в 2014 году, в России, в мире она не является «политичной», поскольку не говорит нам ничего о нынешнем состоянии человека и общества (в отличие от того человека и общества, с которым можно было иметь дело здесь даже 20 лет назад). Это говорит о некоторой политической растерянности, которая, конечно, имеет место быть, но не отражает сути происходящего перед «рывком мира». Хотя здесь я руководствуюсь уже совсем субъективными соображениями и предчувствиями. «Фрагментарность» таких стихов — это нечто отжившее, прошлое, которое удобно пробудить, потому что оно еще не утратило своей новизны, потому что из такого распада, зонирования языка вещей и людей, из политики различий сейчас, здесь растет некоторое количество подлинно новых поэтических практик.
Ян Выговский: Я хотел бы продолжить и даже заострить мысль Гали. Способ политической субъективации в стихах таких поэтов, как Сунгатов и Рымбу, отличается от тех, кого можно было бы отнести к поколению редакции Транслита. Поэтики Корчагина, Ларионова, Арсеньева, Лукоянова объединяет задача пересоздания самого языка в рамках политики письма. Отправная точка для них — это поэтический субъект, он же политический. Ключевым здесь является то обстоятельство, что политика письма для них — часть личного, в том числе, личного как имеющего лирическую природу. Если мы рассмотрим их поэтику на фоне эволюции от концептуализма к постконцептуализму, то увидим, что все они, начиная еще с Медведева, пытаются восполнить нехватку в концептуализме лирического субъекта за счет привнесения в письмо личного опыта. Для нас же левизна — это элемент эстетики, это прием. Эта эстетика — другой природы, хотя она также рождается в процессе высказывания. Например, для Галины Рымбу это отражение бедственных материальных условий, с которыми она сталкивается в общежитии, а в случае Никиты Сунгатова мы можем говорить о своеобразной собирательной поэтике, поэтике маркеров левой культуры, как на уровне поэтического осмысления роли левых интеллектуалов в России, так и на уровне переосмысления процесса культурного производства. Говорящий здесь относит себя ко второй группе, но с тем отличием, что эстетическая сторона становится для него элементом конструирования субъекта письма через поиск личного в, казалось бы, лишенных личного материалах. В наше время место, из которого совершается высказывание, это среда медиаактивизма и сетевых практик, и условие доступа в публичном поле сегодня заключается в осмыслении этой среды в процедуре высказывания. Включенность в публичное поле, обретение идентификации голоса через прием маркирования высказывания придает ему направленность жеста, в котором прагматическая сторона художественного дискурса перестает носить дополняющий характер и начинает претендовать на главенствующее положение.
Олег Журавлев: Спасибо, товарищи! Надеюсь, эта имитация диалога вызовет реакцию со стороны критиков, доброжелателей и оппонентов, а вам придется на нее отвечать, и таким образом дискуссия продолжится.
Сноски
[1]. Хотя в этом все равно оставался призрак редукции эстетического к активистскому, но была и некоторая лингвистическая интрига. Прагматическая же поэтика, которую разрабатываем мы сейчас, возвращается с опытом интуитивного прорыва из высказывания в акт к спекулятивной проработке такой действенности, теоретизируя короткое замыкание акта высказывания и его содержания, делает своим методом именно интервенции в само настоящее время высказывания.
