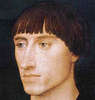Демократия как воля и представление

Каждый политический режим предполагает соответствующую своему дизайну антропологию. Человек по своей природе такой-то, хочет от жизни того-то, взаимодействует с другими так-то. Наличие такой аксиоматики позволяет хотя бы помыслить желаемое политическое устройство, а если повезёт — проверить, как теория заработает на практике. Это справедливо для сословного общества, для коммунистического и для демократического. Парламентскую демократию чуть ли не с момента её появления на свет критиковали как за нереалистичные представления о человеке, так и за расхождение слова и дела. По понятным причинам со второй половины 20 века критиков этой политической системы поубавилось. Тем ярче засияла звезда разрушителя мифов народовластия Йозефа Шумпетера — (полит)экономиста и элитариста, повлиявшего, помимо всего прочего, на современную теорию демократии.
«Капитализм, социализм и демократия» Шумпетера — не провидческая, но занимательная работа. Нет человека, чьи чувства бы не задела эта книга, увидевшая свет в разгар Второй Мировой войны. Капитализм топ, но он себя исчерпал; социалисты фантазёры, но система рабочая; демократия эффективна, только если народ не вмешивается в управление… Шумпетер детально разбирает и критикует прописные истины демократии: рациональность и инициативность среднестатистического гражданина, его способность мыслить самостоятельно, абстракции общей воли и народовластия, контроль избирателей над действиями своих представителей. Диагноз Шумпетера неутешителен: демократия, как и предшествующие ей формы правления, распределяет роли на ведущих и ведомых:
[Классическая теория демократии] приписывает избирателям совершенно нереальную степень инициативы, практически игнорируя лидерство. Но почти во всех случаях коллективное действие предполагает лидерство — это доминирующий механизм почти любого коллективного действия, более значительного, чем простой рефлекс. Утверждения о функционировании и результатах демократического метода, которые принимают это во внимание, гораздо реалистичнее тех, которые этого не делают. Они не ограничиваются исполнением volonté générale (общей воли), но продвигаются к объяснению того, откуда она возникает и как подменяется или подделывается.
Как ни странно, все эти наблюдения не сделали Шумпетера противником представительной демократии. Скорее, скептиком и пессимистом, который раскрыл благородную ложь, но научился с ней жить. В этом он был не одинок и даже не оригинален: австрийского экономиста опередил американский политтехнолог — Уолтер Липпман. Его знаменитая работа «Общественное мнение» посвящена тому, насколько расхожие представления о демократии не соответствуют реалиям массового общества ревущих 20-х. Избиратель громадной, разнородной и стремительно развивающейся страны при всём желании (которого тот обычно не выказывает) не способен разобраться во всех нюансах и хитросплетениях национальной политики. Поэтому, чтобы сформировать своё мнение на тот или иной вопрос он обращается к тем, кого считает авторитетами. По сути, это эпистемическое разделение труда, при котором для нас создают «нашу» картину мира:
Мы появляемся на свет не из яйца не возрасте восемнадцати лет, уже наделенные реалистическим воображением. […] Мы устанавливаем связи с внешним миром посредством любимых и уважаемых нами людей. Они являются первым мостиком в воображаемый мир. И хотя постепенно мы можем сами освоить многие стороны этой расширенной среды, всегда остаётся мир ещё более широкий, который нам не известен. С этим, неизвестным нам, миром мы связаны посредством авторитетов. Когда факты находятся вне поля зрения, подлинная информация или правдоподобная ошибка звучат и воспринимаются одинаково. Исключая те немногие предметы, которые мы хорошо знаем, мы не можем сделать выбор между истинными и ложными объяснениями. Поэтому мы выбираем между надёжными и ненадёжными корреспондентами.
Но Липпман идёт дальше и задаёт наискандальнейший для демократической эпохи вопрос. А знают ли избиратели, чего они хотят? И да, и нет, отвечает теоретик PR и практик «производства согласия», проблематизируя теорию рационального выбора. Конечно, каждый человек хочет благой жизни, но её идеал, образец для подражания сформирован окружением, подсмотрен у других — людей, вызывающих доверие, снова-таки влиятельных, авторитетных. Да ведь и наши желания-влечения — это пока лишь «сырьё», которое ещё предстоит «обработать», выразив в словесной форме. Причём удачную, запоминающуюся формулировку способны придумать единицы, повторять же будут тысячи. Но это полбеды! We live in a society, а это значит, что для мирного сосуществования в составе единого политического тела частные воли необходимо примирить, упорядочить. Это не может быть полностью саморегулирующимся процессом: мы же не изобретаем правила дорожного движения и не следим потом за их выполнением! То есть, и в таких базовых, порой интимных вопросах присутствуют внешние влияния на якобы суверенный выбор рационального индивида.
Об имитативном аспекте природы человека, его потребности в авторитетах писал Бертран де Жувенель. Эх, если бы это потом кто-нибудь читал! Этот политический философ выделяется на фоне своих более известных коллег тем, что дополняет интерес к теории элит исследованием интеллектуальной истории и политических институтов. «De la souveraineté» Жувенеля одновременно является работой в духе классической политической философии, микросоциологией властных отношений и экскурсом в историю таких идей, как суверенитет, абсолютизм, общая воля (volonté générale) и свобода выражения мнения (liberté d’opinion). Это позволяет автору не только теоретизировать универсальные, трансисторические паттерны лидерства и подчинения, но и проследить их трансформацию, усиление и сокрытие в условиях модернизирующегося общества. Красной нитью через все его политические труды проходит трюизм элитистской школы: преимущество целеустремлённого и организованного меньшинства над аморфным большинством. Книга «О суверенитете» ценна тем, что в ней Жувенель спускается с уровня общественных объединений на межличностные отношения, чтобы показать, как первые образуются:
Объединения не возникают благодаря спонтанному совпадению желаний у всех и сразу. На деле, перед нами не единомышленники, которые собираются вместе, а организатор, который ищет подходы к потенциальным последователям с целью их вербовки. Инициатором объединения оказывается человек, который сеет семена своего замысла; те, в чьих сердцах они прорастают, образуют проповедническое ядро. Каждый из них влияет на остальных, пробуждая интерес, постепенно добиваясь согласия. В конечном итоге ассоциация рождается не из простого совпадения воль, а в результате воздействия одного человека на другого. Ошибка [классической теории демократии] заключается в том, что она игнорирует роль основателя — «автора» — в формировании объединения.
Обратим внимание на специфический характер власти лидера. Если в своей более ранней (и известной) работе об усилении государства «Du Pouvoir/Власть» Жувенель в основном пишет о власти в модерном, механистическом, командном смысле, то взаимоотношение, описанное выше, больше напоминает вдохновение, воодушевление, заразительный пример. Именно поэтому в «De la souveraineté» употребляется уже не pouvoir, которой обладает древний тиран или современное государство с его могучей армией и бюрократией, а autorité — природный дар выдвигать такие предложения, которые захотят поддержать, ставить такие цели, которые примут за свои собственные. Тут Жувенель подсвечивает парадоксы, о которых политическая философия модерна говорить зареклась. Autorité не является ни голой силой, ни формально законной процедурой. Autorité подразумевает признание превосходства за лидером — его исключительных качеств, которых по определению недостаёт последователям. Они жаждут оправданного неравенства, легитимной иерархии. Не каждая власть готова это признать… и обеспечить.
Современная демократия — парадоксальная политическая система. Чем лучше она маскирует своё реальное устройство, а заодно и социальную стратификацию, неизбежную в развитом обществе, тем лучше она функционирует. Ритуализированная борьба за голоса и сердца избирателей, открытость критике, риторика общественного договора и правления с согласия управляемых, постулирование власти абстрактных институтов, а не конкретных людей… Все эти характерные черты делают либеральную демократию как минимум сносной, но скорее даже очень психологически приятной для наших эгалитарных обезьяньих мозгов. Такой вот ненасильственной власти мы готовы подчиняться с большей охотой, чем зазнавшемуся альфа-самцу! Это может удивлять и расстраивать идеалистов, но не этологов человека. Например, в книге «Indoctrinability, Ideology and Warfare: Evolutionary Perspectives» под редакцией Иренеуса Эйбль-Эйбесфельдта и Фрэнка Солтера представительная демократия рассматриваются в качестве социальной технологии. Чертовски эффективной, но не идеальной, говорит Эйбль-Эйбесфельдт, аргументируя это следующим образом:
На протяжении всей человеческой истории репрессивные стратегии доминирования раз за разом дополнялись нерепрессивными. Уже древние римляне знали, что хлеб и зрелища помогают сохранять мир в государстве. […] В тех или иных обстоятельствах правители экспериментировали, пытаясь найти оптимальный баланс между кнутом и пряником. […] Там, где элиты исторически конкурировали за голоса, возобладала стратегия правления через заботу: лидер пытается добиться эффекта близости, установить с избирателем дружескую связь, характерную для эгалитарных сообществ древности. Как показывает исторический опыт, демократическая идея, по-видимому, представляет собой наилучшее из испытанных на сегодняшний день решений, так как политики должны быть на виду у избирателей и, чтобы оставаться у власти, оправдывать их ожидания. Демократия также представляется наиболее заботливой формой правления из когда-либо существовавших — порой до такой степени, что доводит людей до состояния зависимости. В других случаях стремление избежать применения силы мешает правительству осуществлять законную власть, например, когда это необходимо для поддержания мира и борьбы с преступностью.
Что это значит для либеральной демократии? Сериал «Слуга народа» имеет высокие рейтинги, пока политические лидеры остаются добродетельными и компетентными. Когда же качество управления падает, государство перестаёт выполнять базовые функции защиты и отправления правосудия, а элиты отказываются признавать ошибки, зрители осознают, что перед ними плохой спектакль с дешёвыми декорациями и актёрами, которым не веришь. В такие кризисные моменты на сцену выходят харизматические претенденты, обещающие навести порядок и восстановить справедливость. Они стараются олицетворять родительскую фигуру, защитника слабых и в то же время казаться своими в доску. К этому льнёт та часть нас, которая недалеко ушла от обезьяны, которая чувствует, что привычный ей образ жизни в опасности. А что же человек разумный? Он, по мере своих мизерных возможностей, будет участвовать в политике. Даже если, в условиях представительной демократии, это будет значить всего лишь смену сюзерена…