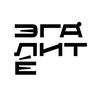По ту сторону принуждения к наслаждению

Критика неограниченного и не оправданного никакими мыслимыми нуждами потребления товаров и услуг в эпоху глобального капитализма стала избитым трюизмом, который уже почти не вызывает вопросов и не влечет за собой новых попыток объяснения того факта, что субъект, несмотря на свое знание о вреде подобных практик (а часто вопреки ему), остается в них включенным. На наш взгляд, именно практическое положение субъекта позднего капитализма, метко охарактеризованное Славоем Жижеком в формуле: «они прекрасно осознают действительное положение дел, но продолжают действовать так, как если бы не отдавали себе в этом отчета» — именно это положение и показывает, что социально-критический подход оказывается недостаточным для его объяснения. Левая мысль, справедливо усматривая в идеологии источник воздействия на субъекта, которая подключает последнего к практикам неограниченного потребления, не объясняет, однако, того, почему в этих практиках субъект оказывается кровно заинтересован, почему даже самая изощренная критика не способна открыть для него альтернативный жизненный путь.
Здесь на помощь нам приходит психоаналитическая теория в ее фрейдо-лакановском ключе, что, используя категорию бессознательного, позволяет прояснить, почему идеология работает в обход того знания, которое доступно субъекту на сознательном уровне. В психоаналитической оптике принуждение неизменно оказывается хитрым образом сопряжено с наслаждением. Именно этот ключевой для субъекта элемент и открывает, на наш взгляд, возможность предположить, почему так называемая политическая осознанность не имеет своим прямым эффектом отказ от практик, на борьбу с которыми она направлена.
Попробуем подойти к вопросу о том, как связаны наслаждение и принуждение, обратившись за примером к Дэвиду Линчу, чьи психоаналитические интуиции продолжают волновать кинокритиков по всему миру.
В третьем сезоне сериала «Твин Пикс», который вышел, как и было обещано, 25 лет спустя после окончания второго сезона, главный герой — некогда энергичный и уверенный в себе детектив ФБР Дейл Купер — из-за интриг демонических сил оказывается буквально разделенным натрое. Наиболее близкий к нам по первым двум сезонам Купер теперь бродит по причудливым запредельным измерениям, пытаясь найти выход в реальность. Его злой двойник Мистер Си — мизантропичный миллионер, насильник, убийца, имперсонация древнего злого духа БОБа — занял его место в человеческом мире. Мистер Си, зная, что Купер стремится вернуться в этот мир, ставит магическую ловушку, и Купер почти попадает в нее. Однако в последний момент происходит неожиданный сбой, и Купер оказывается в теле беспутного страхового агента Дагги Джонса. Дагги Джонс выглядит для зрителя совершенно неожиданным персонажем. Он кажется младенцем в теле пятидесятилетнего мужчины: он нелепо ходит, почти всему учится заново (даже есть и пить), почти не говорит — лишь повторяет последние несколько слов за собеседником. Купер периодически пытается прорваться за эту младенческую недееспособность Дагги Джонса, «вспомнить», кто он такой на самом деле, но получается это у него лишь в ситуациях крайней опасности и окончательно он становится собой только в самом конце, когда Мистер Си бросает ему прямой вызов. Всех трех персонажей играет один и тот же актер — любимец Линча Кайл Маклахлен, и это придает идее третьего сезона некоторую целостность: все трое представлены одним человеком, но будто расщепленным, не совпадающим с самим собой.
Стандартная фрейдистская интерпретация такого растроения с точки зрения динамической модели человеческой психики, пожалуй, предполагала бы, что Мистер Си представляет собой инстанцию Оно, Дагги Джонс — Я, а Дейл Купер — Сверх-Я. Действительно, Купер — своего рода идеалистичное изображение мужественности времен 1950-х: на нем всегда прекрасно сидящий классический костюм, он всегда поступает правильно в соответствии с внутренним этическим кодексом, всегда спешит на помощь слабым и т. п. В свою очередь Мистер Си ни перед чем не останавливается в погоне за властью и удовольствиями, он готов на все, чтобы достичь своих целей, он гиперактивен и вездесущ, не привязан ни к кому никакими человеческими чувствами и не связан никакими нормами морали.
Дагги Джонс, зажатый между ними, как будто являет собой пустое место, playground для противоборства этих двух олицетворенных принципов, не обладая ни субъектностью, ни собственной волей. Фрейд следующим образом описывает три инстанции, вместе составляющих динамическую модель психики: Оно представляет собой слабоорганизованные «влечения, берущие своё происхождение в теле и находящие тут для себя проявления», это инстанция «биологически унаследованного», предопределенного телесностью прошлого, которое порождает эти самые влечения и которые в свою очередь организуются инстанцией Я. Я утверждает себя за счет господства над влечениями и решает, какие из влечений удовлетворяются, а какие — смещаются или откладываются, но, в конечном итоге, «сфера Я стремится к наслаждениям и избегает отвращения». Инстанция Сверх-Я отражает требования к организации влечений и наслаждения, продиктованные культурой, в которой находится человек, или воспитанием в широком смысле слова.
Фрейд формулирует задачи каждой из инстанций: Оно нацелено на удовлетворение потребностей; Сверх-Я — на ограничение удовольствий. В свою очередь, Я — на «намерение уцелеть в жизни и защититься от опасностей посредством переживания тревоги» с одновременным устремлением удовлетворить требования Оно и Сверх-Я.
Прежде чем двигаться дальше, обозначим важное для психоанализа различение между удовольствием и наслаждением. У Фрейда эксплицитно подобное различение не проведено, однако же довольно ясно дает о себе знать в ряде работ, самой важной из которых является «По ту сторону принципа удовольствия» 1920-го года. В этом коротком, но чрезвычайно насыщенном и сложном тексте Фрейд описывает трудности, с которыми столкнулась психоаналитическая теория в связи с феноменом навязчивого повторения, наблюдаемого в случаях травматических неврозов (современных ПТСР) и неврозов навязчивости.
Фрейд отмечает странность подобных симптомов, что никак не получается объяснить через господство принципа удовольствия. Принцип удовольствия предполагает поддержание напряжения, обеспечивающегося динамикой влечений, на максимально возможном низком уровне. Например, сновидение представляет собой процесс осуществления желания, в нём происходит разрядка напряжения, невозможная в бодрствующем состоянии. Эта невозможность может быть объективной или же связанной с ограничением влечений цензурирующей инстанцией, лежащей в основе механизма вытеснения.
В случае сновидений травматических невротиков принцип удовольствия, на который опирается анализ сновидений, оказывается нерабочим, так как подобные сновидения возвращают субъекта в ситуацию, ставшей спусковой для развития невроза. При этом никакой разрядки напряжения, никакого осуществления желания в таком повторении пережитой в реальности травмы не происходит. В случае же навязчивых невротиков Фрейд наблюдает повторение ими в переносных отношениях с психоаналитиком таких переживаний из прошлого, которые не содержат «никакой возможности удовольствия, удовлетворения даже вытесненных прежде влечений». Иначе говоря, невротик навязчивости воспроизводит в переносе именно ситуацию неудовлетворения, причем воспроизводит её повторяющимся образом, перед которым интерпретации аналитика оказываются бессильными.
Что означает для Фрейда формула: «по ту сторону принципа удовольствия?» Если влечения стремятся к разрядке, к минимальной точке своего напряжения, то предел этой разрядки находится в состоянии неживой материи, смерти. Именно поэтому влечение к смерти представляет собой элемент, необходимый Фрейду для развития теории влечений и разделения принципа удовольствия и того, что лежит по ту сторону — а именно, принципа навязчивого повторения. Принцип навязчивого повторения предполагает, что разрядка влечений оказывается невозможной, напряжение остается в несвязанном виде — это и вызывает к жизни воспроизведение тех ситуаций, где это напряжение, имеющее своим эффектом страдание, дало о себе знать. Единственной целью такого навязчивого воспроизведения является попытка психического аппарата связать эту энергию, овладеть ею таким образом, чтобы вернуть пошатнувшееся господство принципа удовольствия — что однако осуществить в полной мере только с опорой на повторение не удается. Здесь субъекта ожидает вновь и вновь воспроизводящаяся неудача, приносящая страдания.
Истоки лакановского jouissance стоит искать, по всей видимости, именно в этом месте, поскольку Лакан определяет наслаждение как удовольствие, неразрывно связанное со страданием. У Лакана наслаждение является тем, что грозит смертью, что несет в себе реальную опасность. Несвязанное напряжение обладает для субъекта угрожающим характером, что и проявляется в том ужасе, который переживает, например, травматический невротик, и ведет за собой необходимость связывания, попытку которого и представляют обсессивные действия невротика навязчивости. Угроза эта, однако, радикально отличается от смерти как минимального уровня возбуждения, к которому стремятся влечения, движимые принципом удовольствия. В случае навязчивого повторения, скорее, речь идет о другом, противоположном пределе напряжения, грозящем психическому аппарату разрушением, утратой целостности. То есть, если в случае принципа удовольствия Фрейд говорит о смерти как крайней точке разрядки напряжения, то принцип навязчивого повторения мы можем подвести, скорее, к угрозе гибели, распада психического аппарата при воздействии слишком сильного возбуждения.
Именно этот второй случай и представляет собой предпосылки того, чем у Лакана становится наслаждение, являющее радикальный излишек, который для субъекта чреват опасностью уничтожения. В силу того, что полное наслаждение и есть для субъекта то единственное, что в психоаналитическом дискурсе может фигурировать под именем «зла», оно и нуждается в ограничении, выражающемся в «запрете на инцест». Отцовский запрет является в психоанализе тем, что конституирует субъекта как субъекта желания.
Теперь вернемся к троице персонажей из третьего сезона сериала «Твин Пикс». Персонаж Мистера Си точнее всего описан именно этим сочетанием удовольствия и страдания. Он занят тем, что, как кажется, ему нравится больше всего: сексом и насилием. Воспитанники стандартной либеральной теории общества, инспирированной экономической концепций эгоистического homo economicus, наверное, даже могли бы назвать его абсолютно свободным. На первый взгляд он как будто не ограничен никакими условностями, этическими правилами и законами. Во втором эпизоде третьего сезона Мистер Си говорит одному из своих преступных приспешников: «Я не нуждаюсь ни в чем. Я хочу» (I don’t need anything. I want). В книге «Секретный дневник Лоры Палмер» древний демон БОБ говорит похожую фразу: «I DON’T NEED ANYTHING. I WANT THINGS». В первом приближении мистер Си является именно тем, кто слепо и безгранично наслаждается и, не будучи озабочен никакой реальной нуждой, использует других в качестве инструментов для своего наслаждения.
Об отношениях желания и наслаждения стоит поговорить отдельно. В самых общих чертах желание предполагает нехватку на стороне Другого, которая и обеспечивает субъекту — в первую очередь невротическому — возможность относительно этой нехватки определить своё место в поле Другого, вступить в ситуацию диалектического отношения двух желаний. «Желание — это желание Другого», — так звучит, пожалуй, самая известная и красивая максима Лакана. Желание необходимым образом связано с запретом на полное, «гнилое» (как называет его Лакан в XIV семинаре) наслаждение — с запретом на инцест, который задается отцовской инстанцией и предполагает вхождение субъекта в регистр символического, то есть в пространство языка. Запрет на инцест, имеющий своим эффектом символический аналог кастрации (поскольку никакой другой и не существует), конституирует субъекта как субъекта неполного, субъекта нехватки. Нехватка, образовавшаяся в результате символической кастрации, однако, не является синонимом желания. Ей должна сопутствовать неполнота Другого, его «дыра», которая позволяет субъекту узнать об измерении желания как таковом. Желающий Другой — это Другой с нехваткой, с дырой, которая является решающим элементом для того, чтобы собственное желание субъекта дало о себе знать.
Что это означает? Если нехватку на стороне Другого не удается зарегистрировать, если он предстает лишенным дыры, то в таком случае приходится говорить о полном Другом как угрожающем, для которого субъект предстает не в качестве опоры его желания, а в качестве инструмента наслаждения.
Таким при первом приближении предстает садист, мучающий свою жертву, нисколько не соотносясь с ее желанием и используя ее исключительно в качестве орудия своего наслаждения. Однако в статье «Кант с Садом» Лакан указывает на то, что страдания, которые садист доставляет своей жертве, и то чувство унижения, которое последняя испытывает, не служат источником его собственного полного наслаждения 4. Наслаждение садиста представляет собой усеченное, так называемое прибавочное наслаждение, которое возникает как эффект отказа от собственного желания в пользу патологически полного Другого, представляющего собой инстанцию Закона. Жижек иллюстрирует эту идею Лакана, приводя в пример сталинского политика, который «любит человечество, но тем не менее совершает страшные чистки и казни, его сердце обливается кровью, в то время как он делает это, но он не может помочь ему, поскольку это его Долг на пути к Прогрессу человечества» 5.
Итак, Мистер Си, жестокий и безнравственный садист, не является абсолютно свободным субъектом, оставленным на откуп собственным желаниям. Напротив, он лишен желания. Характерно, что по сюжету сериала Мистер Си возникает в тот момент, когда в тело Купера вселяется демон БОБ, иными словами, он ни в коем случае не является субъектом автономным и действующим самостоятельно. Иллюстрируя вышеприведенные положения Лакана, можно сказать, что БОБ и является Другим, от имени которого действует мистер Си и наслаждению которого он служит. Но что движет БОБом, когда он управляет Мистером Си, заставляя того убивать, мучить, грабить и насиловать?
В статье «Кант с Садом» Лакан разворачивает мысль о том, что Сад является скрытым кантианцем постольку, поскольку разрабатывает собственный этический проект, в основе которого лежит безусловное предписание наслаждаться. Сад отбрасывает универсальность как одно из оснований нравственного закона, возводя в ранг императива частные извращения, патологические причуды, гарантирующие субъекту наслаждение. Так же как Кант решительно отрицает участие любых чувств в исполнении нравственного закона (поскольку воля направляется разумом, а не чувствами), Сад призывает отказаться от любых «моральных» чувств (стыда, сострадания, жалости) во имя исполнения долга, который заключается в безграничном наслаждении. Таким образом, Сад обнажает истину кантовского морального закона как в первую очередь формальной грамматической конструкции, в которой сама форма императива задает этическое измерение. Скрытая истина Закона, как учит нас Жижек, заключается в его произвольности: предписание Закона не просто контингентно, сам его волюнтаризм является составной частью его эффективной силы.
Однако Жижек, комментируя статью «Кант с Садом» и обращаясь к семинару «Этика психоанализа», указывает на то, что садовское требование наслаждаться, возведенное в ранг Закона, всецело не является скрытой истиной этики Канта. Садист, будучи только инструментом воли Другого, не может быть ответственен за свои действия — он лишь исполняет приказ, доносящийся с места Другого и предполагающий «повергнутое» желание субъекта. Кантовский «голос разума», в котором субъекту являет себя нравственный закон, не приказывает и не препятствует чему-либо, он только настаивает на необходимости следовать формальности закона: «поступать так, чтобы максима твоей воли могла иметь силу принципа всеобщего законодательства»6. Сама форма кантовского императива предполагает, что субъект должен не отступаться от того, что он уже знает — и голос разума возникает в качестве чистого акта, бессодержательного указания на это всегда-уже присущее субъекту знание. Младен Долар в своей книге «Голос и ничего больше» проводит ясную и убедительную параллель между кантовским голосом разума и голосом бессознательного желания, о котором говорил Фрейд. Голос бессознательного желания, так же, как и голос разума, негромок, но говорит он одно и то же, и никакими сколь угодно громкими доводами его не заглушить 6. Так же, как и у Канта, голос этот ничего не сообщает и ни к чему не призывает, он лишь настойчиво указывает на то, что субъект всегда уже что-то знает (о своем желании), даже если не отдает себе в этом отчет — и долг его состоит в том, чтобы следовать этому знанию в своих поступках.
Итак, моральный закон Канта сближается с законом желания (лежащим в основе этики психоанализа), тогда как садовский императив предполагает отказ от желания во имя наслаждения. Как же в структуре субъектности представлен садовский, патологически полный Другой?
В XX семинаре Лакана объявляет: «Наслаждаться понуждает человека только одно — его Сверх-Я. Сверх-Я и есть не что иное, как императив наслаждения — Наслаждайся!»[3] Сверх-Я — жестокая инстанция, которая заявляет о себе не в указании на уже присутствующее знание, а в необъяснимом требовании, которое никогда не может быть в полной мере удовлетворено и в отношении которого субъект всегда остается несовершенным. Если голос желания — тихий и настойчивый, то голос Сверх-Я — это «сильный голос», как о нём пишет Лакан — голос, который требует не ответа, но безоговорочного подчинения. Не является ли, таким образом, бессмертное тело садовской жертвы, которое вопреки всем пыткам и увечьям остается целым и прекрасным, постоянным укором садисту, свидетельством того, что он извлек не всё наслаждение, как того требовал закон Другого? Младен Долар пишет, что «Сверх-Я — это не моральный закон, …, но способ уклониться от него». Уклониться от морального закона в данном случае значит уклониться от своего желания — именно в этом уклонении, в этом унижении перед полным Другим субъект обретает свое прибавочное наслаждение.
Славой Жижек продолжает эту линию: «Сверх-Я… представляет собой по-настоящему непристойную инверсию пермиссивного “Ты можешь!” в прескриптивное “Ты должен!”, и это точка, в которой разрешенное наслаждение превращается в предписанное наслаждение» [4]. Жижек говорит о том, что постмодернистский капитализм, в отличие от капитализма либерального, викторианского, запрещает не-удовольствие. Эта логика разворачивается в соответствии с различием между консервативной индустриальной организацией капитализма XIX — начала XX века, для которого ключевым процессом было накопление, удержание (тогда была модной экономическая теория, в соответствии с которой прибыль является наградой капиталисту за воздержание от трат на сиюминутные удовольствия), и постмодернистским финансиализированным капитализмом, который, наоборот, поощряет к постоянному потреблению, растрате, жизни в долг в расчете на будущую капитализацию.
Сверх-Я эпохи позднего капитализма заставляет нас наслаждаться, апеллирует к самым примордиальным, биологическим желаниям, стремится превратить нас в воображаемое животное, движимое одними влечениями. В троице персонажей, сыгранных Маклахленом, этому образу в наибольшей степени как раз соответствует Мистер Си. Именно он репрезентует идеального сверхчеловека современного капитализма: он эгоист, индивидуалист, им движет холодный расчет к наслаждению, который ничто не может остановить (это современная версия недавно вновь ставшего культовым на ультраправых имидж-бордах «Американского психопата»). Именно такой является непристойная, но время от время проявляющаяся в оговорках мораль современного правящего класса, его категорический императив к воплощению безграничного и разрушительного наслаждения. Достаточно вспомнить, что журнал Time назвал «человеком года» по итогам 2021 года Илона Маска, который одновременно обвиняется в расизме, сексуальном харрассменте и борьбе с профсоюзами, демонстрирует нарочито грубый и непристойный стиль общения в своем Твиттере, открыто восхищается книгой «В стальных грозах» Эрнста Юнгера.
Если Мистер Си олицетворяет собой принуждение быть «естественным человеком», т. е. homo economicus, человеком экономическим, который стремится только к личному наслаждению, то его противоположность, Дагги Джонс, вероятно, представляет собой репрезентацию того самого тихого, но настойчивого голоса бессознательного. Джонс не лишен голоса, но он лишь повторяет как эхо последнюю фразу собеседника, которая неизменно оказывается к месту. Джонса ведет неназванная и тайная сила, позволяющая ему избежать нападения киллеров, обыграть казино в игровые автоматы и спастись от жестоких гангстеров. Что же касается самого Купера, то его мы бы скорее отождествили с Идеалом-Я, той самой старомодной викторианской инстанцией (не зря костюм и образ Купера так архаичен), что отчасти репрезентует моральный Закон Канта.
Третий сезон «Твин Пикса» словно говорит нам: мир позднего капитализма, в котором мы живем, это мир, где реализован садовский императив наслаждаться вопреки желанию. Он темный, опасный и из него изгнано желание ради господства наихудших форм наслаждения. Порочный цикл наслаждения не способна прервать, как оказалось, даже катастрофа, ставящая под угрозу само существование человечества и каждого отдельного человека. Этот гностический взгляд Линча соответствует нашему общему пессимистическому ощущению безальтернативности текущего положения. Ответ психоанализа здесь сходен с тем, что дает Фабио Виги: «Находясь в этом безвыходном положении, мы, вероятно, можем сделать первый единственно возможный гегельянский шаг, который необходим, если мы хотим преобразовать тревогу в энтузиазм, и этот шаг заключается в оставлении всякой надежды, осознанном и рациональном прыжке в пустоту нашего собственного существования».
Вадим Квачев
Анна Кудинова
[1] Фрейд З. Очерк психоанализа [Электронный ресурс] URL: https://bit.ly/3eiH3sB
[2] Carroll R. David Lynch: ‘You gotta be selfish. It’s a terrible thing’ [Электронный ресурс] URL: https://bit.ly/2lsDMb9
[3] Лакан Ж. Семинары. Книг 20. Ещё. (1972/1973). В редакции Жака-Алена Миллера. М., 2011. С. 9.
[4] Žižek S. The Fragile Absolute, or Why the Christian Legacy is Worth Fighting For. London; New York, 2000. p. 133
4. Lacan J., Swenson J. B. Kant with Sade // October. — 1989. — Т. 51. — С. 55-75.
5. Жижек С. Кант и Сад: идеальная пара [Электронный ресурс] URL: https://bit.ly/3CoiqTg
6. Кант И. Критика практического разума. — Litres, 2021.
7. Долар М. Голос и ничего больше. — Litres, 2021.
8. Fabio V. The Hegelian Moment: from the Withering Away of Labour to the Concrete Universality of Work [Электронный ресурс] URL: https://bit.ly/3Cj3kP6