Денис Ларионов. Некто здесь я
Тело и язык в этих стихах разбираются и складываются заново из элементов друг друга. Язык здесь всегда овеществлён — отсюда такое внимание не только к компонентам организма вообще, но к аналитике носоглотки в частности. Пространство рта с прилежащими полостями становится как бы главным транспортным узлом вербализуемого опыта на пути к читателю. Всё, что происходит во рту, автоматически принадлежит плотному, физическому опыту автономной (в своей субъективности) и
Иными словами, за счёт помещения анатомических данностей в состояние сотрудничества с физическими условиями внешней и внутренней сред , с одной стороны, и с интенцией говорения, с другой, — именно во рту, носу и гортани бесплотные идеи и невербализуемые ощущения впервые соприкасаются с реальным воздухом, которым дышат (и сквозь который слышат) и другие субъекты. Вся эта модель диффузии речевого-физиологического и
Фокус, впрочем, в том, что не только тело и речь перепрошили друг друга: сама диалектика внешнего и внутреннего здесь переразъята на части. В отличие от знакомой нам постановки вопроса у романтиков, чуть ли не досуха вычерпавших проблематику внешнего и внутреннего (понятую, например, как «я-наблюдающий» vs «(я?)-пейзаж»), поэзия Ларионова в некотором смысле снимает сам вопрос. Вместо «то, что вижу снаружи, и есть то, что испытываю внутри», сама наружа испещрена, пронизана — состоит из внутренностей меня (и обратно). (Задание воображаемым студентам: найдите все упоминания, скажем, «слюны» и опишите, кому она принадлежит и где находится.)
Хрупкая аналитика телоязыка происходит у Ларионова в условиях физиологизации (если вообще не медикализации) аффекта и постоянного террора любых социальных ситуаций по отношению к субъекту. Парадоксальным образом, именно это натяжение (вернее, его негативное измерение) и складывает воедино рассыпающиеся фрагменты речи: вместо того, чтобы пасть миметической жертвой насилия (как это происходило, например, в стихах Могутина), поэзия Ларионова консолидирует свой прерванный синтаксис с помощью максимальной эмоциональной дистанции слов от изображаемого насилия. Чудовищность внутренних ран и агрессии внешнего мира как бы заключается в непоколебимые скобки, изымается из (воз)действия этой лирики. В утопическом фантазме этого жеста можно разглядеть то, о чём говорит критическая теория, когда противопоставляет эстетику анестетике. Кажется, что только так и можно «терпеть крушение» в состоянии тотальной «начинённости языком». Но комфортность и чистота дезаффектации (даже / тем более в отношении опыта микрокатастроф) явно волнуют автора, и в итоге композиция его работ замирает в как бы несуществующем пространстве между онемением поэтической чувственности и предельной чувствительностью корпорально-лингвистического аппарата. Именно отсюда и уязвимость этих стихов, и их надежда, и их борьба: в строчке, давшей название книге, скользит не только отстранённая горечь поражения, но и прямой вызов.
Иван Соколов
Следующие тексты опубликованы в поэтической книге Дениса Ларионова «Тебя никогда не зацепит это движение», выпущенной в серии kntx осенью 2018.
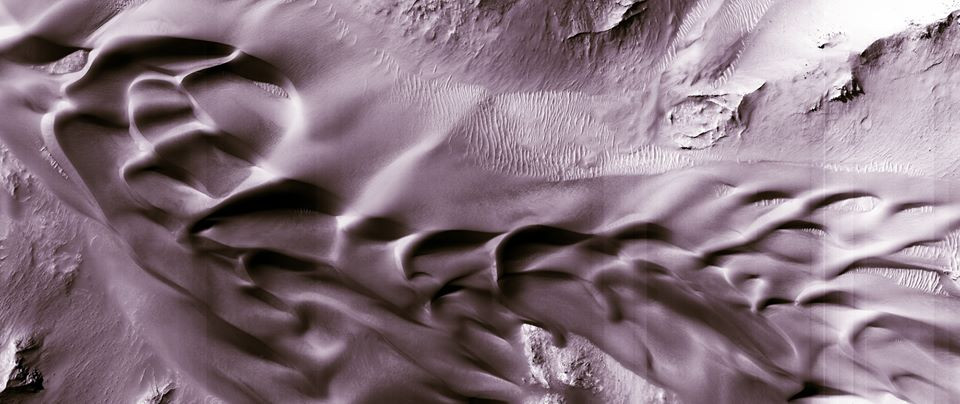
***
По разбегающемуся
полотну высоты —
сквозь тяжелеющие облака
и светосниматели,
вкопанные в городские
вершины — было
солнце полудня, покрываю-
щее вяжущей пленкой
столики пафосных мест,
на одном из них плавится
грязный осколок ледника,
несимметрично ложащийся
на сырые экраны смартфонов. Из
какого палеополдня он
тает навстречу по-
дробному выцветанию
флага взаимности? Из
самого безусловного сна,
в который склоняется
пятничный вечер
устав от подробностей
резкого разговора — в том
числе, о стремительном
взрыве вчера в метро.
***
Немедленно выскользнул, выразив многое из того,
что выводит слова из берегов — разят шипящей пеной,
подтачивая десну. Ветер кидается на воздушную стену,
кем-то выведенную из кадастра, между двумя городами: наспех
выбитым локтем и костистым надломом. Вторник
в
пыли, ингалятор в левом кармане. Шелестящий пакет
без логотипа, помнишь простую способность удерживать некое
я в сыреющем воздухе? Там, где это необходимо. Твое кино
прогорает, оставляя напоминание о бликовых техниках,
тепловую оплетку и рецессивный цвет.
***
«Что делал?» —
«Слушал Клауса Шульце»
Слушал излишне,
типа всё в прошлом.
Всё тонет в горле.
Горло болит.
У внутренней речи
В эпизодической роли:
Ура! С переломанной шеей на службе!
Впрочем, не без удовольствия
Было разбито стекло.
«Как? Слоёнов?» —
Переспрашивает АТД.
Нет.
***
Пятница,
8-92*-***-**-**,
обтекаемый вопиющей последовательностью элементарных событий,
кап-кап.
В
Зацепившись воротником за предвоенный выступ на бесконечной улице
Мира, «рот закрой» с камнем за теплой щекой, фабрикующим городской кислород,
кровь из носа —
но также испарину и прохладу реакции в море вискозы, в котором плещутся наши тела.
— Чьи это наши, 4276 **** **** **93 или 4276 **** **** **69,
думает Пятница,
на Дне Уязвимости подвизавшись волонтёром фулл-тайм.
***
Отбываю с вокзала, мне на одежду
плывущего, словно опытное ничто: мне не нужна ваша помощь,
нет-нет, скорее наоборот.
Сейчас унесут этот мир.
Состав по мосту переедет
знаменитое место исчезновения.
Здесь, здесь и здесь без свободных частиц я, не-я
на тонких резервах тянется восприятие
и мечтает исчезнуть.
Сгореть, наконец.
Пассажир номер девять в открытую воду на полном ходу.
Минус двадцать по вертикали: сжимает? саднит?
медлить? неметь?
Насквозь продувает безальтернативную
ночь — кофе кипящего
на сетчатку. Каким кругом кроветворения
ты станешь завтра?
***
Некто спешно вдыхает
концентрированный препарат
марта, протянутого сквозь спешный вид
быстрого бунта без
обязательств.
Некто здесь я: опрокинута
память и льётся в последнюю встречу
с тем, кто сжимает
губами четвертую литеру
алфавита.
АВГУСТ
Темнеющий воздух, опрокинутый в горло, взбившее множество
быстротвердеющих слов. Оказались
разделены — биение речевой мышцы, подсвеченной изнутри. В скользкой комнате
долговременной памяти, задержавшей не только идею вестибулярной
любви, но и быструю смерть в июне 2004 года. Наконец, мы — детали
мышечной речи, играющие кислородом во сне.
Вторая волна заключает в объятия — словно в машине, вспыхнувшей
от коннотаций. Сведенная в сумму неразложимых перцептов встреча
и отступление, затянувшееся
На границе третьей декады возвратный ветер перелицовывает
опознавательные знаки и они ложатся внахлест, покрывая
вплетенные в волосы, в войлок, во флис
тела.
***
Помнишь, Пятница О (I) Rh+, курортный дом в хвойной выломке?
Смолистый минус между октябрем и автовокзалом?
Пыльные скачки навигации в тисках перспективы, мускульный строй?
Или пробоину в снежном пламени, неостановимую слабину?
Ганс Касторп не успел досмотреть сводный чарт
А будущий мертвый в памятливом меду «могу говорить» говорит,
сжимая 1999 в подболевающей левой ладони.
MEDEA FOR EXAMPLE
Что происходит с твоим телом сейчас спросила она надавив на рукоятку
несущее тупое лезвие Gipfel Professional Line купленное на распродаже
во флагманском шопе не задев залегающих в тканях сосудов там где
до этого уже был рубец затвердевший как не совершённая сетка
событий или разворачивающийся короткометражным днём
А сейчас оставив рельефный след бликующий на составленном
из непрочных отрезков холодной Колхиды евроокне, но незамеченный
во время плановой диспансеризации среди стертых лодыжек
пятничных варваров по которым безошибочно определялось желание
Ну, а сейчас в раскаленном вчера опрокинувшем нас в нитяной
период развития общественных отношений прошивающих предусмотренные
в лицензионной версии нервные препинания избыток движений вал
слов другие изъяны, а также облако логарифмических грёз надвигающееся
с сырого фронта плывущее с неожиданной стороны
WHY NOT MERMERUS
затвердевший
рубец?
рельефный
след?
так
напрягается
твердая
мышца
тонущего сердца
параллельно
режиму
не беспокоить
смартфона
LG
застывает
глотком
в скользком
горле
или
пылью
на платной
парковке
под
эстакадой
на
остановке
недалеко от
метро
в шаговой
до-
-ступности
от
всего
в том числе от сомнений
в его тесном
кармане
золофт
релиум
фенибут
100 € в уме
ALMOST JASON
костный пейзаж в сшивающих воздух железных лесах
выстужен и охвачен ломотой или подрезан световым фильтром июня
когда ждали холодных ночей опрокинувших понедельник
во вторник ветвящихся выражений в четверг героических нарративов
в поток анемичных строк от которых по-прежнему не очистилась память:
они выставляют простые движения вперед они очень хотят
сотрудничать с миром в котором хорошие парни погибли долг структурирован
понижение гемоглобина думает он в сжатом корпусе внедорожника
Nissan Qashqai преломляющего воздушные сети так что острые семена
или поздний февральский снег разлетаются по неочевидному радиусу
вовсе не прорастая в стылую почву
