Теодор Адорно. Музыка, язык и их соотношение в современной композиции
Перевод с немецкого Дианы Ким под редакцией Анны Глазовой
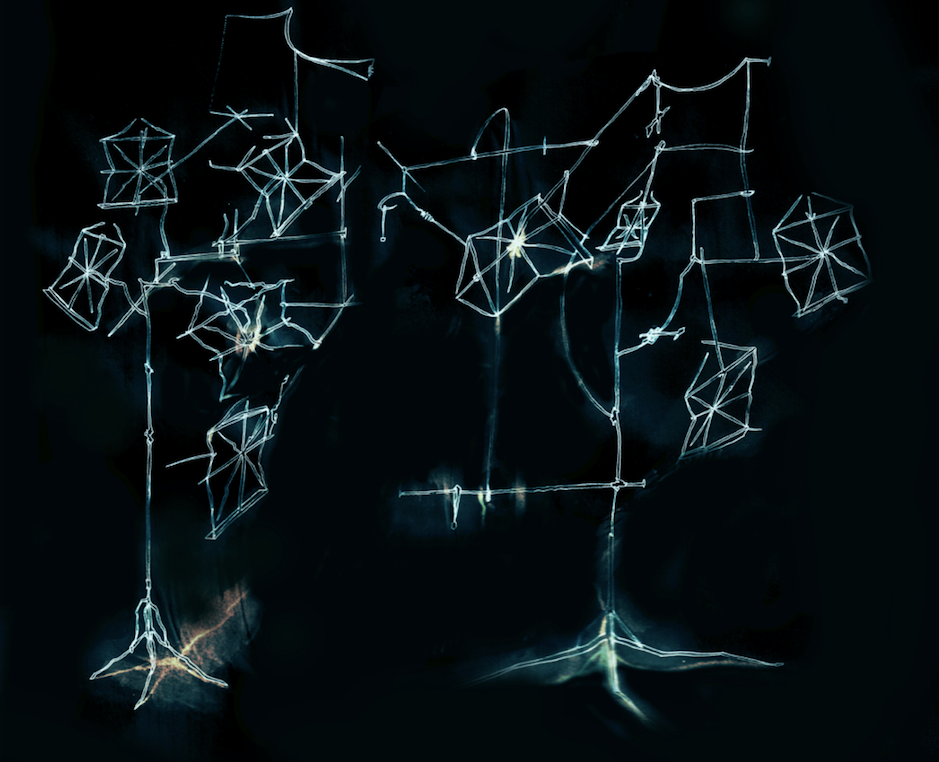
Фрагмент. Полный текст эссе можно прочитать на сайте альманаха-огня.
В противовес подразумевающему языку[1] музыка — язык совсем иного типа. В нем содержится ее теологический аспект. То, что она говорит, в высказывании одновременно определено и скрыто. Ее идея — это образ[2] божественного имени. Она есть демифологизированная молитва, освобожденная от магии воздействия; попытка человека, какой бы тщетной она ни была, назвать само имя, а не передать значение.
Музыка нацелена на язык без интенций. Но она не отсекается от подразумевающего языка четко, как одна область от другой. Здесь преобладает диалектика: она пронизана интенциями насквозь, и, разумеется, не только со времен stile rappresentativo, который использовал рационализацию музыки, дабы распоряжаться ее сходством с языком. Музыка без всякого намерения — простая феноменальная взаимосвязь звуков — акустически напоминала бы калейдоскоп. И наоборот — как абсолютное намерение она перестала бы быть музыкой и ложно перешла бы в язык. Интенции для нее существенны, но лишь в их прерывистости. Она ссылается на истинный язык как на язык, в котором раскрывается само содержание, но ценой однозначности, которая передалась подразумевающим языкам. И, как если бы музыку, самый красноречивый из всех языков, нужно было утешить
Это отсылка к интерпретации. Музыка и язык требуют ее в равной степени и совершенно по-разному. Интерпретировать язык означает понимать язык; интерпретировать музыку — играть музыку. Музыкальная интерпретация — это исполнение, в своем синтезе фиксирующее сходство с языком и вместе с тем устраняющее все его единичные проявления. Поэтому идея интерпретации принадлежит самой музыке и не зависит от случайности. Но правильно играть музыку — это, в первую очередь, правильно говорить на ее языке. Что требует подражания, а не дешифрирования. Только в миметической практике, которая, безусловно, может быть сублимирована до немого воображения на манер чтения про себя, музыка раскрывается, но не в созерцании, которое независимо трактует ее в исполнении. Если сравнивать акт в подразумевающих языках с музыкальным актом, то это скорее списывание текста, нежели его сигнификативное восприятие.
Иначе, чем в философии и науке с их эпистемологическим характером, в искусстве собранные для познания элементы не сводятся к суждению. Но является ли музыка в действительности языком вне суждения? Среди ее интенций, одной из самых настойчивых кажется «это так», судящее, даже решающее утверждение чего-то, все же не сказанного в явной форме[3]. В самые высокие и, разумеется, самые воинственные моменты великой музыки, как, например, начало репризы первой части Девятой симфонии, эта интенция говорит ясно за счет одной только силы контекста. Пародией отзывается она в низких произведениях, как Прелюдия до-диез минор Рахманинова, которая от первого до последнего такта отбивает «это так», и все же становление в ней не завершается превращением в то бытие, утверждаемое так абстрактно и тщетно. Музыкальная форма, тотальность, в которой музыкальная совокупность приобретает характер аутентичности, едва ли может быть отделена от попытки наделить выражением суждения медиум, свободный от суждения. Иногда такая попытка оказывается настолько удачна и основательна, что порог искусства только с трудом может противостоять властному натиску логики.
Таким образом, получается, что различие между музыкой и языком нельзя определить на основании одной из их черт, а можно лишь на основании целой их композиции. Или, скорее, их направленности, их «тенденции», которая использует слово для наисильнейшей акцентуации телоса музыки как таковой. Подразумевающий язык хочет высказать абсолютное опосредованно, и оно [абсолютное] ускользает от него [языка] в каждой отдельной интенции, оставляя позади каждую из них как конечную. Музыка настигает его [абсолютное] непосредственно, но в то же мгновение оно затемняется — так же, как чрезмерно яркий свет ослепляет глаз, и он теряет способность видеть вполне видимое.
Музыка в конечном счете снова оказывается похожей на язык в том, что она как потерпевшая неудачу (подобно подразумевающему языку) отправлена в скитания бесконечного посредничества, чтобы вернуть невозможное домой. Только ее посредничество разворачивается в соответствии с законом, отличным от закона подразумевающего языка: не в отсылающих друг к другу значениях, а в их в убийственной поглощенности контекстом, являющимся тем, что спасает значение, долой от которого он [контекст] уносит в каждом отдельном движении. Музыка вырывает свои разрозненные интенции из их собственной силы и позволяет им соединиться в конфигурацию имени.
Чтобы отличить музыку от простой последовательности чувственных стимулов, ее назвали смысловой или структурной связью, и эти слова допустимы постольку, поскольку в ней ничто не находится в изоляции, все становится тем, чем оно является, только в живом контакте с ближним и в духовном контакте с далеким, в памяти и в ожидании. Но эта связь не того типа смысла, что создает подразумевающий язык. Целое реализуется против интенций, интегрирует их путем отрицания каждой отдельной, нефиксируемой. Музыка как целое скрывает намерения, не разбавляя их до более абстрактной, более высокой интенции, а приготовляясь огласить непреднамеренное в то мгновение, когда она [музыка] схватывается воедино. Таким образом, она является почти противоположностью смысловой связи, даже там, где она выступает в ее роли по отношению к чувственному существованию. Здесь она испытывает искушение: исходя из собственного всемогущества, уклониться от всякого смысла; сделать вид, будто она и есть непосредственно само имя.
Шенкер рассек гордиев узел старой полемики и выступил против как эстетики выражения, так и формальной эстетики. Вместо этого он, как, впрочем, и постыдно недооцененный им Шенберг, сосредоточил свое внимание на понятии музыкального содержания. Эстетика выражения путает многозначно вливающиеся в целое отдельные интенции с его свободным от интенций содержанием. Теория Вагнера слишком поверхностна, потому что представляет содержание музыки в соответствии с расширенным до бесконечности выражением всех музыкальных моментов, в то время как высказывание целого качественно отличается от отдельного выражения намерения. Последовательная эстетика выражения оканчивается соблазном произвольно подменить объективность самой вещи чем-то эфемерным и случайно понятым. Контраргумент — о
Музыка и язык находятся в напряжении по отношению друг к другу в самой музыке. Ее нельзя свести ни к простому бытию-в-себе звуков, ни к простому бытию для субъекта. Музыка — это скрытый, как для нее самой, так и для познающих способ познания. Но, во всяком случае, у нее столько общего с их дискурсивной формой, что она не может быть разрешена ни в пользу субъекта, ни в пользу объекта, они оба передаются в ней, перемежаясь друг с другом. Как те музыки кажутся самыми красноречивыми, в которых бытие целого наиболее последовательным образом поглощает конкретные интенции и утверждает себя над ними, так объективность музыки в качестве воплощения ее логики — неотделима от ее сходства с языком, из которого она черпает все то, что вообще по своей сути логично. Эти категории настолько комплементарны, что они не могут удерживаться в равновесии посредством помещения музыки на одинаковом расстоянии между ними. Ее успех лежит скорее в безудержности, с которой она предается своим крайним полюсам. Об этом убедительно свидетельствует история новой музыки. Там, где она [музыка] уклоняется от напряжения между музыкой и языком, ее постигает наказание.
[…]
Музыка страдает от сходства с языком и не может его избежать. Поэтому она не должна останавливаться на абстрактном отрицании этого сходства. Тот факт, что музыка, как язык, передразнивает и в силу своего сходства с языком всегда задает загадку, которую она, будучи, в свою очередь, языком не-подразумевающим, все же никогда не разгадывает, не должен соблазнить на то, чтобы отмахнуться от этого момента как от простого обмана. Она разделяет со всяким искусством характер загадки — способность выражать нечто понятное и в то же время непонятное. Нельзя точно установить, что говорит то или иное искусство, и все же оно говорит. Однако единственно сама эта недостаточность касается искусства лишь в принципе, не перенося его в нечто другое, спасительное — например, в дискурсивное познание. Хотя идея неиллюзорной истины остается незаменимой в искусстве, выйти за пределы иллюзии — не в его силах. Оно приближается к идее неиллюзорности скорее через доведение своей иллюзии до совершенства, нежели чем через
[1] Адорно здесь, противопоставляя музыку обычному разговорному языку, использует для его обозначения словосочетание meinende Sprache. Meinen при этом обладает несколькими значениями, а именно: иметь в виду, подразумевать, думать/считать/полагать, высказывать своё мнение/говорить, иметь намерение (сделать что-л.), стремиться (к
[2] Gestalt [прим. пер. Д. К.].
[3] Хотя и «это так» с точки зрения прагматики языка было бы неточно назвать интенцией, но точнее — речевым актом, выражающим интенцию суждения, мы сохраняем верность оригинальному тексту и приводим авторскую формулировку [прим. выпуск. ред. Е. З.].
Оригинальный текст: Adorno, Theodor W.: Musik, Sprache und ihr Verhältnis im gegenwärtigen Komponieren, in: Adorno, Musikalische Schriften I–III, Gesammelte Schriften, Bd. 16, Frankfurt am Main, 2003, S. 649–664. Перевод публикуется в некоммерческих целях.
