Влад Гагин. Дано: тело
they trap you in these systems that are phallic in design
because they fuck you in the mind
boy, they fuck you all the time
LIL UGLY MANE
Написать о своем теле мне захотелось, когда мы возвращались в Питер в плацкартном вагоне. Зеркала в биотуалетах — а также освещение, расстояние от тела до зеркала, которое невозможно увеличить — заставляют вспомнить слишком многое.
Было время, когда я бросал взгляд на каждую витрину, каждое стекло автомобиля, как бы сверяясь с
Помню бабушкино трюмо, зеркала в центре и на дверцах. Зеркала на дверцах можно было вертеть так, чтобы отражения уходили в бесконечность. Не знаю, что поражало меня больше: этот достраивающийся с помощью мышления не-горизонт или же собственный профиль, казавшийся профилем гуманоида, мутанта, обезьяны, кого угодно, но не человека. Продолговатый череп, толстые губы.
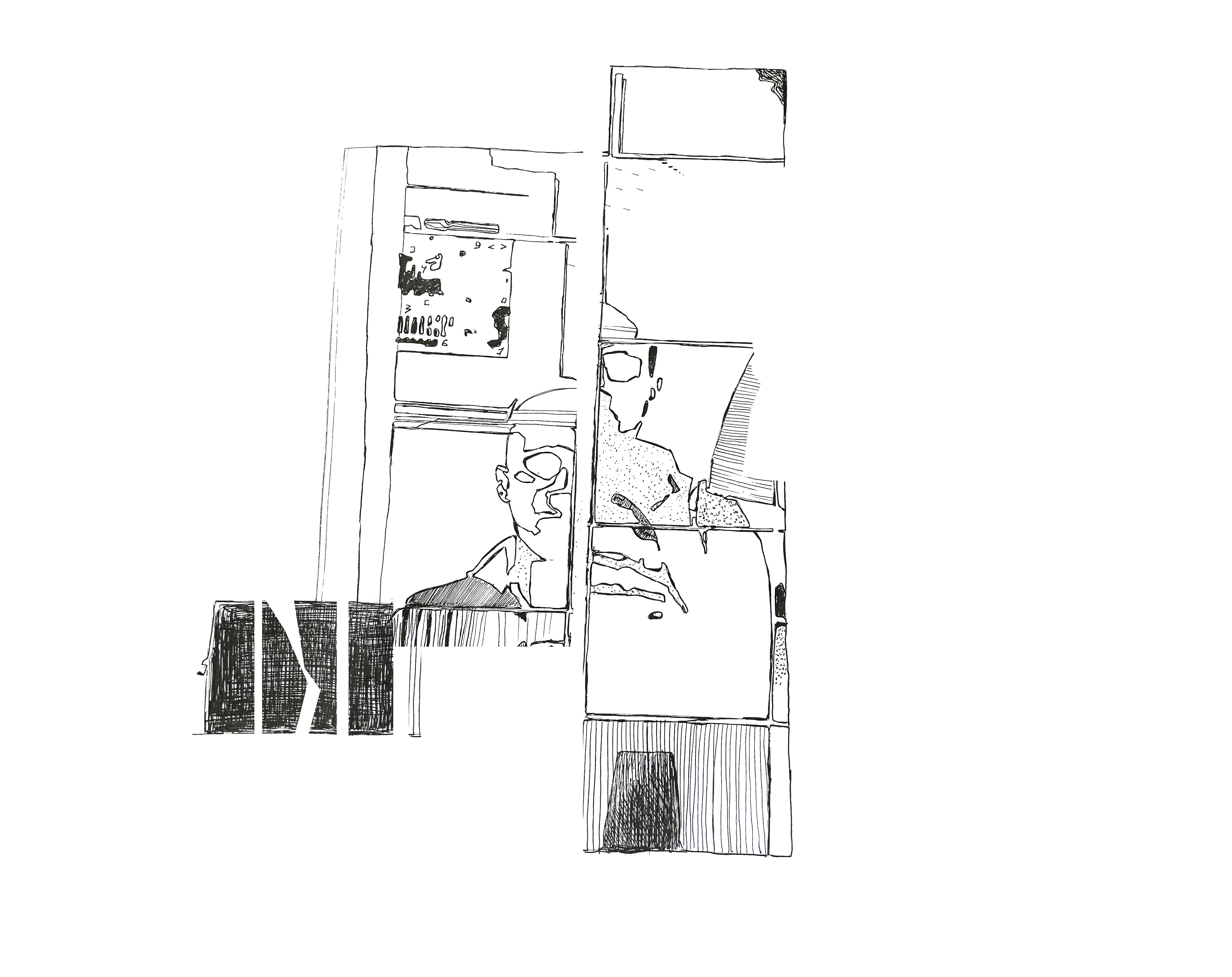
Как-то мы сидели с подругой у нее дома, была зима, но вспоминались летние дни: парки, вино, залив, тусовки на бордюре у бара «Хроники». В конце концов, можно ходить в одной футболке. Заикание мысли: почему же мне так некомфортно ходить в одной футболке? Даже в жару я предпочитаю накинуть легкую рубашку. По туннелю воспоминаний скольжу в детский лагерь «Фестивальный»: мне девять, мальчик Фирдавс, на несколько лет постарше, сообщает, что в этой белой футболке я выгляжу пухлым. Заявление, которое сложно принять и вообще осмыслить, потому что, кажется, раньше я вообще не думал о себе в таких категориях.
Но я буду очень много думать в таких категориях после[1]. Пик — старшие классы школы. Есть фотография из того времени, где я стою топлес. Занятия борьбой не прошли даром: я вижу кубики пресса, о которых сейчас остались только отдаленные воспоминания. Вероятно, я был в своей лучшей — с точки зрения бьюти-канона — форме, но чувствовал себя одновременно и как нелепый пухлый подросток, и как изломанная фигура с картины Шиле.
Зеркала и отсутствие прикосновения. Дурная бесконечность болезненных попыток увидеть свое тело нормальным действовала как
Всё менялось, тело узнавало разные способы общения, училось быть уязвимым осознанно, быть красивым в своей хрупкости, но дурацкий зуд никуда не делся. Идешь в белой футболке по городу в знойный летний день — и растождествляющая пыточная машина работает.
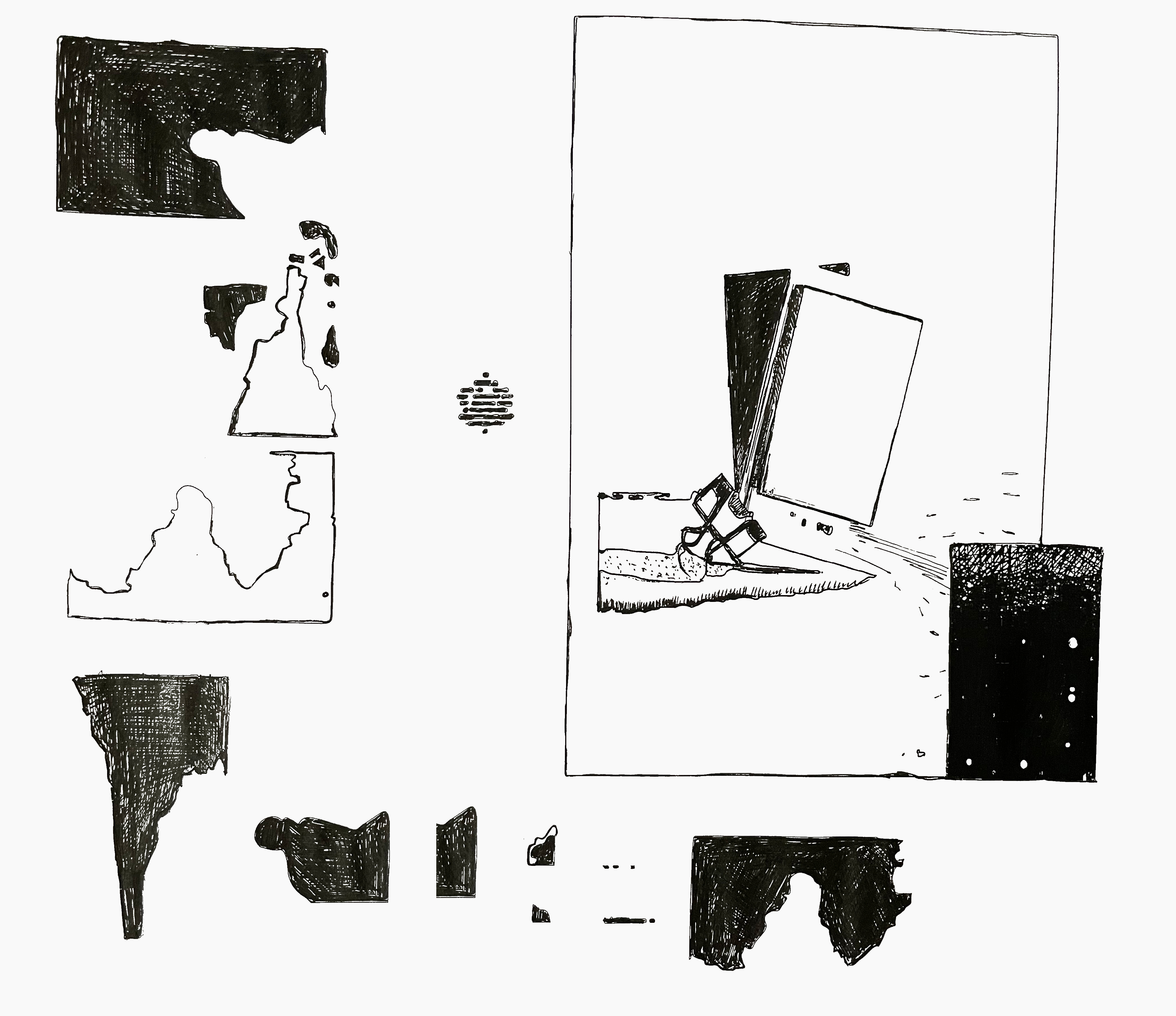
Занятия борьбой. Раздевалки, пропахшие потом; татами; пубертатные мальчики, касающиеся друг друга, хватающие друг друга, фиксирующие друг друга в определенных положениях. Мальчики, рассматривающие тела товарищей практически рентгеновским зрением, безошибочно угадывающие зоны анормальности, несоответствия невидимому образцу.
Вся эта тактильность порой выливалась в гомоэротические игры. Один из мальчиков мог наброситься на другого, изображая, что он его трахает. Такая энергетика контрастировала с гомофобным дискурсом, царившим вокруг: ты пидор, потому что не так говоришь, не так одеваешься, не такого роста, возраста, телосложения. Ты пидор, в конце концов, потому что ты безвластен. Бедные мальчики, зажатые в казематах провинциальной школы, подпирающие стену на дискотеках в актовом зале, не умеющие любить или принимать любовь, но так жаждущие хоть какой-то любви. Любовь была недоступна.
Танец тоже почему-то был недоступен. Танцевать считалось зазорным — по крайней мере, если предварительно ты не напился блейзера. До сих пор люди говорят, что я танцую странно. Я долго учился танцевать, вылеплял заново эту естественность реагирования на ритмическое, но не знаю, получилось ли. Кажется, что я не могу отдаться танцу — я как бы озираюсь на свое тело, пребываю в вечном зазоре, оглядываюсь, будто за мной погоня. Может быть, так и есть. Может быть, слово «танец» в этом абзаце стоит заменить словом «секс».
Нет, конечно, и я был, как говорится, лодкой, отплывшей в темное, и я был, как говорится, стрижом, и я был, как говорится, жаждой, и я был, как говорится, утолением жажды.
Но как странно открывать эти континенты, места, где тебя любят просто так — и всё же одергиваться иной раз, случайно заметив, что лицо подруги напоминает лицо услужливой хостес, а сам ты двигаешься, как изможденный завоеватель, т.е. пытаешься превратить разомкнутый мир в то, что тебе обещали.
Вот что еще более странно: так много написать о политико-онтологических тупиках и забыть упомянуть об истории своего тела, думать, что эти вещи не так важны, как отсутствие основания или трагическая заброшенность в мир.

До того, как увидеть свое отражение в биотуалете поезда, едущего в Питер, я простудился. Пару дней спал, ел и страдал, пока Кирилл работал, а Оля ходила в кино, еще не догадываясь, что их ждет схожая участь несколькими днями позже. Оказавшись на своего рода плато перед выздоровлением, я вышел из дома в брюках и футболке. Солнечный день, конец августа. Можно думать об иммунном ответе, вирусах, всех этих загадочных процессах, которые почему-то легче всего представлять в виде внутренних вихрей.
Можно чувствовать себя живым, быть странным игривым животным, чудом выскользнувшим из лап куда как более стремной болезни, чем эта простуда.
Тело конкретно, но его границы неопределимы: оно протяженное, то сливается с окружающей средой, то замыкается на себе или локализованной части себя. Социальное порой структурирует мышление таким образом, что оно загоняет тело в затхлую нору предписаний. Сейчас кажется невероятным, что какие-то области головы удалось деколонизировать — или же им самим захотелось чего-то другого.
Им захотелось танцевать, как обезьяна, вместе с друзьями где-то на окраине города. Главное — не оглядываться, а то увидишь родственников, отмечающих что-то под звуки государственного телеканала. Родственники множатся в пространстве общего горя, но это уже (не)совсем другая история.

*
После того, как я отправил этот текст на почту Ф-письма, я стало испытывать странные чувства. Возможно, этот текст не должен быть опубликован, само его появление в журнале — что-то вроде вывернутой миграции. Тело, выросшее как мужское, напечатало микро-историю себя и отправило эту историю в журнал, ориентированный на разработку и репрезентацию феминистских способов писать и мыслить. Так почему это тело, публикуясь на
Дело в том, что я сопротивляюсь: представленные в тексте линии ускользания из мест патриархальной социализации не должны становиться успокоительным елеем. Борьба за иные территории еще в самом начале. Мое (уже не только)мужское тело продолжает подвергаться насилию и воспроизводить практики, связанные с насилием. Дорожки сексуализации этого тела, символические каналы, по которым движется наслаждение, проложены в рамках довольно тривиальной и довольно удушающей географии. Иногда я чувствую, говорит мое тело, себя в странном разрыве между положением угнетенного и угнетателя, женщины и мужчины, животного и мыслителя. И хотелось бы, чтобы этот разрыв, это пограничье, расширилось — как пространство риска и эксперимента, как плато вопросов, как перекресток политики.
Я благодарен редакторскому коллективу Ф-письма за возможность быть странным гостем, за открытость — то есть самую рискованную и, вероятно, самую необходимую предпосылку для такого рода политики, которая порой мне снится.
[1] Здесь речь не идет о событии, запустившем травматическое, но, скорее, нечто должно было случиться, чтобы порождающие механизмы реальности, включающие в себя социальную схему, какой-то узор, предвосхитивший болезненную реакцию, заработали. Может быть, этот узор состоит из косых взглядов бабушек во дворе, фразы из популярного в то время сериала, диалога матери с подругой и т.д.
Влад Гагин. Родился в Уфе, живет в
