Люба Макаревская. Отрывки из книги "Март, октябрь, Мальва"

Но проклятая звездочка восходила.
Линор Горалик
Куда бы не уплыл моряк (отрывок)
Когда я повзрослела, секс в моем случае полностью заменил собой селфхарм. Мое тело все время искало сильных эмоций выхода и освобождения через них, но я никогда так и не смогла преодолеть внутренней агрессии. Потому я всегда искала и выбирала отчужденных мужчин, опасных мужчин, начиная с самого первого. Когда Мальве было десять лет, я встретила Алексея.
В ванной мне часто казалось, что теплая вода ласкает меня, как его пальцы, и тогда я закрывала глаза и плакала от тоски.
Помню, как пульсировала новогодняя гирлянда, когда мы впервые были близки. Розовый свет переходил в зеленый, красный, голубой.
Главное укрытие мы всегда находим в нашей памяти, и я нахожу его в той ночи с ним. Тогда ненадолго я вышла из спальни, завернувшись в большое пуховое одеяло. В ванной я посмотрела на свое лицо в зеркале, и когда я вернулась к нему, он спросил меня про одеяло:
— Оно не слишком тяжелое для тебя?
Он обнял меня и снова стал ласкать. Он пах табаком, он был колючим и нежным, не таким, как другие, не таким, как вся моя предыдущая жизнь, и свет опять переходил в зеленый, голубой, красный, желтый.
И моя близость с ним была ни на что не похожа, она была такой хрупкой и напоминала только возвращение в детство. В его беззащитность. И в ней я впервые начинала слышать себя саму. Слышать и слушать.
С ним я узнала о себе так много. Я узнала, насколько я могу быть свободной с другим человеком и насколько я могу зависимой.
В ту ночь мне казалось, что мы c ним лежим внутри розовой ваты или на дне морском. Неважно было, что до этого он игнорировал меня несколько недель и на левой руке у меня остался огненный след от ожога, которым я стремилась заглушить боль от его молчания. Все было неважно.
Во сне он взял меня за руку и сжал ее. Легко и очень нежно, так же как час назад взял меня. Я подумала, что впервые в жизни мне нравится совместный сон с кем-то. И я невольно улыбнулась, не открывая глаз, потому что первое, что ему сказала, когда мы только познакомились, было:
— Я не могу спать на новых местах.
С ним я могла. И именно с ним я узнала, что такое совместный сон, каким глубоким он может быть или, наоборот, прерывистым, сколько тепла в нем может быть. Каково это — спать не разнимая рук.
А потом он исчезает, отстраняется на недели. И я снова повторяю маршрут своей юности — Покровка, Чистые пруды, только теперь еще и Сретенка и вечный трамвай «Аннушка».

И обледеневший город перед моими глазами. Белый, пустой, холодный, наполненный только огнями, и все люди в нем как тени, манекены — все, кроме него и меня самой.
И его голос в моих ушах в ту ночь, когда он позвал меня; была оттепель, и воздух был сырым, он только что вернулся с Галапагосских островов, и когда я засыпала, он шептал мне на ухо что-то про океан.
И теперь сквозь эту белую городскую пустоту со мной была память о его голосе в моих ушах, о его теле и о том, каким бесконечным стало мое собственное тело рядом с ним.
И когда потом сквозь городской холод, белый и пустой, я приходила домой, меня всегда ждала Мальва.
Не переставая вилять хвостом, точно пропеллером, как безумная, она подходила ко мне, теплая и возбужденная, и порывисто била по мне лапой в знак радости. Часто я раздражалась и сердилась на нее, потому что боялась, что она порвет мои колготки. И кричала:
— Ну, Мальва, нет, только не это. Только не прыгай, только не лапы.
И затем, когда я переодевалась, а она немного успокаивалась, Мальва снова подходила ко мне, клала голову мне колени и внимательно заглядывала в мои глаза, чтобы понять, в каком я настроении.
Иногда, когда я возвращалась, с ней гуляла мама, и, уже подходя ко двору, я видела ее долговязую, чуть нелепую фигуру: она так и осталась похожей на кенгуру.
Большие уши, длинные лапы, рыжее тело, черный нос — Мальва.
Я томилась до марта в ожидании, когда Алексей снова позовет меня, и наравне с другим своим декадентским плейлистом почему-то часто слушала Лемешева «Скажите, девушки, подружке вашей».
И тогда Мальва приходила ко мне в комнату, ложилась рядом со мной или на пол, но всегда блаженно прикрывала глаза и впадала в любовную негу и тут же подставляла свой розовый живот, чтобы я ее гладила, стоило ей только услышать первые аккорды.
Дни проходили в повторении: Мальва спала и валялась со мной, вытянувшись вдоль моего позвоночника, или слушала вместе со мной Лемешева.
Я могла думать только об Алексее, гладя Мальву и катаясь в «Аннушке» по заколдованному кругу.
И вот наступил конец марта.
Холодная, пустая комната — его спальня, подоконник весь в книжках. Окно без занавесок, и в нем крыши, крыши, и, кроме крыш и снега, никого — совсем по тексту: «на мир наступает коронавирус, на город — карантин».
Он переворачивает меня на живот и бьет, потом прижимает к себе, и я целую его небритые щеки, колючие.
После он берет меня за руку, гладит мои пальцы и спрашивает меня, хорошо ли мне.
И я отвечаю ему, что да. И про себя сквозь потрясение я думаю: ни разу в жизни мне не было так хорошо. Ни в детстве, ни в юности — никогда раньше.
И спрашиваю о его детстве, и он уходит от ответа.
И сырой мартовский ветер завывает посреди моего короткого прерывистого полусна с ним.
Я с тобой в Рокленде, мне снишься ты, мокрый,
переплывший вплавь море, пересекший пешком всю
Америку.
Ален Гинзберг. Вопль
Близость
Глаза дворника, наполненные южным теплом, мимоходом вбирают меня в себя посреди заснеженной Сретенки, пока я спешу к его дому. Эти темные глаза наполнены теплом, о котором я ничего не знаю и, наверно, никогда не узнаю. И сквозь мороз я спешу к знакомому подъезду, к тому, что я знаю хорошо, до дрожи.

Я люблю эти несколько минут до за ожидание, которое в них есть. Не могу уйти, не могу прекратить. И вскоре мы оказываемся под одеялом — я и он. Он что-то говорит мне на ухо.
Я не могу разобрать и почти сразу вскрикиваю и проваливаюсь в собственный стон.
И теперь он шепчет мне на ухо: «Тихо, тише, тише».
И я отключаюсь от себя самой, исчезаю в черном тепле. И когда я прирастаю к его члену, беру его в рот, мне становится так тепло и хорошо. Я становлюсь маленькой и несуществующей, становлюсь собой. Одновременно ребенком и женщиной. Всегда одновременно. Мне нравится слушать, как он начинает стонать и гладит мою шею и лопатки и как затем, кончая, он протягивает мне свою руку и наши пальцы сплетаются, потом он прижимает меня к себе и снова дает мне свою руку. И мне кажется, что близость между нами черная, теплая, бесконечная и она не может прерваться.
Ни мороз, ни ветер, ни весь внешний мир — ничто не может нас разлучить.
А уже в апреле на своей кухне после очередной близости он рассказывает мне о девушке в окнах доходного дома, на которую он смотрел часами во время работы из широкого офисного окна в 2000 году. Он работал тогда в Гнездниковском переулке. И он описывает мне ее светлые волосы до лопаток, и я представляю себе, каким золотым было ее тело. И почему-то внезапно спрашиваю его, где он был в день взрыва в Пушкинском переходе в том же 2000 году. И он говорит мне, что был за границей, в Испании. И я вспоминаю дым, который я видела в своих окнах в тот августовский день. За неделю до этого теракта я купила сережки в этом переходе. Я жила тогда рядом с «Пушкинской», мне было четырнадцать лет, а ему двадцать пять.
Затем он снова говорит мне о той девушке, ее волосах и теле и что он прозвал ее Белочкой про себя, он говорит мне, что она ничего не делала целыми днями, а только ходила по комнате туда-сюда обнаженная и долго стояла перед огромным мольбертом, но позже кто-то из сотрудников редакции, где он работал, зашел к ней в гости и узнал, что это был не мольберт, а огромное зеркало и она просто красилась. Я предположила, что, возможно, она была в депрессии, и он посмотрел на меня внимательно и ответил:
— Не все так сложно устроены, как ты.
Я опустила голову и улыбнулась про себя, значит, он думает, что я сложная.
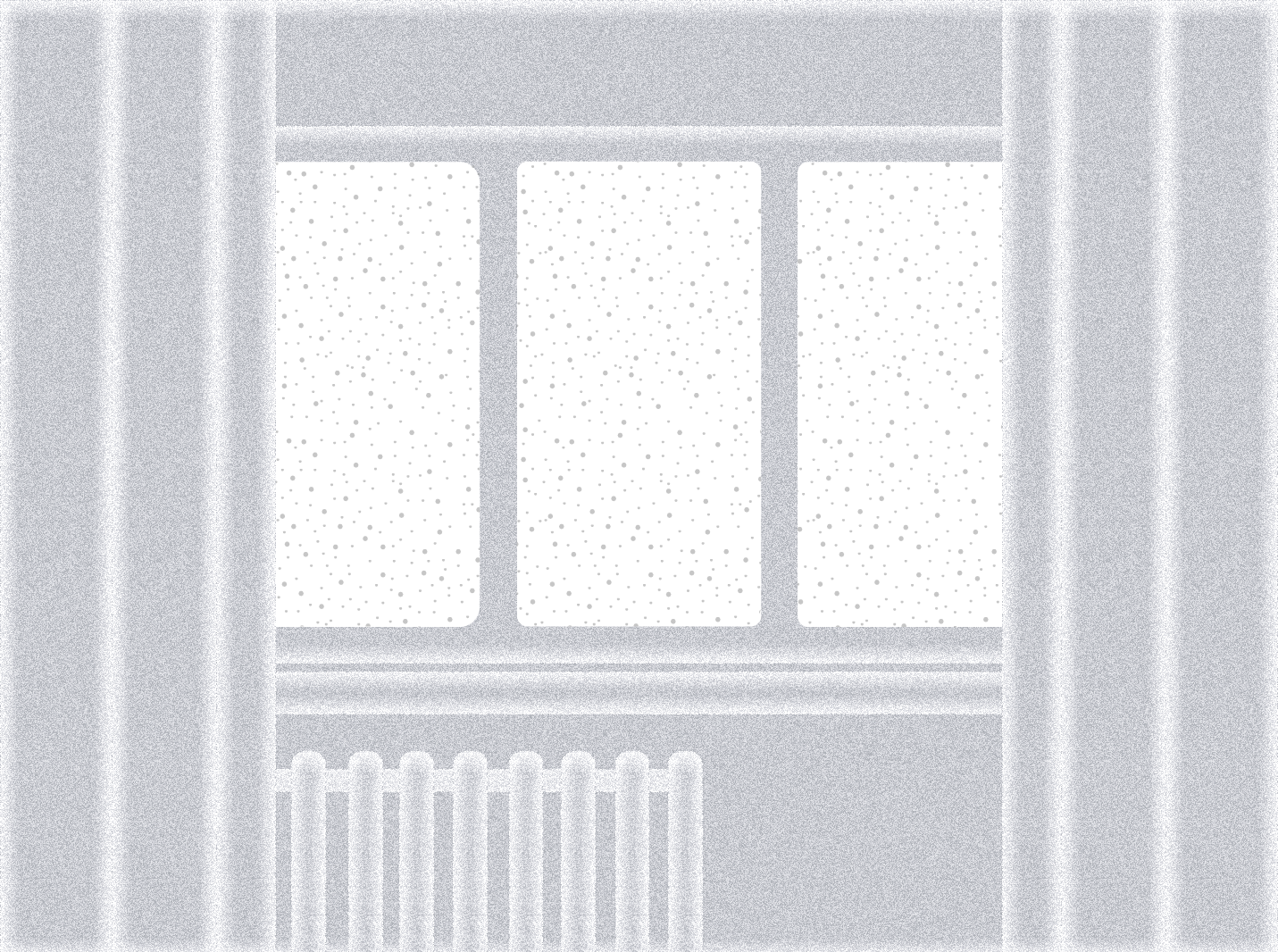
И вот я уже снимаю с себя его майку, одеваюсь, выхожу из его квартиры, и близость между нами прерывается, разрывается.
На следующий день я гуляю в Гнездниковском переулке, где он работал в 2000-х, смотрю в окна дома, в который он смотрел на светловолосую девушку Белочку. День, два он не отвечает на сообщения.
Сумасшедшая в городском кафе говорит:
— Кому нужна любовь после смерти?
А я ношу в своей холщовой сумке новые кружевные трусы на случай, если он меня позовет снова.
Лилово-золотистые апрельские сумерки, издательская вечеринка на последнем этаже Гостиного двора и мое мучительное отвращение ко всем, кроме него, ужасное чувство сиротства, оторванности от него и от себя самой, а значит, в итоге и от реальности.
Шампанское смешивается с хором веселых голосов, и, глядя на город с высоты, я воображаю себе любовь, которой никогда не знала и, наверно, не умела давать, всегда только привязанность, потребность в близости, чтобы укрыться от страха.
Когда мне было двенадцать лет, поезд мчался из Подмосковья в Москву и в окно я видела ночное летнее небо и поля и стога сена, весь мир принадлежал мне. Тем же летом я ходила с бабушкой в кино на «Титаник» уже в третий или четвертый раз, и небо на экране было розовым, голубым, желтым и синим. Волшебным. И мне так хотелось безусловной любви как на экране. В феврале следующего года моя бабушка умерла. Прошло двадцать четыре года, а мне все так же остро хочется безусловной любви. Но небо больше не бывает таким розовым, как было в то лето, когда мне было двенадцать лет.
Уже дома на рассвете в муках тревоги я смотрю по «Ютубу» на выступление Тины Тернер 1991 года, она исполняет The Best, на ней светло-голубые джинсы, белая блузка и черный короткий пиджак, она заливается, как безумная, пляшет и бесится, восхитительно свободная, мне кажется, я никогда не буду настолько свободной и никогда не была или, может, только в то самое лето, когда мне было двенадцать.
Часто я думаю о своем теле как об ассортименте мясной лавки, отправляя ему бесконечные интимные фото в сообщениях в ответ на его молчание, когда оно становится невыносимым для меня. Всегда.
И все же я даже не думаю о возможности приблизиться к такой ядерной, огненной боли, как разлука с ним. Лучше вечная созависимость, ее темная воронка между мной и ним, ликвидирующая для меня весь остальной мир.
Как иногда травма отвращает нас от жертвы, потому что мы не в силах сопереживать, не в силах принять то, что она пережила, и она стоит среди нас с выбитыми зубами или отсутствующими конечностями и сияет силой своего несчастья, силой перенесенной трагедии, пока мы жалко ищем слова или отводим глаза.
Точно так же всегда стыдно с чувствами: ими нельзя управлять. Совсем. И когда наконец мы снова встречаемся с ним, во мне словно что-то ломается.
Когда он спрашивает меня, почему я не мокрая, я ощущаю стыд и вину за молчание своего тела. За то, что оно закрылось от него, словно на замок. Почему мы перестаем хотеть тех, кого любили?
И позже, когда он кончает, он кажется мне таким чужим впервые, его удовольствие совершенно отдельно от меня и не трогает меня, а только ранит своей отдельностью, непричастностью ко мне самой. Он чужой мне, как экран, транслирующий порнофильм, и мне не хочется прижаться к нему, разделить с ним все, что он чувствует, как хотелось всегда раньше.
Я ощущаю какое-то тупое удивление, которое вскоре стихает. Странно, раньше, когда он появлялся, я сама как будто тоже появлялась до конца. Воскрешала себя для себя же самой.
Появлялись мои руки, ноги, чтобы обвивать его, я начинала чувствовать, что я есть, что я живая. И мне хотелось этой свободы, которой мог меня научить только он, которую прежде мне мог дать только он.
Теперь же мне вдруг захотелось уйти от этой новой пустоты, возникшей между мной и ним, возникшей во мне. Мне хотелось уйти от боли.
Я снова ухожу от него, выхожу из его жилища, и наша близость снова прерывается, разрывается.
Ну почему даже после пустоты сквозь нее он все еще так важен для меня, и когда он долго не смотрит на меня, мне становится больно: мне кажется, что меня нет. Кажется, что я перестаю существовать, я подхожу к зеркалу и пытаюсь узнать себя, понять, кто это оттуда смотрит на меня. Мой мир герметичен и замкнут на мне самой и на близости с ним, но в глубине себя, в глубине своего сознания я знаю, что с человеком всегда происходит то, чего он боится.
Я трогаю свои соски, и темная волна стирает меня. Во мне не остается ничего, кроме желания.
Или обиды на него и себя саму.
Написать человеку, похожему на палача, в дейтинг-приложении, выйти на улицу голой, выйти в окно — все одно.
Всегда происходит или почти всегда то, чего бы я не хотела, и еще это гнетущее состояние, которое я помню с ранней юности, когда внезапно вся мужская часть улицы смотрит на тебя и не потому, что ты как-то особенно одета, а потому, что все они чувствуют твое состояние.
Эти периоды гиперсексуальности и гипервидимости в моем случае почти всегда совпадали с самыми тяжелыми обострениями депрессии и деперсонализации, я вроде как вся была телом, но была предельно далеко от него в этих периодах.
Меж тем в приложении были: парень, который слал мне несмешные мемы, парень, который сразу же спросил меня про римминг, парень, похожий на палача. Не было только его.

В конце концов я, конечно, решаю трахнуться именно с тем, кто похож на палача. Просто чтобы отменить саму себя.
Но мне хочется, чтобы он остановил меня, услышал на расстоянии. Ведь телепатия — главное свойство влюбленных, если ее уже нет, она не работает, то ничего нет.
И все же я еду на встречу, а он не останавливает меня, я выхожу из метро, и чужой человек пишет мне: «У меня уже стоит».
И именно в этот момент я понимаю, что не смогу. Год назад ровно в этот день мы занимались любовью с ним — с не останавливающим меня, и он впервые рассказал мне, откуда у него веснушки на спине, которые я так любила целовать и прижиматься к ним в полусне.
Небо разрывается тонкими нитками розовой ватой, и сквозь летний закат я вижу лицо смерти — она смотрит прямо на меня.
И тогда я вспоминаю, как дрожат его веки и ресницы, когда он просыпается, и все периоды близости и неблизости между мной и ним; я стою на развилке между метро и чужим домом, я плачу и не могу остановиться.
И вдруг внутри у меня почему-то звучит невыносимо нежная и простая песня Роберты Флэк Killing me softly with his song:
Strumming my pain with his fingers,
Singing my life with his words,
Killing me softly with his song,
Killing me softly with his song,
Telling my whole life with his words,
Killing me softly with his song…
Она звучит тихо, почти как приговор или тайное знание.
И тогда смерть уходит, остается только моя близость с ним.
И когда мы снова находим друг друга и я прихожу к нему, то на столе стоит свежая ежевика, он снимает с меня мое любимое платье и говорит мне, что запомнил, что оно снимается через голову, несмотря на молнию, и сквозь смех его и свой я смущаюсь этой новой теплоте.
Уже в комнате он взял меня за шею и стал говорить мне на ухо, как именно он бы меня выебал, он говорил это с такой нежностью, что, даже если бы он сказал, как убьет, расчленит меня, я бы все равно не чувствовала ничего, кроме этой нежности, мне казалось, что она может расплавить и меня, и мое тело, и все пространство вокруг, и время. И потом совсем глухим голосом назвал меня по имени.
А когда он уснул, я заплакала от нежности, мне казалось, что я чувствую такую нежность, что я не могу ее перенести, мне хотелось, чтобы он проснулся и укрыл меня от этой нежности, спас меня. Я снова смотрела, как дрожат его ресницы и веки сквозь полусон, и на морщинки в уголках его глаз, я любила его в те минуты больше всех живых существ на земле, больше всего мира. И я знала, что отдала бы жизнь за него. Я смотрела на него и думала, что хочу, чтобы мои слезы смешались с его спермой, чтобы ни я, ни он уже не могли преодолеть это единство между нами, так похожее на сиротство и болезнь, чтобы мы навсегда утратили эту способность с легкостью сломанных детей преступать через близость. И вечер всходил над городом как меч, как самое простое обещание из всех возможных.
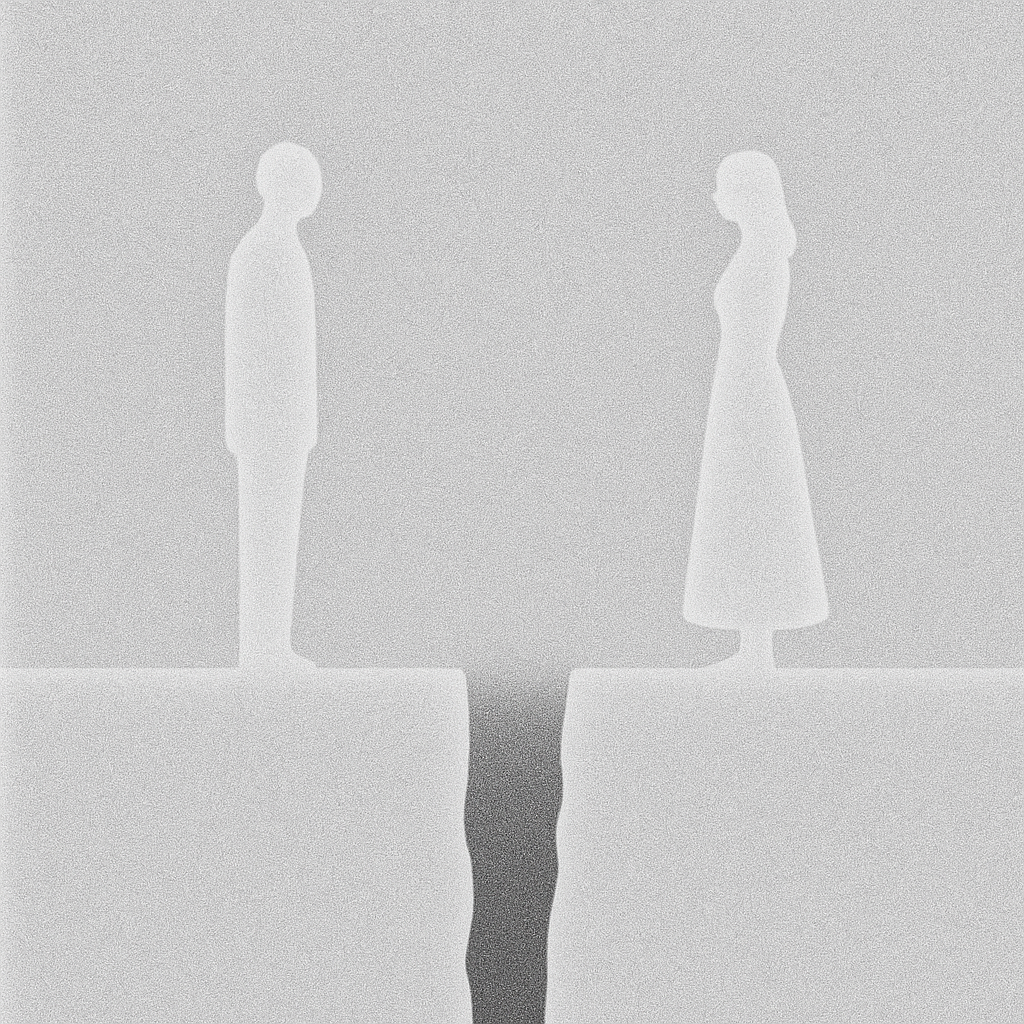
Письмо
То, что письмо — это персональный билет в другой мир, я знала хорошо с одиннадцати лет. И весной 2012 года я возвращала этот мир себе.
Помню, как в пасхальную ночь я валялась на полу одного бара на Патриарших с совершенно незнакомым парнем. И он спросил меня, чего бы я хотела от жизни, а поскольку я была уже очень пьяная, я честно ответила ему, что хотела бы быть гениальным писателем. Он сказал мне, что это процесс, а не результат, и спросил, чего я бы хотела в результате, я ответила, что это будет процесс и результат вместе. Теперь я, конечно, понимаю, что он был прав, письмо — это всегда только процесс и никогда результат.
Но в ту апрельскую ночь я лежала на полу бара и думала, что же такое есть письмо и что оно значит для меня?
И звезды от диско-шаров на потолке плясали и распадались на чистый свет, на целые вселенные.
И так звездное небо, черно-белое фото Плат и заляпанные грязью ботинки Ди Каприо в фильме «Полное затмение», фото Набокова, где на его лице видны все морщинки, и впервые прочитанные строчки Гинзберга: «Я видел лучшие умы своего поколения, разрушенные безумием» — или просто постоянный и страшный огонь внутри. Кошмарные сны, когда тебе снится, что находишься в пространстве, где нет бумаги и ручки. Нет телефона или ноутбука, нет ни одного способа зафиксировать свои мысли. И ты мечешься во сне в этом замкнутом помещении, как наркоман, как человек, отключенный от своего главного топлива. Так я видела не письмо даже, а образ литературы в девятнадцать лет, и этот образ меня поражал.

И тогда я ужасно хотела ему соответствовать, и мои первые попытки этого соответствия кончились аутоагрессией и нервным срывом, внутри которого я начала слышать звук, мне наконец стали нравиться собственные тексты, но в двадцать я еще не до конца верила в свой голос, и потом была живопись, новые срывы — и вот теперь письмо возвращалось ко мне, и я его возвращала себе. Я фиксировала себя саму и мир вокруг с новой страстью. И кружение диско-шаров, и запах весенней листвы, и свой вечный разлом.
И письмо становилось для меня возвращением к себе живой и настоящей, попыткой наконец перестать бояться себя.
Так вначале бегут от своего отражения, а затем вынужденно снова и снова к нему возвращаются.
Когда утром мы с Мальвой гуляли во дворе, я смотрела на деревья, голый асфальт и первую траву, и буквы складывались в слова, предложения и смыслы — во все то, что было у меня внутри.
В мае мне удалили нижнюю восьмерку, и это стало каким-то переломным моментом для меня: удаление было тяжелым, и несколько дней я провела в кровати с распухшим лицом, и именно тогда я окончательно погрузилась в текст, я редактировала свою первую повесть, она целиком состояла для меня из солнечных лучей и песни Леонарда Коэна Suzanne.
Я проваливалась в язык, и все другое было мне неинтересно.
Именно по причине распухшего лица я не смогла пойти на Болотную площадь, так драматично закончившуюся для многих моих знакомых, и не знаю, было ли это совпадение счастливым или просто временно уберегающим.
И когда уже несколько дней спустя Мальва тянула меня на улице во время прогулки вперед или в сторону, каждое резкое движение отдавало мне в нижнюю челюсть.
Неделю спустя я встретила на концерте в Санкт-Петербурге свою старую знакомую.
Живи там хорошо
Живи там хорошо
Живи там хорошо
Не возвращайся никогда
Я ору ей в уши, перекрикивая музыку:
— Я не была на Болотной из-за челюсти: она распухла, у меня было очень страшное лицо.
Она смеется и, тоже перекрикивая,
Здесь жизни нет и не будет
Жизни нет и не будет
Жизни нет и не будет
Не возвращайся никогда
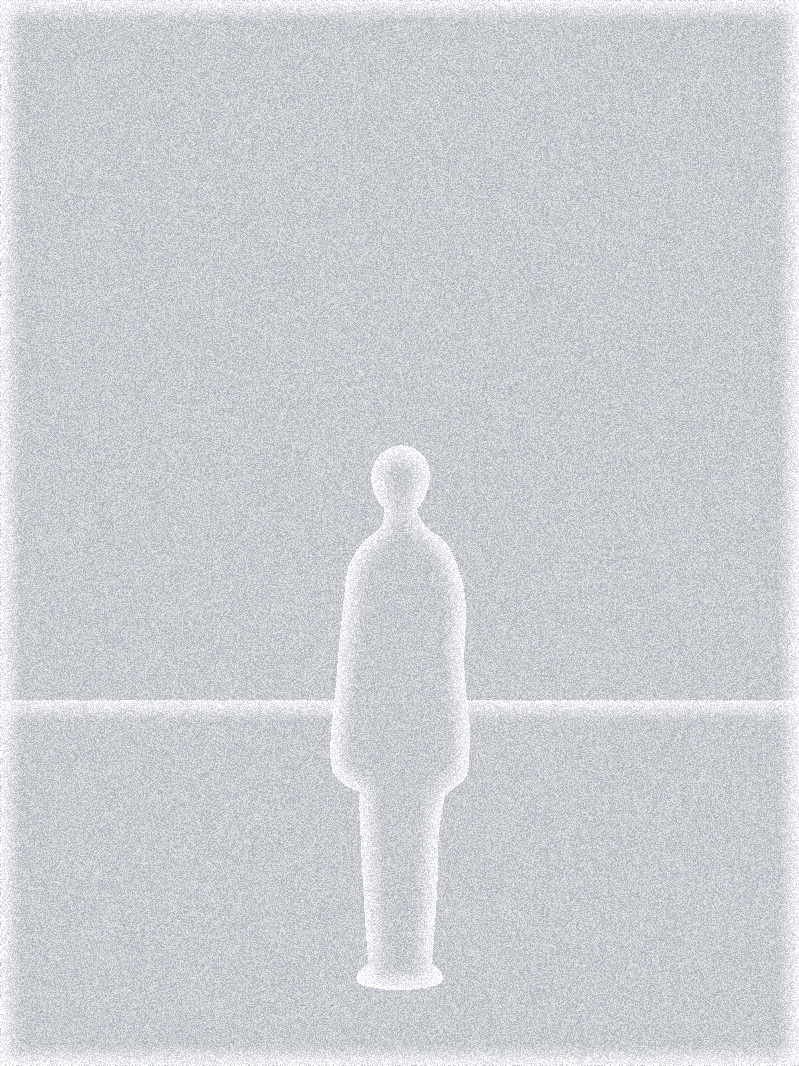
отвечает мне:
— Уродов там тоже хватало.
Упоительно и сладко обезболивающее кетанов мешается с алкоголем, она традиционно рассказывает мне про беспредел «космонавтов», и я не чувствую опасности, только какую-то почти преступную легкость оттого, что накануне ночью я почти закончила свой текст.
Я снова слышу настойчивое и отчаянное:
Жизни нет и не будет
Не возвращайся никогда
Умом я знаю, что это так, но еще совсем не могу в это поверить. После концерта я, пьяная, иду по майскому городу и вижу пару: они занимаются сексом прямо у стены на выходе из Столешникова переулка, у нее лицо как у кореянки, она исступленно обнимает его, нижняя часть одежды спущена у обоих, его лица я не вижу; несколько секунд я смотрю на них как зачарованная, а потом я иду дальше, и город кажется мне свободным, и майский ветер ласкает мои голые ноги, и мне видится, что весь мир лежит перед мной и мерцает просто потому, что я могу писать.
И когда я возвращаюсь домой, то я пишу до рассвета. Я не отрицаю себя и впервые в жизни не бегу от себя. А днем мы с Мальвой идем гулять в парк.
К лету Петровский парк, где мы всегда гуляли с Мальвой, стал похож на роскошные джунгли, и тексты начинали возникать в моей голове, пока мы с ней шли сквозь тенистые дорожки в самую глубь парка, блики зелени играли на ее золотистой шерсти и морде и на моих голых ногах, или когда она бесилась с другими собаками и потом лежала, счастливая и разморенная, на траве посреди парка и пыталась отдышаться, пока щенки лабрадора бегали вокруг нее, а я переглядывалась с хозяином девочки-щенка Чары, пока та снова и снова прыгала на Мальву и звала ее играть.
Мне нравилось смотреть, как легко собаки умеют следовать потребностям своего тела, как они бесятся, когда им хочется, как опьяняются игрой с друг другом. Эта их способность восхищала меня.
Первое время, как только я начинала работать, Мальва очень сердилась, и стоило мне сесть за рабочий стол, она заходила мне за спину и лаяла, чтобы я повернулась к ней и снова всецело была ее, но позже, когда она поняла, что это нечто важное для меня, у нее появилась другая привычка.
Когда я садилась работать, она тихо плюхалась на пол рядом или запрыгивала на кровать, а потом какое-то время смотрела на меня внимательно, прежде чем провалиться в дремоту.
И я начинала слышать свой собственный голос, то робко, то все более отчетливо и властно, — и он начинал управлять мной уже как инстинкт.
Я поняла тогда, что:
я не умею писать ни о ком и ни о чем, кроме себя самой. Мир для меня — это шершавая пустота языка моей собственной слюны и темноты внутри моего рта.
Затем он снова терялся, как тонкая красная нитка. Год спустя я опубликовала свою первую повесть, до сих пор помню, в каком ужасе от нее были редакторы «Знамени», и в итоге она вышла на каком-то альтернативном молодежном ресурсе. И все же, что есть мой собственный голос и о чем он, я поняла намного позже. И что голос всегда растет из одиночества, его крайней точки. Зимой 2015 года, когда все друзья и знакомые отчего-то испарились. А я мучалась влюбленностью в одного кинокритика.

Я выходила гулять с Мальвой, и перед моими глазами возникал пустой снежный простор. В нашем дворе тогда была незаконченная застывшая стройка и был огромный снежный пустырь. И покров снега на нем казался нетронутым, негородским. Я бросала Мальве ярко-оранжевый мяч, ее любимый, и она бежала за ним, летела, как комета, и возвращалась ко мне, я отбирала у нее мяч и снова бросала — и так снова и снова
Я смотрела на этот нетронутый снег словно загипнотизированная.
Я тогда читала Лакана о де Саде, о наслаждении другим, и отчего-то я видела, как сквозь снег проступают то страсть, то смерть, то голая кожа — ее ожог, то исчезновение. И мне хотелось растаять в этом снегу, стать им, его частью, как Русалочка Андерсена стала пеной морской. И сейчас, стоит мне закрыть глаза, я вижу перед собой снег и этот снежный пустырь, серое небо и Мальву вдалеке, свои холодные, замерзшие пальцы и оранжевый мяч, и именно тогда я поняла, что бы я ни написала, это всегда будет про снег.
Любовники погибнут, но не сама любовь.
Дилан Томас
Мальва
Пролог
Был август, я сидела за столиком и пила ванильный молочный коктейль, пара, сидящая напротив меня, была с щенком золотистого ретривера, его держала в руках белокурая молодая девушка, и я заплакала: у меня отходили антидепрессанты, я смотрела на щенка и плакала, потому что я думала о том, что он не знает, что одно человеческое существо может сделать с другим. Но он оказался в нашем мире.
Это было лето 2009-го, то лето, в которое я перестала контролировать свою сексуальность, и она вышла наружу и затопила меня, как черная океаническая вода. Никогда не забуду, что было с моим телом тогда. Казалось, что каждый миллиметр моего влагалища зудит изнутри, как место укуса. Помню, секс под амфетаминами на последнем этаже дома, где я выросла и жила тогда.
И как мне казалось, когда он взял меня за волосы облокотил на подоконник и ласкал мой клитор, что я вижу космос, звезды и как они распадаются, взрываются и наступает и остается только чернота. Сначала она пульсирует, а потом становиться глухой.
Я открываю глаза и вижу человека, который изнасиловал меня месяц назад. Я вижу своего первого любовника. Я ненавижу его и хочу умереть, космоса больше нет. А через несколько минут я снова хочу секса.
Теперь август; прошло почти три недели с тех пор, как я пыталась убить себя, и я пью молочный коктейль и смотрю на щенка, я плачу и не могу остановиться, а он смотрит на мир вокруг как младенец.
Книга вышла в 2025 году в издательстве LiveBook
Люба Макаревская, поэтесса, писательница. Публиковала стихи и прозу в толстых журналах (“НЛО”, “Зеркало”, “Воздух”, “Носорог”, “Незнание”, и других) и ряде сетевых изданий. Вошла в шорт-лист премии bookscriptor в жанре современная проза. Авториня четырех сборников стихов: “Любовь”, Арго-Риск (2017), “Шов”, издательство Free poetry (2019) “Еще один опыт сияния”, издательство “Кабинетный ученый” (2022), и «Прозрачный лес» издательство «Пальмира-поэзия» (2024), а также книг прозы “Третья стадия”, издательство inspiria (2023) и “Март, октябрь, Мальва”, издательство LiveBook (2025). Стихи и проза переводились на испанский, итальянский, польский и английский языки.
Выпускающая редакторка — Алиса Ройдман
