Глаз, эмоции, тело: краткая история теории кино
В рамках издательской программы журнала «Сеанс» вышла книга Томаса Эльзессера и Мальте Хагенера «Теория кино. Глаз, эмоции, тело». Публикуем авторское вступление к книге — об основных проблемах теории кино и структуре издания.
Теория кино существует почти столько же, сколько и сам кинематографический медиум. Кинематограф появился в конце XIX века в результате развития фотографии, механики, оптики и научного производства серийных изображений (хронофотографии), но корни его уходят и в многовековую историю популярных развлечений — от фантасмагорий и представлений с использованием «волшебного фонаря» до масштабных панорам, диорам и оптических игрушек. С самого начала изобретатели, промышленники, художники, интеллектуалы, преподаватели и ученые задавались вопросами о сущности кино. Это движение или интервал? Это изображение или процесс? Фиксирует ли оно место или сохраняет время? Помимо вопроса об отношении кинематографа к визуализации и прочим формам репрезентации возникал и другой: это наука или искусство? И если последнее, то возвышает и обучает ли оно или отвлекает и развращает? Дискуссии шли не только о специфичности кинематографа, но и о его онтологической, эпистемологической и антропологической значимости, и здесь диапазон оценок простирался от уничижительных («кино — изобретение без будущего», Антуан Люмьер) до скептических («царство теней», Максим Горький) или восторженных («эсперанто глаза», Д.У. Гриффит).
Попытки изучения кино как нового медиума впервые стали предприниматься в начале XX века: «первыми теоретиками кино» можно назвать Вэчела Линдсея (поэт) и Гуго Мюнстерберга (психолог). Первый пик развития теории кино пришелся на 1920‐е годы, но институционализирована (например, включена в университетские программы) эта дисциплина была только после Второй мировой войны: сначала в англоязычном мире и во Франции, а в более широком масштабе — лишь в 1970‐е годы. Со временем этому примеру последовали и другие страны, но Франция и англоязычные исследователи уже имели ощутимое преимущество, в результате чего англо‐американская теория кино — часто демонстрировавшая сильное «континентальное» (то есть французское) влияние, — начиная с 1980‐х годов стала доминировать. Данная книга посвящена этому транснациональному массиву идей и попыткам их дополнить.
Уже отсюда можно вывести первую возможность создания нового введения в кинотеорию для XXI века, которое основывалось бы, в первую очередь, на географическом принципе. Можно, например, провести различия между французским направлением, объединяющим Жана Эпштейна, Андре Базена и Жиля Делеза, и подходами англоязычных теоретиков в диапазоне от Гуго Мюнстерберга до Ноэля Кэрролла. Изначально значительную роль играла немецкоязычная теория кино, связанная с такими именами, как Бела Балаш, Рудольф Арнхейм, Зигфрид Кракауэр, Вальтер Беньямин и Бертольт Брехт, однако после национал‐социализма и Второй мировой войны она потеряла ведущую роль в международных дискуссиях. То же самое можно сказать и про русскоязычную теорию до и после сталинизма. Резкие исторические переломы и политические катаклизмы, таким образом, выявляют две проблемы, связанные с разделением теории кино по географическому и языковому признакам: классификация, основанная на национальных критериях, маргинализирует важные исследования, проводившиеся в других местах (взять хотя бы Италию, Чехию, Латинскую Америку, Японию), и упускает из вида обмен идеями, осуществлявшийся благодаря переводам и миграции. Помимо того, она еще и навязывает внешние представления о (национальном) единстве идей, практически никак не отражающие внутренней логики теоретических позиций, чаще всего межгосударственных по охвату и универсалистских по замыслу.
С другой стороны, географический принцип может помочь нам в прояснении дискурсивной логики институций, их стратегий и политической ангажированности: теория кино часто развивалась в тесной близости с журналами, такими как Cahiers du cinéma и Screen, культурными институциями национальной значимости, как Французская синематека, Британский институт кино и
Самым распространенным способом классификации теоретических подходов к изучению кино было, бесспорно, разделение кинотеорий на формалистские и реалистические. Первые рассматривают кино в терминах конструкции и композиции, в то время как в теориях реализма подчеркивается способность фильма обеспечить нам ранее невозможный взгляд на (неопосредованную) реальность. Другими словами, «формалисты» обращают первостепенное внимание на искусственность и сделанность кинематографа, а «реалистов» интересует (полу)прозрачность кинематографического медиума, в результате которой мы как бы становимся непосредственными свидетелями происходящего. Согласно такой классификации, Сергей Эйзенштейн, Рудольф Арнхейм, русские формалисты и американские неоформалисты выступают за концепцию искусственности конструкции фильма (основывают ли они ее на классической эстетике, политике или когнитивистике), а их оппоненты объединяются вокруг Белы Балаша, Зигфрида Кракауэра и Андре Базена под знаменами «онтологического» реализма. Уже имена этих людей говорят нам о том, что дискуссия эта имеет интернациональный характер и свое начало берет по меньшей мере в 1920‐х годах. Тогда вопросы специфики и природы кино как медиума и его признания видом искусства активно интересовали кино‐ и медиаавангардистов, занимавшихся как теорией, так и практикой. Выделялись и другие бинарные противопоставления, такие как нормативный / дескриптивный подходы или критические / аффирмативные теории (аффирмативные теории — это те, целью которых является признание сущностной специфики объекта теоретизирования и его утверждающее вписывание в существующий порядок вещей. — Прим. ред.).
В рамках еще одного распространенного подхода теория кино рассматривается как область знания, не имеющая своего собственного объекта исследования и использующая заимствованные методы: успех ее в таком случае видится основанным на методологической эклектике и способности гибко адаптироваться к новым интеллектуальным тенденциям. Такой подход подчеркивает включенность теории кино в более широкие области гуманитарных исследований (особенно историю искусств, теорию литературы и лингвистику, а также в культурологию, психологию и общественные науки). В этом случае на первый план выдвигаются междисциплинарные тенденции, характерные для академических исследований в целом начиная как минимум с 1980‐х годов. Это объясняет возникновение новаторских и (в определенное время) весьма успешных направлений, таких как (кино)семиотика, феминистская (кино)теория или когнитивистская (кино)теория. Эти теоретические позиции основываются на традиционно более широких классификациях, в которых психологические подходы отделяются от социологических, а контекстуально‐антропологические — от текстуальных или иконологических, и одновременно вносят в них дополнительное разнообразие.
Более современные попытки систематизации теорий кино отказываются от таких зачастую полемических или нормативных классификаций. Вместо этого в них отстаивается преемственность последовательных индивидуальных точек зрения. В результате, как представляется, теория кино движется в направлении некоей подразумеваемой, но незаявленной цели, поскольку каждая теория фактически претендует на исправление предыдущей. Однако «прогресс» может быть иллюзорным и обернуться «эффектом вращающихся дверей», когда один подход стремительно сменяет другой, не пытаясь взглянуть на те или иные школы и тенденции в перспективе общих проблем или давно назревших вопросов.
Опасность тут в том, что отдельные теории сопоставляются только друг с другом или с некоей воображаемой и на глазах исчезающей позицией. В другой ситуации они существуют более или менее независимо и параллельно или представляют друг относительно друга крайние точки траектории маятника. Чтобы преодолеть некоторые из этих проблем категоризации и классификации, была выбрана иная стратегия: вместо выявления школ и движений мы попытаемся выстроить свой рассказ о теории кино вокруг одного из наиболее важных и непреходящих вопросов. Это позволит избежать как простого перечисления никак не связанных между собой подходов, так и эволюционной модели, предполагающей наличие телеологии, неизбежно ретроспективной и в любом случае обреченной быть временной, учитывая множество упомянутых нами привходящих и кластерных факторов. Внутри очерченных рамок мы не только рассматриваем и ставим под вопрос существующие теоретические позиции, но и надеемся сами занять определенное положение в научной дискуссии, признавая при этом историческую обусловленность нашего основного вопроса.
Какова связь между кинематографом, восприятием и человеческим телом? Все теории кино — классические или современные, канонические или авангардные, нормативные или трансгрессивные — обращались к этому вопросу, подразумевая его подспудно или открыто на нем фокусируясь. В этой книге мы пытаемся поставить эту проблему в центр рассмотрения. Она обеспечивает выбор базовых концепций для нашего историко‐систематического обзора, а также определяет связь между главами и их последовательность.
Любой вид кинематографа (равно как и любая теория кино) предусматривает некоего идеального зрителя, то есть постулирует определенное отношение между зрителем (и его телом) и изображением на экране (и его качествами), сколь бы очевидными на первый взгляд ни были подчеркиваемые термины «понимание» и «вычленение смысла», «интерпретация» и «осознание». То, что принято считать классическим нарративным кино, например, может быть определено через способ, которым данный фильм вовлекает зрителя, обращается к нему и обволакивает его тело. Кроме того, фильмы предполагают наличие некоего кинематографического пространства, одновременно физического и дискурсивного, в котором фильм и зритель, кинематограф и тело встречаются друг с другом. Сюда входят и архитектурная организация пространства зрительного зала (аудитория с упорядоченными рядами кресел), и организация просмотров во времени (отдельные сеансы или постоянный доступ в зал), и специфическая социальная рамка похода в кинотеатр (встреча с друзьями или гордое одиночество синефила). Также сюда входят чувственная среда, состоящая из звуков и других внешних воздействий, и воображаемое конструирование фильмического пространства с помощью мизансцен, монтажа и повествования. Точно так же тела, интерьеры, пейзажи и объекты внутри самого фильма вступают в коммуникацию друг с другом (и со зрителем) с помощью своих размеров, текстуры, формы, плотности и поверхностей, а также игры масштабов, дистанции, близости, цвета и других изначально оптических, но также и телесных характеристик. Помимо зрения, осязания и слуха, существуют и другие способы взаимодействия тела с событием фильма: вопросы философии, связанные с восприятием и темпоральностью, субъектностью (agency) и сознанием, являются центральными и для кино, поскольку они таковы для зрителя. Одной из сложностей нашей задачи было вычленить из формалистических и реалистических теорий их концепции отношений между кино и телом, сформулированы ли они нормативным образом (как, например, в подходах Сергея Эйзенштейна и Андре Базена, насколько бы противоположными они ни были в других отношениях) или описательно (что более типично для феноменологической и других современных школ, по крайней мере в их риторических стратегиях).
Этот лейтмотив тела и чувств неплохо коррелирует с теперь уже широко используемой периодизацией истории кино: делением на ранний, классический и постклассический кинематограф. Особенно если эти различия проводятся еще и с учетом трансформации кинозала как физического места — с его взаимодействием (реального) зрительного зала и (воображаемого) медийного пространства внутри фиксированного геометрического расположения проектора, экрана и зрителя, — в пространство скорее ad hoc, или виртуальное: в нефиксированную или неформальную ситуацию перед экраном телевизора или ноутбука, а теперь и с мобильным устройством в руках, что явно ведет к новым формам телесного вовлечения зрителя и новым особенностям координации в системе «глаз—рука». Другими словами, наша траектория рассмотрения кинотеорий сознательно уходит от установления категорических различий между опытом кинопросмотра как театральным событием и опытом кинопросмотра как событием в окружающей среде, равно как и от утверждения радикального разрыва между аналоговым и цифровым кино. Вместо этого мы пытаемся картографировать соответствующие (и ярко выраженные) различия между разными теориями в их отношении к из‐ меняющимся — новым и не очень — конфигурациям тела зрителя и его чувств.
Вот почему в нашей модели мы пытаемся еще и теоретически обоснованно переформулировать пространственно‐временные отношения между изображаемыми в фильме телами / объектами и между фильмом / зрителем. Решающими в этом отношении являются динамика, связывающая диегетический, не‐диегетический и сверх‐диегитический уровни «мира» фильма, и то, как эти уровни пересекаются с «миром» зрителя. Термин «диегезис» происходит от древ‐ негреческого понятия diegesis, которое означает повествование, сообщение или аргумент и противопоставлено понятию mimesis, подразумевающему имитацию и репрезентацию. Концепция диегезиса изначально использовалась в нарратологии для различения особого, создаваемого повествованием пространственно‐временного континуума от всего остального, находящегося за его пределами. Например, джазовая музыка в сцене в ночном клубе диегетична, если в кадр попадает музыкант или весь ансамбль, а закадровая скрипичная музыка в сцене романтического свидания обычно недиегетична (то есть отсылает к элементам, приобретающим смысл в контексте фильма, но расположенным за пределами повествования). Если камера самостоятельно совершает наезд на объект, имеющий ценность для повествования, — например, раскрытие в финале «Гражданина Кейна» того факта, что «розовый бутон» — это детские санки, — можно говорить о недиегетическом движении камеры, хотя сам по себе объект диегетичен. Современные фильмы часто сопровождаются дополнительными материалами, так называемыми паратекстами, как, например, бонусы и комментарии на DVD, а зрители, смотря фильмы «на ходу», все чаще находятся одновременно в двух мирах (во вселенной фильма, то есть в диегезисе, и в своих собственных физических пространстве и среде), поочередно забывая об одном в пользу другого и переключаясь между ними. Все это указывает на явную необходимость полной переоценки наших представлений об опыте кинопросмотра, чтобы выделить четкие, хотя и изменчивые компоненты, создающие «эффект» фильма, и выявить то, что держит их вместе, то есть — самого зрителя, пони‐ маемого как «относительная сущность», а не только как физическое существо.
Различные формы, которые принимает это зрительское отношение между кинематографом, фильмом, чувственным восприятием, физической средой и телом, можно изобразить в виде ряда метафор или парных концепций, соотносимых с телом: его поверхностями, чувствами, способами восприятия и его осязательными, эмоциональными и сенсомоторными способностями. Раскрываемые в этом процессе смысловые поля также соотносятся с физическими характеристиками, эпистемологическими условиями и даже онтологическими основаниями самого кинематографа, благодаря чему подчеркиваются его специфические свойства и ключевые элементы. Мы выбрали семь таких ярко выраженных пар, описывающих дугу «снаружи внутрь». В то же время они довольно полно отражают наиболее важные этапы развития теории кино примерно с 1945 года до наших дней — от неореалистических и модернистских концепций к психоаналитическим подходам, аппаратной, феноменологическим и когнитивистским теориям. Использовав семь этих конфигураций в качестве уровней и начальных точек тщательного анализа, мы заметили, что такой реорганизации поддаются и ранние теории, относящиеся к «классическому» периоду 1920‐х и 1930‐х годов. Это подтверждает, что наша схема — какой бы приблизительной она ни казалась — может помочь выработать новую тонкую и продуктивную классификацию множественных точек соприкосновения кино с че‐ ловеческими чувствами и телом кинозрителя.
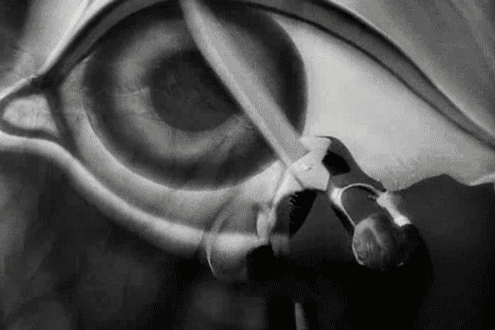
Хотя наши концептуальные метафоры релевантны теории кино, как ее понимают сегодня, они не вносят изменений в предшествующие теоретические модели и не образуют последовательности независимых или автономных единиц: несмотря на то что ключевые тезисы относятся к очень разным и, казалось бы, несовместимым теориям, наши главы — об окне / рамке, двери / экране, зеркале / лице, глазе / взгляде, коже / прикосновении, ухе / пространстве и мозге / мышлении — тем не менее тесно переплетены между собой. Мы не предлагаем гегелевского синтеза, но и не остаемся над схваткой — это будет, по сути, нашей методологической позицией в вопросе об историчности теории как таковой. Новые подходы — (имплицитные или эксплицитные) попытки разобраться с вопросами, которые в предшествовавших теориях, возможно, и вы‐ ходили на поверхность, но не могли быть удовлетворительным образом разрешены. Перенимая эстафету, каждая новая теория формулирует свои собственные вопросы или снова сталкивается с теми же самыми проблемами, что считались решенными в рамках предыдущих концепций. Например, в середине 1990‐х годов началось удивительное возрождение идей Андре Базена, хотя его теория реализма считалась угасшей уже в 1970‐х (когда реализм рассматривался многими как идеологическая характеристика буржуазного искусства). Это можно объяснить в том числе тем, что переход от аналогового кино к цифровому снова вызывает к жизни, хотя и в новой форме, центральный вопрос теории Базена — об «онтологии фотографического образа». Оживление интереса к Базену (но также и к Кракауэру, Эпштейну, Балашу и Арнхейму) доказывает, что история теории кино не является телеологической историей прогресса, направленного в сторону все более универсальных или все более изящных и редуктивных моделей. Вообще говоря, никакая теория не является исторически установившейся, а приобретает новые смыслы в новых контекстах. Поскольку, как замечено выше, теория кино существует почти столько же, сколько и сам кинематограф, она расширяется не только в будущее, но и в прошлое, о чем свидетельствует новый интерес к научным трактатам XVII и XVIII веков, посвященным теории движения изображений, оптике и стереоскопии. Аналогичным образом новый диалог между точными и гуманитарными науками в сфере когнитивистики актуализировал в качестве своего «предвестника» монографию Гуго Мюнстерберга 1916 года «Фотопьеса: психологическое исследование». Это подтверждает, что история теории кино продолжается в будущее, то есть со временем она обязательно изменится, поскольку каждое новое настоящее стремится переписать свою собственную историю.
Возвращаясь к нашему основному вопросу, главы этой книги определенным образом соотносятся не только с историей теории кино, но и с формами кинематографа, типичными для рассматриваемых периодов, поскольку эволюция теории и изменения в кинопроизводстве и в практиках кинопросмотра взаимно обусловлены. Кроме историко‐аналитического обзора многих важных теоретических позиций (от Андре Базена и Дэвида Бордуэлла до Жиля Делеза и Лауры Малви) наш проект предполагает также начало разработки новой классификации истории кино (предкинематографа (pre‐cinema) и раннего кино, а также периода с 1940‐х годов до наших дней). Классификация эта основана на том, что отношение тела зрителя к движущемуся изображению является ключевой исто‐ рической переменной, значимость которой недооценивается, в основном потому, что теория кино / фильма и история кинематографа обычно изучаются отдельно друг от друга. Соответственно, речь идет о чем‐то большем, чем просто представление теории кино с объективной точки зрения и рассмотрение ее в качестве закрытой вселенной принадлежащего истории дискурса. Мы, скорее, хотели бы исследовать полезность различных теоретических проектов прошлого для современной теории кино и медиа в надежде переосмыслить ее и, таким образом, если и не создать новую теорию, то хотя бы найти новое понимание возможной логики предшествовавших концепций.
Однако такая работа с историей на данном этапе не является нашей основной задачей, поскольку диахронических обзоров и без того достаточно. Мы стремимся создать целостное систематическое введение в кинотеорию, основанное на особой точке зрения, открывающейся, если поставить ряд новых вопросов в отношении старых проблем. Наша миссия — сконденсировать сто лет истории вместе с тысячами страниц теории — неизбежно предполагает потери, пробелы и перекосы, но в целом мы надеемся достичь концентрированного результата: объем уменьшается, жидкость загустевает, но важные вкусы и компоненты остаются. Своеобразие различных теорий, иногда вплоть до несовместимости, не должно исчезнуть или быть дезавуировано.
Каждая глава начинается с описания парадигматически значимой сцены из фильма, которая отражает суть основного тезиса, подчеркивает один из уровней анализа и вводит основные положения какой‐либо теории (ее школы, концепции, теоретики), обсуждающиеся далее. Среди выбранных нами фильмов как общеизвестная классика (например, «Окно во двор» Альфреда Хичкока и «Искатели» Джона Форда), так и картины типа «Гравитации» и «Вечного сияния чистого разума». Время создания фильма не обязательно совпадает с периодом появления соответствующей теории, поскольку, хотя наша семиуровневая модель в целом и основана на хронологии, мы не стремимся проследить четкое соответствие между историей кинематографа и теорией кино. Так что эти эмблематические сцены следует считать не «примерами» или «иллюстрациями», но, скорее, возможностями думать вместе с данными фильмами (а не только об этих фильмах), как это в своих работах о кино предлагал делать Жиль Делез. Кроме того, в каждой главе мы вновь и вновь возвращаемся к конкретным кинематографическим примерам, служащим не подтверждениями независимо существующих теорий, а скорее предоставляющими пищу для размышлений и возможность заново познакомиться и с фильмами, и с теориями. Мы надеемся, что читатели захотят привнести в развитие этих теоретических знаний свою собственную кинокультуру, свой кинематографический опыт и создать свои видеоэссе — не в смысле «применения» одного к другому, а в качестве собственных логических выводов или даже возражений: размышлений о том, каким образом кинематограф развивает теорию, а теория развивает кинематограф. Многие современные фильмы, от блокбастеров до артхауса и авангардистских манифестов, кажется, не чужды современным философским теориям; их авторы хотят быть всерьез воспринятыми и на теоретическом уровне тоже, разделив со зрителем свое многознайство, составляющее часть их особой рефлексивности.
В завершение введения мы хотели бы представить краткий обзор последующих глав, который, надеемся, позволит прояснить наши методологические цели и предпосылки. Первая глава посвящена теме окна и рамки: в ней рассматривается обрамление киноизображения как его основополагающий элемент. Концепция кинематографического образа как предлагающего привилегированный взгляд на возможность проникнуть в пространственно‐временную целостность, то есть диегетически связную, но отдельную и автономную вселенную, характеризовалась различными подходами, включая теорию кинематографического реализма Андре Базена или анализ «глубинной инсценировки» (staging in depth) Дэвида Бордуэлла. Другие авторы, такие как Рудольф Арнхейм и Сергей Эйзенштейн, напротив, подчеркивали принципы конструирования, определяющие композицию образа внутри кадра‐как‐рамки. Мы считаем, что две эти позиции, часто противопоставляемые как формалистическая и реалистическая, сходны в большей степени, чем обычно предполагается. В обоих случаях восприятие понимается как почти полностью бестелесное, поскольку оно редуцировано только до визуального (можно утверждать, что в теории фотографии Базена, с его вниманием к египетским мумиям и Туринской плащанице, уже присутствовала критика окуляроцентрического восприятия). Здесь начинается вторая глава «Кино как дверь: экран и порог», посвященная описаниям перехода от мира зрителя к миру кинокартины. В этой главе мы рассматриваем как физический вход в кино, так и воображаемое вхождение в фильм, и, если речь идет о включенности зрителя в процессы киноповествования, такие как фокализация, идентификация, вовлечение и погружение, анализируем подходы, разработанные в рамках нарративной теории, или нарратологии. Это направление исследований охватывает формалистские и (пост)структуралистские теории, а также модели, интерпретирующие отношения между зрителем и фильмом в терминах диалога, как, например, те, что опираются на наследие Михаила Бахтина. В основе этой интерпретации находится понимание зрителя как существа, которое вступает в не‐ знакомый / знакомый мир и тем самым «отчуждается» от своего собственного мира (или, в терминологии русских формалистов, «остраняется»), чтобы вернуться в него, став лучше или мудрее.
Заголовок третьей главы — «Кино как зеркало: лицо и крупный план». В ней исследуется кинематографический потенциал отражения и преломления. С одной стороны, это повод поговорить о самореференциальности на примерах модернистских движений в европейском кино 1950–1970‐х годов (так называемые новые волны). С другой стороны, зеркало заняло центральное место в психоаналитической теории кино, согласно которой смотреть в зеркало значит не только вступать в конфронтацию с самим собой, но и превращать свой взгляд во внешний, то есть во взгляд Другого. Увлеченность кинематографа мотивом двойничества — историями двойников и подмен личности, общими для немецкого киноэкспрессионизма 1920‐х годов, японских фильмов о привидениях 1970‐х и южнокорейских фильмов ужасов 1990‐х, — в этом контексте важна так же, как и вопросы идентификации и рефлексивности. Эффект мимесиса и удвоения в отношениях между зрителем и фильмом, что часто обсуждается, в высшей степени амбивалентен и все еще недостаточно теоретически разъяснен. Мы задаемся вопросом, не основывается ли он на тех же механизмах эмпатического слияния между «Я» и Другим, что описываются в новейших нейробиологических исследованиях зеркальных нейронов человеческого мозга. Также в этой главе мы проводим обзор теоретических подходов, которые концентрируются на центральной роли крупного плана и человеческого лица, где одно представляет собой версию другого. При этом любая встреча лицом к лицу, хотя бы потенциально, является в том числе моментом зеркального отражения.
Взгляд в зеркало уже подразумевает определенную пространственную организацию, на которой, можно сказать, и основывается кинематографическое всматривание. Эта тема обсуждается подробнее в четвертой главе, посвященной глазу и взгляду и описывающей в основном ряд позиций, разработанных в теории кино в течение 1970‐х годов. С одной стороны, эти авторы испытали значительное влияние постструктуралиста Жака Лакана, переформулировавшего фрейдовский психоанализ. С другой — опирались на разработанную Мишелем Фуко теорию «паноптикума» как модели социальных отношений, основанных на зрении и контроле. В частности, феминистская теория работала с гендерно‐маркированной и асимметричной схемой взгляда (look) и пристального взгляда (gaze), активно определяющих структуры в фильме и самих структурирующихся в постоянном взаимодействии камеры и персонажей, а также зрителя и фильма. В рамках этой школы подразумевается, что между зрителем и фильмом сохраняется некая дистанция, которая в поле зрения проявляется в форме патологии («вуайеризм» и «фетишизм»), власти («вглядывание, захватывающее взгляд») и ошибочного восприятия («неправильное понимание», «дезавуирование»). Но она может и разрушить иллюзию согласованного и цельного мира, приводя к «дистанцированию» и «очуждению».
Практически противоположная ситуация наблюдается в подходах, представленных в пятой главе «Кино как кожа: тело и прикосновение». Основанная на принципе близости, она может рассматриваться как критика «скопического режима» предыдущих теорий (основанных на дистанции). В истории всегда были попытки осмыслить кинематограф как некую встречу, как пространство контакта с Другим, хотя бы с целью объяснить тот факт, что кино приближает далекое и заставляет отсутствующих присутствовать здесь и сейчас. Этот тезис вполне соответствует теориям, основанным на предположении, что кожа является органом чувств, а прикосновение — средством восприятия, из чего следует понимание кинопросмотра как тактильного опыта или, напротив, способа оснащения глаза «гаптическими» способностями, помимо давно известных «оптических». Эта одновременно межличностная, транскультурная и — в своих философских предпосылках — феноменологическая школа связана с интересом к человеческой коже, ее поверхности и текстуре, мягкости и уязвимости, а также к ее роли покрова или защитного панциря.
Такое особое внимание к материальным нюансам, поверхности и прикосновению напрямую ведет нас к подходам, представленным в шестой главе «Кино как орган слуха: акустика и пространство». Там тоже подчеркивается важность тела для восприятия и ориентации в трехмерном пространстве и еще более подрывается исключительная значимость, которую предшествовавшие теории придавали визуальному восприятию, будь оно двух- или трехмерным. Таким образом, от кожи и контакта мы переходим к уху как интерфейсу между фильмом и зрителем, к органу, который создает свою собственную звуковую оболочку восприятия и регулирует ориентацию человеческого тела в пространстве. В отличие от предыдущих описаний зрителя через обладание зрительным контролем и когнитивную обработку поступающих данных, в этих более новых подходах внимание уделяется таким факторам, как чувство равновесия или баланса, организованного не (только) вокруг пространства и кадра, но и вокруг длительности, места, интервала и взаимодействия. Зритель теперь не просто пассивно получает визуальную информацию, но существу‐ ет как тело, акустически, сенсомоторно, соматически и эмоциональ‐ но вовлеченное в визуальную текстуру фильма и его звуковой ланд‐ шафт. Технологические инновации в сфере звука, появлявшиеся начиная с 1970‐х (различные форматы Dolby), а также возрождение 3D‐технологий прямо связаны с теоретическими находками в психоанализе, эстетике и междисциплинарных исследованиях звука.
Наконец, седьмая концептуальная пара лучше всего характеризуется выражением Жиля Делеза «мозг — это экран». С одной стороны, фильм проникает в само физическое существо зрителя, возбуждая зрительный нерв, стимулируя синапсы и воздействуя на функции мозга. Движущееся изображение и звук влияют на нейронные связи и приводят к биохимическим изменениям, вызывают реакции тела и непроизвольные отклики, как если бы фильм «направлял» тело и мышление: создавал бытие («мышление»), образующее фильм в то же самое время, как и фильм образует его («тело»). Такие идеи слияния проигрывающегося в голове предсуществования кино и ментальных миров, принимающих форму или трансформирующихся в наблюдаемую материальную реальность, являются основой множества фильмов, выпущенных за последние пятнадцать лет: в них диегезис — пространственно‐временной «мир» фильма — оказывается причудой воображения главного героя, более не подчиняется законам природы или специально создан для того, чтобы обмануть зрителя или ввести его в заблуждение. В то время как сторонники когнитивной нарратологии находят здесь подтверждение своих тезисов, и такие фильмы, как «Шестое чувство», «Бойцовский клуб», «Вечное сияние чистого разума» и «Начало», порождают оживленные дискуссии о «сложной наррации» и «повествовании расходящихся тропок», другие видят в этих фильмах симптомы онтологического сомнения и более радикальной переориентации наших тел во времени. Делез, к примеру, посчитал бы такие нарратологические анализы бессмысленными, поскольку для него не существует никакого «мышления», локализованного в мозге и «контролирующего» входящую и выходящую информацию. Проблемы, с которыми эти фильмы сталкивают зрителей, требуют иначе думать об образах, движении, времени, субъектности и причинности. В главе о кино как мозге рассматриваются радикальные версии конструктивизма, эпистемического скептицизма и идеи Делеза, а также говорится о том, как когнитивисты отреагировали на вызовы фильмов‐головоломок и фильмов с искривленным временем — чтобы понять эти тенденции современного кино не только с социологической точки зрения и возможности их рыночной конкуренции с видеоиграми и компьютерным моделированием, но и с точки зрения эпистемологии и онтологии, то есть как философские проблемы.
Идея тела как сенсорной оболочки, перцептуальной мембраны и материально‐ментального интерфейса применительно к кинематографическому образу и аудиовизуальному восприятию является, таким образом, не просто эвристическим средством и эстетической метафорой — это онтологическое, эпистемологическое и феноменологическое «основание» для соответствующих теорий кино и самого кинематографа сегодня. Этот процесс изучения различных кинотеорий в свете их философских предпосылок, а также оценки тех и других в связи с понятиями тела и чувств еще более поддерживается (нетелеологическим) прогрессом, обозначенным нашими концептуальными метафорами: от позиции «извне» окна и двери к позиции «внутри» мышления и мозга. Это можно также назвать двойным движением: от развоплощенного, но наблюдающего глаза к привилегированному, но сопричастному пристальному взгляду (и уху); от увиденного, почувствованного и осязаемого образа к органам чувств, становящимся активными участниками формирования фильмической реальности; от воспринимаемой чувствами поверхности фильма, которая задействует нейробиологический мозг, к бессознательному, которое регистрирует двусмысленные мотивы, двигающие персонажей и повествование, — в то время как теории рационального выбора концентрируются на последовательности чередующихся действий и реакций и видят развивающиеся или изначально вмонтированные в мозг «отклики» на внешние угрозы и стимулы. В пределе фильм и зритель — паразит и хозяин, оккупирующие друг друга, пока не останется только та реальность, что разворачивается, пока она заворачивает собой, и наоборот.
Благодаря особому вниманию к телу, восприятию и органам чувств, таким образом, не только пересекаются границы между формалистами и реалистами, но и наводятся мосты между теориями авторского замысла и зрительского восприятия. В заключительной главе о трансформации кинематографа в эпоху цифровых сетей мы осторожно выражаем надежду на то, что эта трансформация поможет преодолеть разрыв между кино фотографическим и кино после пленки — не отрицая различий, а подтверждая сохранность кинематографического опыта и в то же время напоминая нам об иногда удивительной и неожиданной, но все‐таки желанной взаимодополняемости теоретических подходов, возникших в течение первого столетия развития кинематографа и на первый взгляд противоречащих друг другу.
Одновременно с той важностью, которую движущееся изображение и записанный звук приобрели к началу XXI века, стоит признать и еще одно возможное последствие особого внимания к телу и чувствам: кажется, кинематограф может потерять свою функцию «медиума» (для репрезентации реальности), чтобы стать «формой жизни» (и, таким образом, отдельной полноценной реальностью). Наше первоначальное намерение найти в теории кино ответ на вопрос о том, как именно фильм и кинематограф связаны с телом и чувствами, может привести к еще одному вопросу (на который мы не будем здесь отвечать), а именно: если и когда мы ставим тело и чувства в центр теории кино, не предлагает ли нам кинематограф — в дополнение к новому способу познания мира — также и новый способ «су‐ ществования в мире» и, таким образом, требует от теории кино не только новой эпистемологии, но и новой онтологии? Учитывая, что «истоки» теории кино можно найти еще в XVII веке в виде технического описания движения образов и движения внутри образов, можно утверждать, что достижение это весьма значительно. Теперь теория кино становится философией кино и в связи с этим — общей теорией движения: движения тел, аффектов, мыслей и чувств.
Неудивительно, что наработки ряда ключевых философов XX века, почти не рефлексировавших над феноменом кинематографа, тем не менее были использованы в рамках «философии кино», чтобы осмыслить те последствия и проблемы, с которыми кинематограф сталкивается сегодня. Витализм Бергсона, «бытие‐в‐мире» Хайдеггера и негативную диалектику Адорно можно считать при‐ мерами философских концепций, разработанных вне прямой связи с кинематографом, но пригодившихся для изучения тех особенных форм знания, опыта и выражения — эстетических и других, — которые транслируют фильм и кинематограф. «Cпасает» ли таким образом философия кинематограф как объект теоретизирования или, напротив, кино становится особенно сложным и интересным предметом изучения для философии — вопрос, на который мы не будем здесь отвечать.