Патрисия Пистерс «Режиссёр как металлург: политическое кино и всемирная память»
Патрисия Пистерс — профессорка медиаисследований Амстердамского университета и соосновательница Европейского журнала медиаисследований (NECSUS). С 2013 она входит в консультативный совет Нидерландской киноакадемии, с 2014 — в наблюдательный совет Нидерландского кинофонда. Её исследовательские интересы включают философию кино, нейрофильмологию, экологию и экокритику медиа.
Статья посвящена трансформации политического кино в эпоху цифровизации культуры. Используя геофилософские идеи Делёза и Гваттари, Пистерс исследует металлургические аспекты режиссуры и стратегии, посредством которых режиссёры преобразуют историю в коллективную память.
Перевод: Майя Шестакова
Редактура: ольга кудрявцева
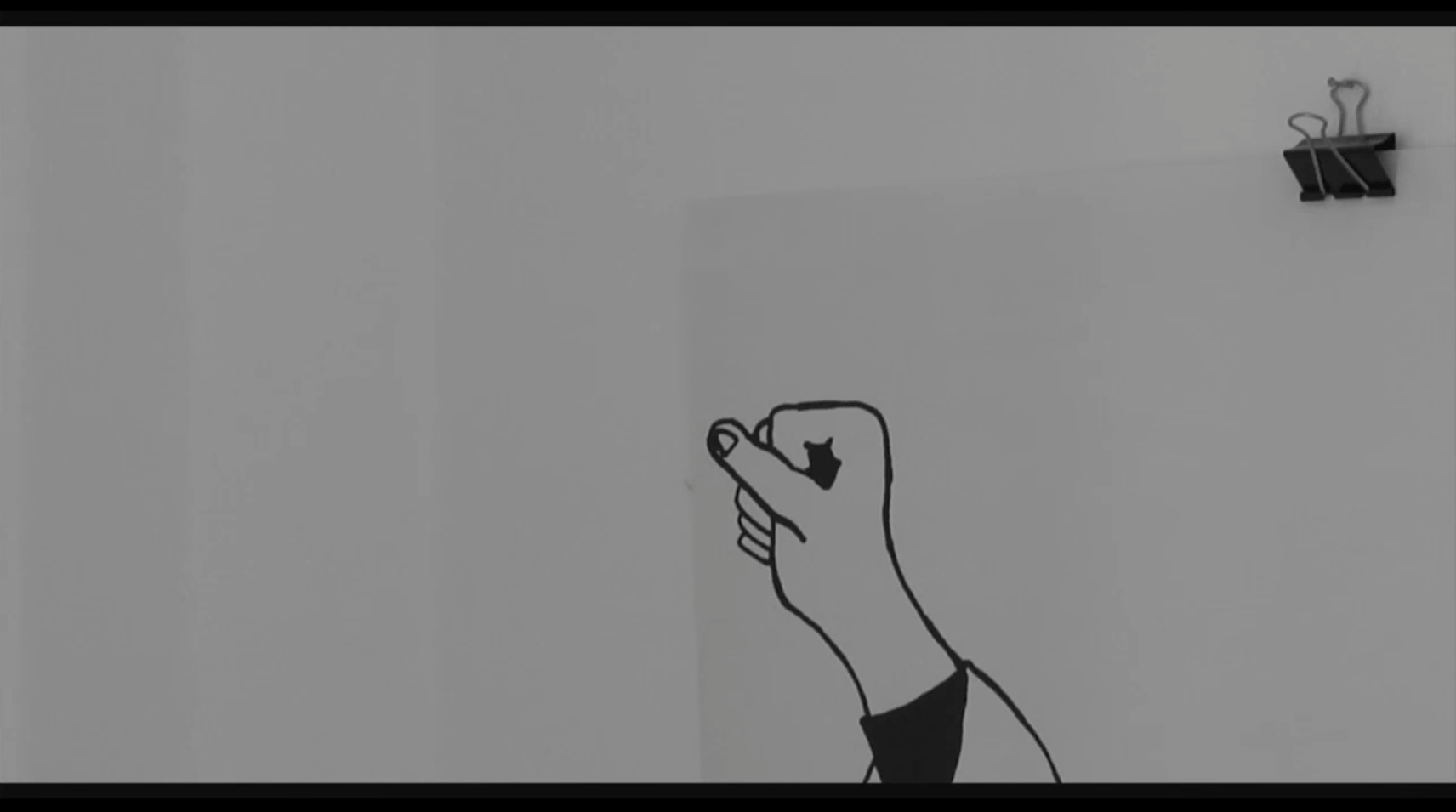
Что может называться политическим кино в эпоху глобализации и цифровизации культуры? В Венеции 70: Перезагрузке будущего (2013), в нескольких сценах, Тарик Такийа даёт нам предположение: рисунок сжатого кулака, отсылающего к Чёрным пантерам; силуэт человека перед программой редактирования; девушка, расположенная спиной к зрителю, чьё лицо медленно оборачивается к камере и закадровый голос говорит: «и тем не менее, кино завтрашнего дня продолжит говорить: ‘здесь кто-то есть’»[1].
Рука революционера на плакате, режиссёр за своим компьютером и образ, отсылающий к последнему фильму Такийа Революция зинджей (2013) объединяются простым признанием присутствия: здесь кто-то есть. Кажется, что предел политического жеста для сегодняшнего кинематографа состоит именно в этом — в признании присутствия на сцене всемирной истории, в нашей коллективной памяти.
Со времён классических политических фильмов вроде Стачки (1925) и Броненосца Потёмкина (1925) Сергея Эйзенштейна или Битвы за Алжир (1966) Джилло Понтекорво, представление о политическом действии изменилось. Вместо того, чтобы призывать людей обрести политическую власть в лице нового национального государства, политическое кино сегодня, кажется, обращается к истории, памяти и архиву более прямым путем, меняя условия повторного возникновения «народа». Очевидно, что политическое кино и до этого занималось вопросами истории и памяти, однако создание и воссоздание аудиовизуального архива как «всемирной памяти» стало важнейшей идеей политической (кино-) эстетики сегодня.
Делёз описывает всемирную память как ту, что выходит за пределы психологии, как «память на двоих, память, распределенную на несколько человек, память-мир, память как всемирные эпохи» (Делёз, Ж. Кино 2004, 424). Работы Алена Рене для Делёза иллюстрируют тип всемирной памяти, которую выражает кино, указывая, что прошлое не отсылает к «одному и тому же персонажу и к одной и той же семье или группе, но к совершенно непохожим друг на друга персонажам, как к не сообщающимся между собой местностям, формирующим всемирную память» (422). В другой работе я утверждала, что кино Рене находится в авангарде цифровой логики современной медиакультуры (Pisters, P. The Neuro-Image: A Deleuzian Film-Philosophy of Digital Screen Culture 2012, 217-242). Далее я хотела бы подробнее остановиться на том, как сегодня режиссёры формируют и выражают всемирную память, и почему их можно назвать металлургами, которые разрабатывают архивы и куют материальные изображения и звуки, заполняющие наше политическое сознание.
Эйзенштейн как металлург
В Тысяче плато, в трактате о номадологии, Делёз и Гваттари вводят концепт металлургии. Это глава о различии между сегментарной политикой государства и миноритарной номадической политикой, которая подрывает и вторгается в государство извне как «машина войны» (Делёз, Ж., Гваттари, Ф. Капитализм и шизофрения: Тысяча плато 2010, 628-716). В этой главе мы находим один из немногих кадров-иллюстрираций. Это сцена из фильма Стачка (1925) Эйзенштейна, где «изображено дырчатое пространство, откуда поднимается весь растревоженный народ, причём каждый выходит из своей дыры как на полностью заминированное поле» (700). На первый взгляд может показаться, что это изображение «металлургов» созвучно номадической машине войны, подрывающей и выводящей из строя аппарат государства, однако отсылка Делёза и Гваттари на этот фильм не такая простая. Поэтому, прежде чем обращаться к металлургическим стратегиям в современной медиакультуре, имеет смысл подробнее раскрыть их позицию.

Изучая разные аспекты машины войны, Делёз и Гваттари задаются вопросом: как номады изобретают или находят своё оружие? (682). Приводя в пример различие между мечом (произошедшим от кинжала) и саблей (произошедшей от ножа), они вводят понятие «машинного филума» или технологической преемственности, которая проявляет себя в металлургических формах.
Для Делёза и Гваттари металл — не просто материал для изготовления оружия и инструментов, но
Если мы, переосмыслив роль людей, вылезающих из дырчатых пространств, вернёмся к Стачке, то увидим, что эти «металлурги» — это те люди, кто поджигают дома буржуа и сеют хаос (поэтому они кажутся номадами, они на стороне рабочих, подрывающих аппарат государства). Но на деле — их нанял правящий класс для того, чтобы они действовали как провокаторы и помогали буржуазии (капитализму, государству). Таким образом правящий класс, обвиняя забастовщиков в саботаже и беспорядках, развязывает себе руки для ответного удара и использует силу в последующей битве — это знаменитый момент, в котором Эйзенштейн диалектически монтирует кадры людей, забитых как скот на поле боя.
Выбирающиеся из своих дырчатых пространств металлурги поэтому тревожно двусмысленные и странствующие — ни номады, ни люди государства.
Впрочем, ссылка на этот кадр ещё не делает Эйзенштейна металлургом как таковым. Здесь надо добавить следующее. В первую очередь, не будет преувеличением сказать, что Эйзейнштейн сам по себе был странствующим и неоднозначным режиссёром, следовавшим за
Еще один важный момент, который стоит отметить, это отношение Эйзенштейна к прошлому. Известно, что Делёз и Гваттари связывали свои идеи номадизма и металлургии с пространством. Геология была им важнее истории. Тем не менее, создатели фильмов имеют отношение к истории, ко времени и временным отношениям до такой степени, что они становятся «фальсификаторами» всемирной памяти. Но об этом позже, а сейчас я бы просто хотела напомнить, что Стачка — это революционный фильм, напоминающий народу о том, как и зачем он пришёл к власти, обращаясь к прошлому. Фильм рассказывает о дореволюционной России, когда в 1903 году рабочие фабрики объявили стачку, которая в последствии была жестоко подавлена владельцами этой фабрики, правящим классом. В начале фильма пролетариат призывают вспомнить, что «организованный он — всё. Организованность — есть единство действия, единство практического выступления». И очевидное противопоставление богатых, толстых, индвидуалистичных буржуа, владеющих фабрикой, и худых, старательных и обделённых пролетариев нужно для того, чтобы подчеркнуть необходимость объединения в борьбе с капитализмом. Такие фильмы Эйзенштейна как Броненосиц Потёмкин (1925) и Октябрь (1927) также описывают одобренные государством революционные события. Октябрь — это фильм, приуроченный к десятой годовщине Октябрьской революции 1917 года. Известно, что у Эйзенштейна были и другие проекты, но многие из них отбраковывала цензура, заинтересованная в изложении государственной версии истории и мифического прошлого. Александр Невский (1938), снова воспевающий историю России и отсылающий к легендарному Ледовому побоищу в XIII веке, в ходе которого Невский отразил нападение тевтонских рыцарей (ассоциируемых в Советском Союзе с немцами), был, за исключением одной катушки, одобрен Сталиным. А Иван Грозный (1944) был оценён Сталиным высоко — фигуру царя он счёл образцом национального героя[3].
Все фильмы Эйзенштейна отсылают к прошлому, которое излагается с точки зрения «единой группы», с точки зрения объединенного народа. Как Делёз подчёркивал в своих рассуждениях о политическом кино, эти классические политические фильмы могут высказываться от лица народа в первую очередь потому, что народ там есть: на фабриках, на улицах, даже несмотря на то, что он захвачен набирающим обороты тоталитарным государством (Делёз, Ж. 2004, 538).
Эйзенштейн обращался к прошлому как к напоминанию об этом объединении людей. В этом смысле, он был металлургом классического политического филума. Это особое отношение к прошлому изменится позднее. Но давайте сначала обратимся к материальным геофилософским аспектам машинного филума металлургии.
Металлургия, кино и геофилософия
Всё ещё может казаться, что сравнение кинематографистов с металлургами — это просто метафора. Метафорическое прочтение и правда возможно, но было бы неправильно упускать глубокие материальные коннотации понятия, которое предлагают Делез и Гваттари. Причём материальность металлургии в её связи с кинематографом можно понимать на нескольких уровнях. Во-первых, все фильмы и другие медиа можно рассматривать в связи с машинным филумом, исходящим из земли и впадающим в наши экраны. В книге «Геология медиа» Юсси Парикка рассуждает о металлических свойствах материальности медиа (Parikka, J. A Geology of Media 2015, 34; Maxwell, M., Miller, T. Greening the Media 2012). Материальные корни металлического серебра для фотохимикатов, колтана и других элементов, из которых состоят наши смартфоны, компьютеры и другие приборы, уходят в металл и металлургию. Все наши электронные устройства содержат разнообразные благородные и неблагородные металлы, и потребность в них так велика, что в нашу современную эпоху, перенасыщенную средствами массовой информации, эти материалы становятся дефицитными. Руды становится все меньше, горнодобывающая техника должна рыть глубже; металлы вроде европия и тербия уже закончились, сейчас их можно найти только в небольших количествах в Китае. Колтан добывается в Конго, и порой его называют «кровавый колтан», потому что его промысел связан с конфликтами и эксплуатацией[4].
В некотором смысле, все наши медиа крепко связаны с историей, этнографией и геополитикой добычи металлов.
Но ресурсы связаны не только с землёй и геополитикой: на другом конце цепи невероятные количества электронных отходов, которые мы производим со второй половины XX века. Мир завален горами свалок, часто замаскированных под парки или зоны отдыха (в одной Европе таких гор мусора порядка 150 000). А Африка — не только ресурсная база для меди, колтана и многих других металлов, но и самая большая в мире свалка электронных отходов. Впрочем, медленно, но верно появляются более устойчивые способы обращения со всем этим мусором. Например, в Европе существует переработка свалок — это своего рода проект по передобыче, когда отходы перерабатываются в зелёную энергию и материальные ресурсы (такие как плазменная порода, которую получают в результате металлургических процессов, ковкой и закалкой), а также так называемая «городская добыча», при которой электронные отходы выкупаются обратно у африканских стран и перерабатываются в благородные и неблагородные металлы[5]. В тонне телефонов содержится 300 грамм золота; золотая руда того же веса часто содержит меньше десяти грамм. Представьте, сколько материальных ресурсов спрятано в наших устройствах, если сейчас во всём мире продано примерно два миллиарда телефонов. А что получится, если посчитать все телевизоры, компьютеры и другую технику?
Поэтому появлению чего-то на наших экранах должны предшествовать многочисленные вариации машинного филума. Это первый аспект кино как металлургической практики — её экософское и геополитическое происхождение. Или, как выразился Адриан Ивахив, это «материальная экология» кино, и в промежутке между добычей и передобычей, описанной выше, располагается стадия, на которой «локации и съёмочные площадки превращаются в нарративы, а сценарии становятся кинематографическими словами, задуманными, отснятыми, отредактированными, собранными и распространёнными для того, чтобы появиться на сценах и экранах» (Ivakhiv, A. An Ecophilosophy of the Moving Image: Cinema as the Antrhrobiogeomorphic Machine 2013, 90).
Второй аспект заключается в том, что, как подчёркивает Джейн Беннет, металл — это «вибрирующий» материал, «бурлящий жизнью» (Benett, J. Vibrant Matter: A Political Ecology of Things 2010, 55). Беннет отсылает к мысли Делёза и Гваттари о том, что металл — это вершина идеи неорганической жизни со своими врождёнными свойствами и образующей силой, материальный витализм которой полон интенсивности и аффективной энергии. Металл содержит «безликую жизнь», важную для понимания имманентности жизни, которая содержится повсюду в земле и на ней (Deleuze, G. Pure Immanence: Essays on A Life 2001). Описываемый Делёзом и Гваттари технологический витализм — феномен сложный, полный «двойных артикуляций» между бесформенной, неорганизованной материей как интенсивными и экспрессивными телами без органов, и сформированным, организованным, стратифицированным содержанием (Делёз, Ж., Гваттари, Ф. 2010, 52). Содержание и выражение — две основные не противопоставленные, но связанные артикуляции. Вдобавок, Делёз и Гваттари пишут, что бесконечно вариативная материя-поток стратифицируется, отбирается и организуется таким образом, чтобы сходиться в сборки, которые «могут группироваться в чрезвычайно обширные совокупности, которые конституируют ‘культуры’ или даже ‘века’» […] Сборки разрезают филум на различные дифференцированные преемственности в то самое время, когда машинный филум пересекает их все, покидая один уровень, дабы вновь разместиться на другом, или заставляя их сосуществовать» (687). Но важнее то, что в металле, хоть он кажется твёрдым и непроницаемым, заложена витальность самой материальности, которая придаёт жизненную значимость металлургии, и поэтому в конце статьи мы обратимся к конкретным металлургическим принципам политического кино.
Третий гео- или экофилософский аспект металлургии связан с высказыванием Делёза и Гваттари о том, что «металлургия — это сознание или мысль материи-потока, а металл — коррелят такого сознания» (695). Странники, ремесленники и кузнецы, следующие за
Важно соединить эту оптику материальной экологии кино (и других медиа) с социальной и ментальной экологиями, двумя другими измерениями «трёх экологий» Гваттари, которые всегда идут вместе (Guattari, F. The Three Ecologies 1989). Ивахив описывает социальную экологию кино как ту, что включает «социальные отношения, посредством которых создаются фильмы, репрезентацию всей социальной жизни, а также социальное и культурное освоение и трансформацию этих смыслов в самых разных контекстах, от кинофестивалей и синеплексов до гостиных, блогов, тел (жестов, выражений лица, футболок и так далее) и личных взаимоотношений» (Iakhiv, A. An Ecophilosophy of the Moving Image: Cinema as the Antrhrobiogeomorphic Machine 2013, 90). Ментальная экология отсылает к восприятию, пониманию и интерпретации мира и к тому, как кино связано (формируется и
Кино — это не просто репрезентационная практика второго порядка, это практика созидания мира.
И, равно как литература и другие художественные практики, кино ризоматически соединяется с миром (Делёз, Ж., Гваттари, Ф. 2010, 19)[6]. На этом уровне мы можем рассмотреть, как в соотнесении восприятий и воспоминаний относятся друг к другу материя и память в различных вариациях и движениях памяти, между виртуальным и актуальным, переведённым на язык кинематографических концептов в двух томах Кино (Бергсон, А. Материя и память 1999, Делёз, Ж. 2004). По словам Карен Барад, свет, цвета, формы, зёрна пленки и пиксели превращаются, переводятся в аффекты и понимания, и составляют многоуровневое переплетение материи и смысла (Barad, K. Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning 2007). Именно на этом уровне переплетения материи и памяти я снова поставлю вопрос о политическом кино как металлургической практике, у которой есть определенные вариации и стратегии в современной цифровой культуре.
Политическое кино и изобретение прошлого
Именно в этом очень конкретном смысле кинематографисты — это кузнецы, способные искривлять время, или, по словам известного российского режиссёра Андрея Тарковского «лепить во времени» (Тarkovsky, A Sculpting in Time: Reflections on the Cinema, 1989[7]). Создание изображений — это вполне материальная и политическая практика, она относится к движениям между осёдлыми и номадическими силами, которые «добывают» наше понимание истории разнообразными смешанными и динамичными способами. Мы уже показали, что машина войны не является автоматически «хорошей» или «номадической», и что металлургические стратегии могут направляться и в креативное, и в деструктивное русло, а иногда — в оба. Здесь я бы хотела сфокусироваться на том, как кино относится к прошлому, когда речь заходит о политике. В сравнении с классическими фильмами, описанными Делёзом в рамках образа-движения, отношение к прошлому сегодня изменилось кардинально в связи с изменениями в мире. Как мы видели не только по работам Эйзенштейна, но и по так называемому движению Третьего кинематографа, которое возникло после Второй мировой войны, во всех колонизированных частях света, охваченных борьбой за деколонизацию, присутствовал «народ», к которому было обращено призвание обрести эмансипаторное сознание. Битва за Алжир (1966) Джилло Понтекорво — это хрестоматийный пример такого фильма, сделанный коммунистическим государством для того, чтобы увековечить войну за независимость Алжира. Битва за Алжир, также, как и первые российские революционные ранние фильмы Эйзенштейна, производился как фильм для «одной группы» (и по этой причине он изначально был запрещён во Франции)[8].
Но эйфория от независимости очень быстро превратилась в разочарование от диктатуры, внутреннего кризиса и миграции. Как Делёз подмечает в разделе Образ-время, современным политическим режиссёрам больше не к кому обращаться как к «народу».
И, несмотря на все различия, кое-что общее все же у режиссёров есть: они показывают, что «народ пропал».
Больше нет какой-то определённой группы, к которой может обращаться кинематографический образ. Поэтому признание отсутствия народа становится новой основой для политического кино: «необходимо, чтобы искусство, и в особенности — кино, принимало участие в решении этих задач: не обращаться к предполагаемому народу, который уже присутствует, а вносить вклад в формирование народа» (Делёз, Ж. 2004, с. 539). Среди прочих, Делёз упоминает фильмы Усмана Сембена в Африке, Глаубера Роша в Бразилии и Пьера Перро в Канаде (вернее, Квебеке). Фильмы Перро были важны для процесса определения квебекской национальной идентичности, и в фильме Для остального мира (1963) мы видим, как режиссёр возрождает старую практику ловли белуги на Л'
Мне бы хотелось заострить внимание на том, что политическое кино с тех пор вошло в новою стадию, которая характеризуется не только перформативным воссозданием мифов, историй и обычаев прошлого, но и интенсивным вовлечением и традиционного, и аудиовизуального архива в качестве своей материи-потока. Поэтому сегодня кинематографисты используют камеру не только для того, чтобы создавать новые образы, но, всё чаще — архив. Конечно, использование найденной плёнки — не новый приём. Режиссёры работали с архивными изображениями десятилетиями. А

Сегодня этот тренд продолжается в лице авторов вроде Билла Моррисона и Кристофа Жирарде (см. Bloemheuvel et al. 2012; и Herzogenrath 2015). Говоря о более явных политических фильмах в жанре найденной плёнки[9], необходимо упомянуть Ярость (1963) Паоло Пазолини и Джованнино Гуарески. Он выполнен в двух частях, каждая из которых излагается с точки зрения разных персонажей с противоположным мировоззрением (коммунистом и монархистом). Этот фильм — реконструкция одного и того же материала новостных хроник в два различных ассамбляжа, связанных с противоположными политическими интересами. Проект был противоречивым и долгое время на его дистрибуцию были наложены ограничения, и тем не менее он является отличным примером высказывания Делёза и Гваттари о странствующем характере металлургов-ремесленников.
Но когда мы говорим о найденной плёнке и аудиовизуальном архиве в цифровую эпоху, можно заметить, что сейчас что-то изменилось в сравнении с ранними работами. И в институциональных архивах, и в менее стабильных «открытых архивах», которые располагаются на YouTube, Vimeo и в социальных сетях, мы видим, как огромное количество доступного материала превращает кино в память, относящуюся к (ранее) «несвязанным местам». И здесь режиссёр буквально становится металлургом, работающим с разнообразными материальными-потоками, открывающимися ему в момент разработки глубин архивов нашей коллективной «всемирной памяти». Таким образом, дело не в том, что раньше этим никто не занимался, а в том, что сейчас мы как никогда интенсивно и в больших масштабах вовлечены в отношения с аудиовизуальным архивом, во многом в связи с нашей цифровой техникой.
Металлургические принципы раскольцевания времени
В то время, как материал фильма у режиссёров был всегда буквально на руках, когда они за редакторским столом нарезали и склеивали плёнку в экспрессивные и осмысленные сборки, зрители получали этот материал в качестве проекции образов и звуков. Сегодня, с нашими цифровыми устройствами, каждый человек является потенциальным редактором, а образы кино стали к нам ещё ближе, готовые к трансформации. И теперь, когда мы все потенциальные кузнецы с «неясной сущностью», способные влиять на коллективное сознание, металлургические стратегии становятся всё более значимой частью политических практик (профессиональной) режиссуры. Безусловно, предстоит еще много работы по определению разницы между, казалось бы, открытыми формами поиска, связанными с такими открытыми источниками, как YouTube и другими базами данных, и бурения вглубь нераскрытых архивов, к которым имеют доступ некоторые режиссёры и художники[10]. Здесь я хочу наметить несколько опорных металлургических принципов, которые современные кинематографисты используют политически, воссоздавая прошлое, чтобы утвердить присутствие для людей будущего.
Первый металлургический принцип можно обозначить принципом «множественного варьирования прошлого». В сравнении с героической и официальной версией прошлого, которая предлагалась в качестве версии прошлого одной группы (часто национального государства), в современную эпоху мы наблюдаем взрыв вариативности прошлого. Все эти версии часто опосредованы различными аудиовизуальными эстетическими формами. Например, историческая фигура легендарного лидера независимости Патриса Лумумбы, избранного первым премьер-министром Демократической Республики Конго и убитого вскоре после своего избрания в 1961 году, была запечатлена во многих официальных новостях по всему свету в 1960-е, однако затем это событие повсеместно исчезло из телевизионных архивов. В 1990 Рауль Пек снял красивое и очень личное кино в форме поэтического эссе Лумумба, смерть пророка (1990). Сам Пек родился в Гаити, но во время убийства Лумумбы жил в Конго[11]. Этот фильм включает кадры новостей о событиях, личные воспоминания и домашние видео семьи Пека, сделанные его отцом в 1960-е и 1970-е, а также кадры современной Бельгии, бывшего колонизатора. В очень личной и поэтической манере Пек следует за

Сегодня эта вариативность продолжается онлайн. На YouTube можно найти ещё несколько документальных фильмов о Лумумбе: Cha Cha Independence, The Story of Lumumba, The Assassination of Lumumba и Hommages to Patrice Lumumba, многие из которых наряду с дополнительными материалами воспроизводят кадры из предыдущих работ, включая художественный фильм Пека. Поэтому, можно сказать, что в случае Лумумбы история продолжается. На самом деле, история никогда не заканчивается. Для каждого исторического события существует множество версий произошедшего. Эти истории не обязательно противоречат друг другу, но каждый раз привносят несколько новый взгляд на историю. Как и Лумумба, историческая фигура в новостях; Лумумба, личное эссе; Лумумба, драматическая голливудская версия; Лумумба, документальный фильм; Лумумба, оммаж-ремикс и так далее. Что-то подобное можно сказать и о Харви Милке, гее-активисте из Сан Франциско 1970-х, который также существует в новостных, документальных и драматических формах, и в различных оммажах и мэшапах.
История повсюду — как опосредованная память.
И важна именно множественность перспектив, складывание и раскладывание истории в различных формах выражения. Эти пересказы и повторения и составляют пересекающую национальные границы всемирную память различных групп, в которую преобразуется история.
Второй принцип связан с первым, его можно описать как «интенсивное, аффективное ремиксирование». Как я выше подчёркивала, архивы были доступны и до цифровой революции, но работа с этими кадрами требовала времени, денег и технических средств. Сегодня всё изменилось настолько, что аудиовизуальные образы сами становятся частью исторического речевого акта. Больше чем просто протезной памятью, аудиовизуальные образы стали частью самой памяти и истории. Множественные перспективы и версии истории всё больше ремиксируются и накладываются друг на друга, часто в комбинации с новой музыкой; эти мэшапы обычно не фокусируются на событиях и историях, но выводят новые интенсивности, другие аффекты. Например, на YouTube есть красивый мэшап Битвы за Алжир с песней ‘Listening Wind ’ Talking Heads, и наложение этой музыки на кадры делает их грустными[12]; есть и более энергичный микс Броненосца Потёмкина и Битвы за Алжир под песню Clash ‘Rock the Casbah[13]; и агрессивный мэшап с саундтреком сцен пыток из Zero Dark Thirty, наложенным поверх кадров из Битвы за Алжир[14]. Ширин Нешат в Венеции 70: Перезагрузке будущего делает ремикс Броненосца Потёмкина и Октября[15]. Среди прочего, Решат перемонтирует знаменитые кадры «Одесской лестницы», спаивая сцену даже в её содержании: армия солдат, вместо того, чтобы маршировать вперёд чтобы задавить людей, отходят, а Нешат фокусируется на лице женщины, несущей ребенка. Спаянный с меланхоличной музыкой, этот металлургический жест микрополитичен и аффективен. В этом интенсивном принципе ремиксирования мы видим, что история сопровождается мощным аффектом, который вступает в диалог с официальными версиями истории. Это может быть продуктивным средством политического высказывания. Итак, мы снова видим, как реальная история становится всемирной памятью, принадлежащую различным группам в «несвязанных местах».
Третий металлургический принцип можно назвать «разработкой мнемонических глубин архивов». Мы уже видели, как история становится всемирной памятью путём манипуляций с перспективами и усилением аффективных отношений. Но художники (как и люди, изучающие медиа) всё равно копают глубже, в поисках утраченного, никем не увиденного, но хранящегося в складках и мнемонических глубинах архивов. Здесь можно упомянуть таких художников как Сара Пирс и Джон Акомфра — их металлургические операции реализуются через выявление радикальной контингентности того, что становится официальной историей и извлекается из архива, за счет множества нерассказанных или забытых историй. Сара Пирс изучала новостные хроники в Ирландском киноархиве. В своём проекте ‘The Archival Fourth Dimension’ для онлайн-издания Afterall она описывает как среди архивных материалов нашла опровержения высказываний знакомых с вечеринки в Дублине о том, что в Ирландии никогда не было чернокожих людей[16]. Это заставило её задуматься о том, что значит — быть «стёртым» из истории? Потому она приступила к «возрождению мёртвых» и начала возвращать эти архивные контр-образы, публикуя их в интернете и монтируя в свои художественные произведения, в которых она открыто выставляла забытое, неувиденное, оставленное позади, неофициальное из архивных материалов, начиная с керамики и личных фото и заканчивая письмами и фильмами на 16-миллиметровой плёнке. Она эффективно конструирует другое прошлое, «где колонизированные больше не жертвы, невинные и подавленные, где язык не объединяет нацию, и где происхождение — не самый надёжный показатель того, кто из ‘того’ или ‘иного’ места» (Pierce, S. The Archival Fourth Dimension 2009). Ссылаясь на концепцию Эйзенштейна о четвертом измерении, измерении кино, которое скорее ощущается, чем познается, измерении, где может возникнуть новое восприятие и бунтарское понимание эстетики фильма, Пирс призывает к архивному четвертому измерению, открывая «бунтарское» и новое понимание архива в его связи с историей и коллективным сознанием.
Джон Акомфра — это ещё один пример режиссёра/художника, который обращается к архиву для того, чтобы открыть четвёртое измерение, обнаружить забытое и неувиденное, и выставить его на свет в новой версии, новой попытке создать историю. В Девяти музах (2010) Акомфра собирает забытые кадры миграции из британских архивов и комбинирует их с аудиокнигами прозаического и поэтического канона английской и американской литературы, музыкой и новыми съёмками заснеженных пейзажей Аляски, с фигурами в жёлтых или синих куртках. Начинаясь с отсылки к Мнемозине, греческой богине памяти, Девять Муз открыто поднимает проблему памяти. Девять ночей Мнемозина спала с Зевсом, Королём Богов, а затем родила девять муз. Акомрфа перечисляет все девять, смешивает их мнемонические формы: эпическая поэзия, музыка, история, танец, трагедия, комедия, астрономия, любовь и певческий голос. Переназывая всех этих муз и смешивая их с различными архивными источниками и со своими кадрами, Акомфра тут действует как металлург, как поэт всемирной памяти, буквально связывая коллективную память. В интервью The Guardian Акомфра объяснял свою увлечённость архивом, отсылая к неоднозначности и незавершённости архивных материалов:

«Мигрантов часто снимают, когда речь заходит о спорах на тему преступности или социальных проблем, и так они и закрепляются в нашей официальной памяти. Но эта стоящая на фабрике 1960-х карибская женщина не думает о том, что она эмигрантка или бремя Британской империи; скорее всего она думает, что будет есть сегодня вечером, или о своём возлюбленном» (Akomfrah, J. The Nine Muses 2012).
В другом интервью Акомфра добавляет, что самое сложное в работе с архивом — то, что одному приходится работать со всем, что там есть. История сама по себе не меняется, но может измениться перспектива. Потому что существует многое, что никогда не было увидено: «за каждым часом фильма стоят десятки или сотни часов неиспользованного материала, просто пылящегося в коробках» (Akomfrah, J. ‘The Nine Muses. ’ The Wire 2012). Другая сложность состоит в том, чтобы объединить в цельность, в новый ассамбляж конкретные и несвязанные друг с другом фрагменты. Существует приверженность радикальной контингентности или неопределенности, которую Акомфра рассматривает как одну из определяющих черт современной цифровой эпохи. Эта приверженность случайностям и неоднозначностям в истории и делает из него металлурга, следующего за
Последний, четвёртый металлургический принцип, на котором я хочу заострить внимание (список ими не исчерпывается), можно назвать «эффектом бабочки». Прежде чем вернуться к разговору о Тарике Такийа, мне бы хотелось упомянуть еще один фильм, снятый для Венеции 70: Перезагрузки будущего[17]. С аудиовизуальным архивом всегда работал ещё один режиссёр — Атом Эгоян. В Семейном просмотре (1987), например, личные съёмки отсылают не только к семье, но и к геноциду армян, который почти не зафиксирован в архивных материалах (Baronian, M-A. Archiving the (Secret) Family in Family Viewing 2005). А в Венеции 70 Эгоян показывает свой телефон и говорит, что на нём уже не осталось памяти, поэтому придётся удалить некоторые материалы. Он выбирает съёмку выставки Атона Корбейна в Амстердаме. Это известная выставка и она не исчезнет, объясняет закадровый голос Эгояна. Но что пропадёт — это звуки шагов, раздающиеся в галерее, и его восхищение одной определённой фотографией чернокожего мужчины с белой бабочкой на груди. Эгоян заключает: «а сейчас, когда я показал это вам, бабочка упорхнёт, а я смогу это удалить и расчистить место для других вещей». Стирая воспоминание, он передаёт его, пусть и таким ненадёжным способом, как будто делясь воспоминанием. Бабочка, которой Эгоян позволяет выпорхнуть в своём коротком метре отсылает и к знаменитой бабочке в теории хаоса. Таким образом, по отношению памяти можно утверждать, что её следы, пусть незначительные, могут быть подхвачены в неожиданных местах и иметь непредсказуемые эффекты, когда за ними следуют в новой среде, новой эпохе, новом ассамбляже.

В Революции зинджей (2013) Тарик Такийа подхватывает несколько «упорхнувших бабочек»[18]. Главный герой фильма, алжирский журналист по имени Ибн Баттута (Фатхи Гарес) — отсылает к исторической фигуре Ибн Баттуты, танжерскому юристу из XIV века, который пересёк Средний и Дальний Восток и написал о своих путешествиях книгу под названием Путешествие. В начале фильма Баттута медленно появляется из тумана, как будто бы буквально сбегает/воскрешается из прошлого. Затем Батутта подхватывает бабочку-слово, «зиндж», слово, которое произносят молодые повстанцы из Южного Алжира, которых интервьюирует Баттута. «Как ты думаешь, кто мы, зинджи?» — спрашивают его молодые люди.
Историческая революция зинджей произошла в Ираке в IX веке. Это был бунт чёрных рабов, восставших против Аббисидского халифата. Баттута попросил у своей газеты разрешения расследовать эту революцию и вылетел из Бейрута в Ирак для того, чтобы разузнать больше об этой забытой части истории. Нарратив фильма фрагментарен, молодые мятежники из разных частей света (Алжира, Греции, Ливана) показаны на собраниях, обсуждающими политику и возможность новой революции, или делающими музыку. В Бейруте журналист Баттута встречает Нахлу, молодую палестинку (она встречается и в части Такийа в Венеции 70), которая едет из Греции в поиске своей родины — которую она никогда не видела — и посещает родственников в Шатиле (месте, преследуемом травматическими воспоминаниями). Они проводят некоторое время вместе, а потом разделяются и идут своими дорогами. Такийа начал снимать фильм в 2010 году, до революций арабской весны, которые фильм одновременно предвосхищает и подхватывает (пока в Бейруте велись съёмки, арабская весна распространилась по всему Ближнему Востоку).
Помимо исторических личностей и революций, Такийа возрождает дух политического и революционного кино, особенно эстетику Эйзенштейна. Встречи молодых бунтовщиков часто сняты им в контрсвете, который превращает обычные фигуры в силуэты. Эти образы напоминают образы забастовщиков в Стачке, где в некоторых знаковых моментах Эйзенштейн применял тот же приём с силуэтом. А в других моментах Такийа подрывает наш канонический репертуар образов, открывая четвёртое измерение Эйзенштейна нашего коллективного архива. Одна сцена представляется подрывным и мятежным оммажем к Окну во двор (1954) Хичкока. Баттута и Нахла находятся в номере отеля, и вид из их номера выходит на окна других комнат. Они танцуют — саундтрек содержит архивный отрывок легендарной речи члена Чёрных пантер Элриджа Кливера 1969 года: «если ты не часть решения, ты — часть проблемы». А в комнате напротив американские бизнесмены считают деньги, проворачивают разнообразные теневые сделки (включая торговлю оружием, частной собственностью и землёй). Революционная версия хитчкоковской Лизы, Баттута забирается в комнату американцев через заднее окно, забирает деньги и убегает. Покинув отель вместе с Нахлой, они делят деньги. Нахла использует их чтобы нелегально пересечь Средиземное море и вернуться с родственником в Грецию, и мы видим, как разворачивается ещё одна драма: к двум точкам на горизонте, двум фигурам присоединяются другие — пограничники… Это драма точек — здесь нет никаких крупных планов, образы в кадре редуцируются, но мы понимаем ужас и трагедию разворачивающейся перед нашими глазами сцены. Благодаря этому эстетическому приёму «деиндивидуализации» герои становятся мощными образами сопротивления — они не являются образами только одной группы, но эстетически эти образы соединяют различные группы в несвязанных местах.

А Баттута, со своей стороны, теперь имеет деньги для поездки в Ирак и буквально следует за металлическим потоком революции, которую он нашел в Бейруте: архивариус дал ему металлическую монету, которой пользовались свободные зинджи. Баттута находит проводника. В очень длинных кадрах пейзажей снова медленно появляются фигуры, пересекающие местность в поиске первоначального места, где была найдена монета. И они его находят: пейзаж совершенно пуст и бесплоден; ничего не напоминает нам о его революционной истории. Но затем проводник поворачивается к нему, открывая своё лицо, и говорит: «да, но мы здесь», тем самым признавая их присутствие; и имплицитно признавая присутствие камеры. Они здесь, их снимают, каким-то образом подхватывая наследие металлической монеты, преобразованной металлургией камеры, режиссёром-металлургом. В то же самое время у Нахлы получается сбежать от полиции и присоединиться к демонстрантам в Афинах — её также схватывают несколько камер. Здесь мы видим то, что подразумевается под делёзовской всемирной памятью, которая состоит из фрагментов истории, принадлежащей различным людям и не связанным между собой местам, теперь ещё более явно обозначенными как радикально контингентные. Именно в контингентности глубин истории, глубин архива, новые истории могут быть ремиксированы режиссёрами-металлургами, возрождающими смерть, давая голос неуслышанному, освещая неувиденное, пробуя другие версии истории, пробуя ещё, закольцовывая и раскольцовывая с различными вариациями, в поисках лучшего прошлого. Не для того, чтобы создать финальную версию, но для того, чтобы ошибиться лучше. Поэтому, по крайней мере, «все равно завтра кино будет говорить: здесь кто-то был, кто-то здесь есть, и
Примечания
[1] См. https://www.youtube.com/watch?v=cnInrN4id-w
[2] Анализ металлургии в связи с современными художественными практиками был проведён Сьордом ван Туйненом в статье о пространственном ремесленнике и возвращении маньеристской виртуозности (Van Tuinen, S. The Cosmic Artisan and the Return of Mannerist Virtuosity 2016).
[3] Снятую в 1946 вторую часть фильма встретили прохладно и изъяли, поскольку она неоднозначно отображала тоталитарный режим. Фильм выпустили в прокат только в 1958, через пять лет после смерти Сталина и десять — после смерти самого Эйзенштейна. Третья часть, также снятая в 1946, была уничтожена.
[4] См. http://topdocumentaryfilms.com/blood-coltan/.
[5] См. программу Vuil Gold (Dirty Gold) VPRO Television, Frank Wiering, 2015. http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014–2015/vuil-goud.html. Документальный фильм, помимо прочего, рассказывает об основателях датской организации Choosing the Loop, которые запустили проект, чтобы решить проблему электронного мусора в Гане. Они выкупали сломанные телефоны, привозили их в Бельгию и перерабатывали в семь благородных и десять неблагородных металлов, которые снова могут быть использованы как материалы для новых телефонов и других устройств. Их цель в том, чтобы такая городская переработка ископаемых распространилась по Африке и везде в мире.
[6] Делёз и Гваттари отрицают мимикрию в отношениях книги и мира во введении к Тысяче Плато: «книга — не образ мира, согласно укоренившемуся верованию. Она создает ризому с миром, имеется а-параллельная эволюция книги и мира, книга обеспечивает детерриторизацию мира, но мир осуществляет ретерриторизацию книги, которая в свою очередь сама детерриторизуется в мире (если она на это способна и если она это может)» (19)
[7] Прим. пер.: A Sculpting in Time: Reflections on the Cinema была впервые издана на немецком, позднее переведена на английский и почти полностью переведена на русский язык. В русском варианте она получила заглавие «Запечатлённое время». Я не ссылаюсь на русскоязычный перевод, поскольку материалистические коннотации в нём были утрачены.
[8] В
[9] Прим пер.: здесь и далее жанр «найденной плёнки» используется для определения фильмов документального типа, полностью собранных из ранее существовавших кадров. Современное преобразование жанра не подразумевается авторкой.
[10] Эта статья — часть большой незавершённой работы по металлургии и практикам кино.
[11] В начале 70-х многие гаитийцы переселились в Конго для того, чтобы поучаствовать в строительстве новой страны. Мать Пека работала секретаршей при правительстве, но оставила работу после того, как ей пришлось заказывать веревку для повешения политических оппонентов. Пек вспоминает её истории о политической ситуации в то время: «моя мать говорила, что от Лумумбы отрёкся один из тех, кого он сам предлагал на должность президента». Президент Касавубу находился под влиянием и получал «поддержку» от бельгийского и американского правительства, считавшего Лумумбу опасным коммунистом.
[12] Battle of Algiers: Listening Wind: https://www.youtube.com/watch?v=POt5O_fHqWA
[13] The Battleship Algiers: https://www.youtube.com/watch?v=tFkxsd4QyrM
[14] См. https://www.youtube.com/watch?v=drYH1zP66rk. Прим. пер.: канал удалён.
[15] См. https://www.youtube.com/watch?v=vwV0MhMzluE
[16] См. http://www.afterall.org/online/the.archival.fourth.dimension#.Vb8_dvmqpBc
[17] См. https://www.youtube.com/watch?v=f2WcFnq5BTI
[18] Революцию зинджей показывали на Международном кинофестивале в Роттердаме в 2014, где я и увидела этот фильм. Хочу поблагодарить Тарика Такийа за предоставленную копию.
