Спутники погрома

А что, неужели никто не понимает,что вся эта философия вызвана не идеями, а всего лишь неконтролируемым круговоротом сексуальных позывов и алкоголя?
И. Яркевич. Из котлована
Замечательная, по сути, практика была затеяна в свое время на одном из патриотических российских ресурсов, о котором многие говорят, да немногие слышат. Почему-то это сайт, весьма удачно заменивший канувшие в ленту «Русскую жизнь» и мутировавшую «Кольту», считается в народе «фашистским» — пускай даже не на этой, но той стороне гуманитарных баррикад — точно. Ну, а затея такова. Советская классика подвергается здесь ревизии с точки зрения ее принадлежности к национальным и патриотическим ценностям нынешних авторов-консерваторов, сполна хлебнувшим пепси-колы новороссийского разлива в благословеные советские времена. Если точнее, то о литературе, музыке и кино писали, пишут или еще собираются написать те, кто чувствует их сердцем, несет сквозь время и редакционнную халтуру, оглядывется на эти детские буквы, ноты и кадры в серых буднях нынешнего премиального худла, музла и кинцы.
Так, например, о литературе здесь вещает замечательный критик, примерный семьянин и просто нескучный человек Лев Пирогов, автор эпохальной брошюры «Хочу быть бедным». Наверное, это его имел в виду Энди Уорхолл, когда писал: «Я мечтаю, чтобы какой-нибудь великий человек возвысил свой голос и заставил всех заново уважать бедность».
В школе и дома
Тексты упомянутого автора о Чехове, Носове и Шукшине найти, в принципе, не сложно. Они доступны, как, собственно, и тексты самих классиков. Но прочесть их так, чтобы не было мучительно больно вспоминать пройденный аллюром школьный материал и заодно внеклассное чтение, это дано не каждому рассказчику. Пирогов, например, умеет делать это небольно и весело, так что даже цитировать не надо — и так все поверят. Но вот, разделавшись круто с таможней Чехова и Носова, он запнулся на конфискате официального советского мейнстрима, Шукшине. Не устал или выдохся, но нагнал лишнюю тысячу знаков — и обнажил прием. Ведь главная особенность новой московской журналистики, на которой воспитывался Пирогов, стремясь в столицу некогда нашей Родины, знаете какая? Это отсутствие усилий. И так же, как считалось, что все уже украдено до нас, так и прочитано, полагали, все давно и надежно, но, слава Богу, нами.
Тексты в 90-е, если уж вспомнили о Славе, критики вроде Курицына не читали, о чем он сам признавался, а читали метатексты. Ну, то есть, короткий пересказ в
В принципе, это правильно — растратив жизнь, тащить в будущее только прошедшие проверку временем тексты, и, опираясь на эту веру, строить рассуждения об очередном фильме Тарантино, как это было в 90-х. Неудивительно, что, когда все ненужное в этом мире вроде постинтеллектуализма отсохло вместе с потребностью писать о чужих книжках, прием в нынешних «погромных» текстах Пирогова не только обнажился — он заголился до самых костей, до глубочайших пор памяти о «Горячем камне» и «Вите Малееве в школе и дома».
Поэтому — Носов в пересказе критика. Советский писатель, о котором сейчас пишут многие, да немногие умеют применить его «Мишкину кашу» к теории ядерного коллайдера или внутренней колонизации имени американских славистов на подсосе у мирового сионизма.
Поэтому — Чехов, разложенный нашим критиком на скрипучем диване в Стране солнечных зайчиков. Потому что именно его удобный зеленый трехтомник прочитался на зимних каникулах в
Ну, а чудаком был сам доктор Чехов, как и все лекари в его рассказах, готовый поменяться местом с пациентом. Кажется, Горький вспоминал, как подсмотрел эпизод с живой шляпой у Чехова. Или у Носова. Не, точно у Чехова. Когда тот сидел и на полном серьезе ловил шляпой солнечного зайчика, пытаясь надеть его на голову вместе со шляпой А после спохватился, хлопнув шляпой по колену, резким жестом нахлобучил ее себе на голову, раздраженно отпихнул ногою собаку Тузика, прищурив глаза искоса взглянул в небо и пошел к дому. «Россия — очень большой сумасшедший дом, — вздыхала Зинаида Гиппиус. — Если сразу войти в залу желтого дома, на
Спичку, Маня, спичку! — как в «Малиновой шашке» у Хлебникова.
Кстати, о шашнях. С женщинами Чехова у Пирогова тоже промашка вышла, об этом как раз в «окрестностях» не раз говорилось. «Тараканить женщину лучше на кровати», — сообщал Антон Палыч потомкам, но они почему-то запомнили лишь его замечание о том, что русский человек любит прошлое, ненавидит настоящее и боится будущего. Потому что в будущем — непонятный Деррида, а тут милая сердцу «фяфка, бяфка фрофлятая» во рту Скуперфильда из «Незнайки на Луне», словно вышедшая из лона футуристического «дыр-бул-щыр» еще живого в ту пору Алексея Кручёных.

Хлюпики и чудики
Короче, как говаривал Чехова, хорош Божий свет. Одно только нехорошо: мы.А кто — мы? Да никто, как утверждают продолжатели Незнайки — веселые человечки. То есть, по жизни они были и есть не то чтобы веселые, но повеселиться, подурачиться, посмеяться над сельским дурачком, как Шукшин, ой как как любят. Ведь ничего за это не будет, более того, не было ничего кроме забвения и запрещения, а кого на Руси этим удивишь. Вот и не страшно рассуждать на диване нашим спутникам будущих погромов. Смешно рассуждать, интересно, с продолжением. Особенно, когда терять, собственно, уже нечего. «Ведь есть же на свете люди, которые никогда не хворали опаснее инфлуэнцы и к современности пристегнуты как-то сбоку, вроде котильонного значка, — писал о таких самоделкиных Мандельштам. — Такие люди никогда себя не почувствуют взрослыми, и в тридцать лет еще с
Собственно, из этого поэтического сора-новояза и пишется история новейших времен на основе старой, очень старой, как говаривал товарищ Сталин, литературы. И пишется она, как во времена былые, так и в былинные, то бишь советские, все сплошь людьми простыми, разночинными, но замахивающимися на мировую революцию на диване. «Пожалуй, именно таких господ видел перед собой Чехов — наскучивших жить бар, еще думающих, что они любят покушать, еще думающих, что они чудаки, а на самом деле…, — подсказывал Юрий Олеша. «Люди знают о своих далеких родичах по “разночинской» линии, но слабая оборудованность в области надстроек толкает их в объятия «дворянских» мертвецов», — уточнял, как было на самом деле пролеткультовец Николай Чужак в «Литературе жизнестроения». «Их восприятие — это точка зрения прогуливающихся дачников», — приколачивал двоюродных людей литературы теоретик ЛЕФа Сергей Третьяков. «Масса радостно и вольно вдвигается в процесс творчества, — поддерживал его коллега, упомянутый Чужак (Насимович). — Обывателю-читателю нужны две вещи: отдых и забвение”. «Совершенно ясно, что публика хочет главным образом смешного, — соглашался Олеша. — Она жадно ждет его и реагирует даже на тень его».
Вот почему, если спрочите, — Шукшин, этот усомнившийся Макарыч из деревенщицкого призыва советской литературы. Потому что смешно у него — о хлюпиках и чудиках. А вот почему именно он у любителя советских тараканов Пирогова — это вопрос к заду, то есть, заднику истории. Это, наверное, авторское, как любовь к трем апельсинам, испоганенная в очередном романе живого классика, пеленгующего любое стоящее учение современности — то ли эзотерическое, то ли какое-нибудь физико-математическсое, как теория об роли информационного эгрегора в национальных движениях, чему посвящен последний роман упомянутого пеленгатора нашего времени.

Вспомнить не все
На самом деле, тексты Пирогова о классиках очень метафоричны, он мыслит удобно, прочитанными в юности книжками. Хотя, в статьях — не цитаты из них, а путанный пересказ, рассчитанный на забывчивого читателя. Стиль гонзо, как известно, разрушает журналистику, а подобный стиль разрушает институт читателя. Вот и не читайте, скажете, никаких? Нет уж, лучше почитаем, а еще лучше — вспомним
Вот, скажем, насчет селькохозяйственных работ у Пирогова. Кажется, из статьи про Шукшина. «Крестьянская жизнь должна опираться на монотонность. Это там от культа плодородия повелось. Сезонные циклы, ходьба по кругу «путём зерна», даже и смерти нет. Модель мира у них циклическая: мир ни к чему особо не движется и не изменяется — так чтобы сильно. В окружающем крестьянина мире мало есть чему меняться. Трава — звенит. Облака — плывут. Довольно давно уже. И ещё долго так будет».
Вроде бы красиво, никто не спорит. Но не экономно, много, что ли, букв о простой сложности бытия. То есть, если бы Милорада Павича припомнил автор, то и количество знаков в статье было бы поменьше, хватило бы эпиграфов и цитат. Ну, а старинные герои у изобретателся «Хазарского словаря», если помните, знали день своей смерти и не работали зря в этот день. Разве не хорошо, не просто? Мисюсь, где ты?
Или о городе у Пирогова, в котором есть ощущение отсутствия границ. «Ну, или они где-то там, далеко. И тебе есть куда двигаться. Даже если ты ничего не делаешь, нигде не бываешь, никак не используешь «возможностей большого города», всё равно психологически ощущаешь, что тебе многое доступно. Пространство твоих потенциальных возможностей больше, а от этого и сам ты как-то больше становишься.
Разве не проще об этом у классика, утверждавшего, что далеко не до Америки — далеко до вокзала?
Или вот, рассуждая о творческих мечтателях в прозе Шукшина, вспоминает Пирогов вычитанного им где-то в народном календаре Уиндема: «Так вот, я, когда читал, заметил, что герой этот самый сельскохозяйственных работ не любит и как может от них отлынивает. (Хотя жрёт как все.) Именно благодаря тому, что он тайком от остальных полёживает в тени, с ним случается всё самое интересное. А не был бы бездельником — так и умер бы в говнище. Самое интересное, что Уиндем не хотел писать, что условием гуманитарного прогресса является тунеядство, а вот написалось же…»
А не лучше ли было упомянуть того, хто и хотел, и написал, и в полевых условиях доказал преимущества безделья перед рутиной журналистских будней? «Ни один порядочный и работящий человек не подал бы мне руки, — принавался в подобных девиациях Гессе, — если бы знал, как мало я ценю время, как теряю попусту дни и недели, даже месяцы, на какое баловство растрачиваю свою жизнь».
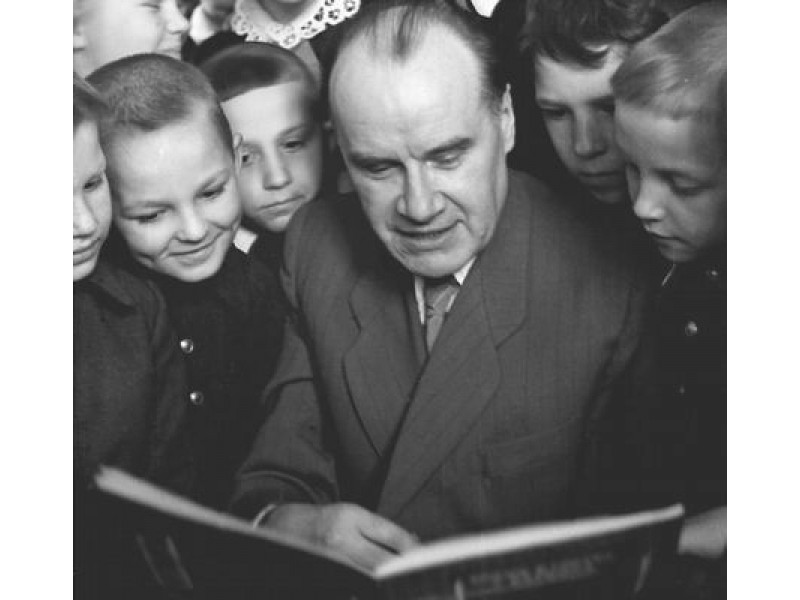
Кривые зеркала революции
В конце сей заметки стоит упомянуть об одной важной мелочи, торчащей из текстов Льва Пирогова, как говаривал классик, словно гвоздь в сапоге или заноза в заднице.
Как уже отмечалось выше, на Чехове с Носовым автор «погромных» памфлетов разминается, а на Шукшине проговаривается, и можно было бы к тем двоим подверстать, но уже не вернуться. Итак, статья о Чехове обрывается на полуслове, статья о Носове не может ни о чем таком сказать, поскольку время было уже не то, и пили не только перед смертью. А речь ведь о том, что все наши кривые «зеркала революции» — по сути, ее предтечи. Этой самой революции предтечи, а также родоначальники и основоположники — то ли большевистской, как Чехов, то ли научно-технической, как Носов. Вспоминая творчество Шукшина, автор статьи о нем, наконец-то, додумывается до этого, но, как уже говорилось, поздно. «корпус шукшинских персонажей, получивших тошнотное наименование «чудиков», — те, которым не живётся как всем, у которых «душа болит», и водка эту беду не лечит, а становится легче, лишь когда отколешь какое-нибудь коленце, — это случайно не мутанты ли? Не
Наконец-то, в яблочко, хоть и червивое. Выходит, Шукшин и его «чудики» — предвестники будущего Апокалипсиса, то есть, всех последующих ревизий фашизма-либерализма вкупе с консерватизмом, а левый утопист Чехов и
