Жизнь на улице кой-кого
…Сказ в этом фантасмагорическом романе, искусно синкопированном грустной действительностью, чуть ли не былинный, выговор порой напевный, что отсылает по нынешним временам бренд-узнавания, конечно же, к «Кыси» Татьяны Толстой. Чего-то там замкнулось, если помните, в головах ее героев после ядерных катаклизмов, вот и перешло население на старорусскую певучесть и прочий воляпюк. Этак добротно, чинно, с расстановкой гуторят и в «Логопеде» Валерия Вотрина, но все сплошь людишки из бывших — в отличие от государственных толмачей воли государевой насчет произношения словес современных, которые ратуют за правильную речь. «Приходилось и председательствовать, и участвовать, и слушать, и постановлять, — течет неспешно жизнь главного героя. — Но забота жены его согревала. От ее пышных, исходящих паром оладий в нем проходил разлад, наступал мир в душе».
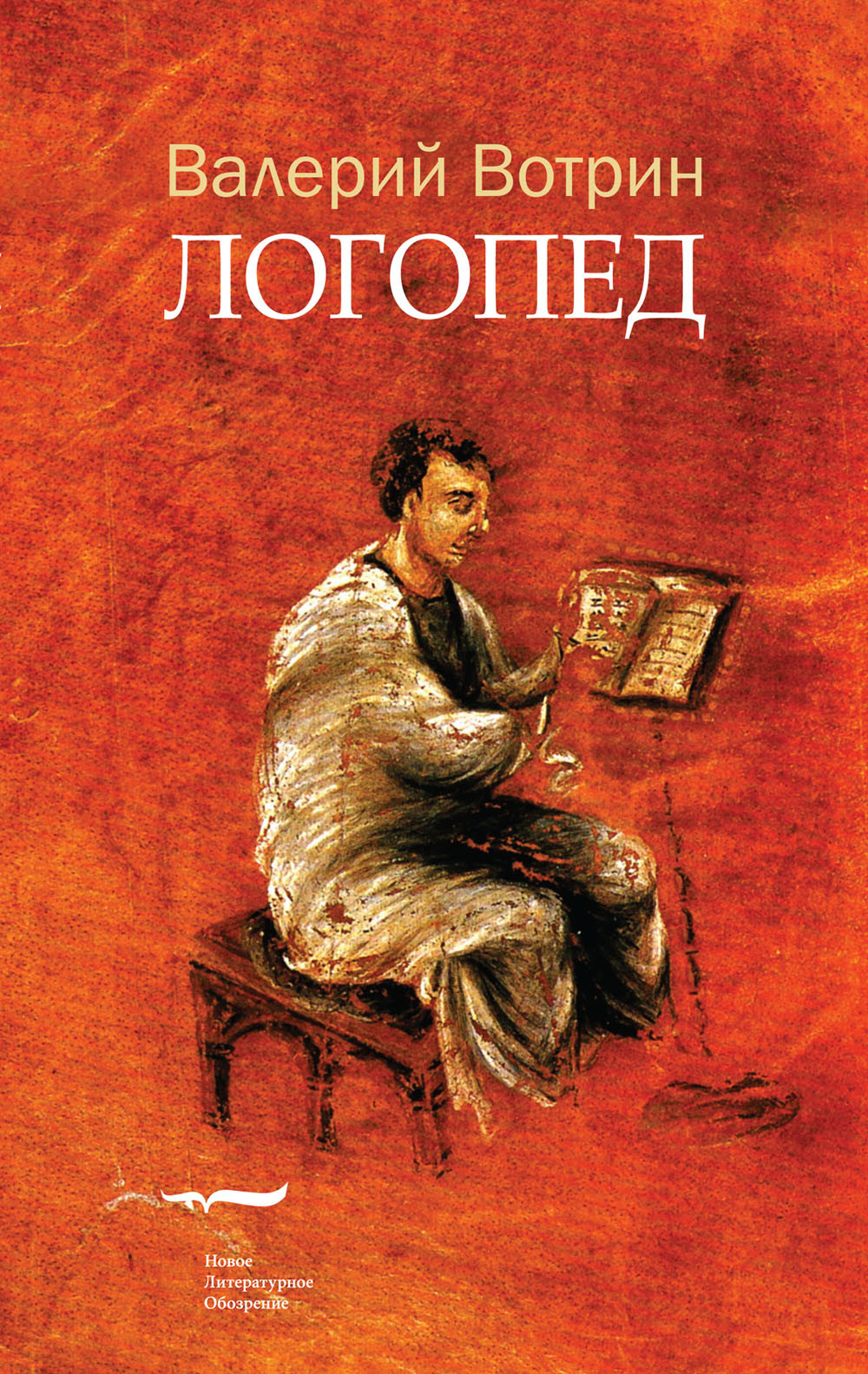
Короче, если помните из уроков риторики про камни во рту оратора для улучшения дикции, то в «Логопеде» все вроде бы все точно так же, только без камней. Ну не выговаривает революционную букву «р» номенклатурная элита в романе Вотрина, и что? Во-первых, их же ведь тридцать две, как восклицал герой советского фильма с фефектами фикции, работающий логопедом в поликлинике «на улице
Как видим, не обошлось также без «Дня опричника» Владимира Сорокина в послужном списке генеалогии жанра. И методы по искоренению ереси уж очень похожи, и
В целом, среди цехового разнообразия ученых сюжетов этой занимательной лингвистической антиутопии весьма мастерски выделены две линии повествования: тонкая красная и жирная белая, словно слетевшая с недавних несогласных митингов, где гласные смешались с фрикативами, паллиативами и общим потоком грассирующего обличения власти. В «Логопеде» все проще, здесь война и мир живут в одном толковом словаре нового языкового пространства — словно народ и интеллигенция, обедающие в разных ресторанах. И это не тонкий намек на толстые концептуальные обстоятельства, поскольку автор не прельщается соблазнительной в подобном контексте реализацией метафоры в духе сотворения какого-нибудь Славы Капээсес, и один из
В «Логопеде» просто взят образец советского управленческого механизма, чьи идеологические составляющие — от Союза писателей до жилищной конторы — во все времена были филиалами более внутренних органов государственного организма, и показаны его историко-филологические частности. Логопедические семьи и простые, секты болтунов и правовые акты с министерскими циркулярами («учитывать все “варианты» написания слова «переломный», а именно «пелеломный», «перевомный», «пегеломный», а также иные, не запрещенные законодательством”), еженедельник «ПравИло», государственные орфоэпические экзамены и прочие официальные святыни, разрушающие государство изнутри.
Главный герой романа, логопед ІІ ранга Юрий Петрович Рожнов — не из самых жестких сторонников государственного вмешательства в орфоэпическую сферу, хоть каждое его заседание начинается принятием присяги председателем комиссии, которая зачитывается стоя: «Я, Юрий Рожнов, на посту председателя логопедической комиссии обязуюсь соблюдать чистоту языка и образцово следить за священными нормами…». Он, собственно, и соблюдает, даже наедине с самим собой общаясь соответственно с государственными нормативами: «Неполядок. Где дволники? Ублать мешок! Лазвелось мусола, хоть сам бели метлу в луки и убилай. И это на плавительственной улице! В сталые влемена небось такое бы не позволили. Влаз нашли бы, чей мешок, и пливлекли к ответу. Сейчас не то. Полядка не стало. А
И вроде бы тишь да гладь посреди словарного благолепия в данном государственном случае наблюдается, и сплошной Салтыков-Щедрин, не меньше, и зря мы тут о
— Скажите «рыба».
— Рлыба.
— Скажите «рак».
— Рлак.
— Скажите «шибболет».
— Гм. Рудольф Иванович, не сейчас. Кандидат, произнесите «агропром».
— Агрлопрлом.
— Ну что ж. Теперь скажите «порядок».
— Порлядок.
— Гм. Ну что ж…
Но язык, как известно, живет, где хочет, и антигерои в романе «Логопед» также случаются почти из ниоткуда. Из приличных, вроде бы, семейств, где либеральные взгляды на язык весьма и весьма сильны, вплоть до ухода из этих самых семейств в неблагодарный народ. Как и поступает второй по главному значению герой романа с говорящей фамилией Заблукаев, который не мог больше терпеть, как учительница в школе лепечет, мол, «в своей повести “Барыфня-крестьянка” А.С. Пуфкин показал…». И оттого страстно желает стать логопедом и на законных основаниях выступить против порчи языка, которую все называют «развитием». Борясь с злоупотреблениями и перегибами, до диссидентских «чекуртабов» и «чепьювинов» (в пику официальным «исправдомам») он, правда, как Вадим Шефнер в «Девушке у обрыва», не додумался, но другим путем, словно пламенные революционеры прошлого,
Страшно, не так ли? Нет, подсыпать яду в водку партийцам он не стал, и попросту забалтывал кухонный персонал до колик, за что прозвали его Лева-Болтолог, но раскрутить
