Оправдание тени

Сашеньке
Помнишь, как она сказала: наши глаза наполнены всевидящей тьмой.
Чтобы уберечь эту ношу, крохотные мускулы и плёнки вокруг моих глаз подрагивают. Здесь слишком много солнца. Я хочу вылить внутреннюю тьму и напоить свои зародышевые листочки как сухую землю.
*
Так нелепо и беспомощно моё настроение привязано к погоде. Я уже взрослый, я понимаю ломкость, мои душа и тело из упругого сияющего кома превратились в совиный погадок (ну и ну). А заветная субъектность всё не наступает, и воздух идёт прямо по моим чувствительным зародышевым поверхностям. Я подавлен и зол, когда безветренно и безвидно. Я радостен и уместен, когда дождь и ветер, всё что угодно за дождь и ветер. Но я говорил тебе, что я родился зимой, я родился одиноким, и больше всего я хочу тьму и холод, и когда я получаю их, у меня больше нет настроения. Я покинут, свободен, спокоен, я в опасности.
*
Умеет ли бабочка лгать? Умею ли я говорить правду?
*
Счастливо и безнадёжно жилось в краю тьмы и холода. Все желания были удовлетворены, я встретил тебя, думая, что завершён, что узнал цену падения звёздных тел, что нашёл ответ в украшениях тени.
*
Такой тени, что согрета сложенным крылом бабочки, той тени, что скрепляет сегменты кроваво-винного орнамента. Тени, что поместила нас в отказанную, зачёркнутую ветвь.
*
Я просыпался и мечтал, чтобы мир сломался, чтобы вокруг советских многоэтажек была вода, в ней цветущие вишнёвые деревья, детский сад закрыт, и чтобы добраться до хлебного магазина, надо собрать походную байдарку.
Потом ты показала мне медицинское учреждение, в котором я родился. Это было тяжёлое, тёмное здание в квартале, построенном пленными после войны. За медицинским учреждением начинался завод, где делали самолёты. Днём и ночью на стендах испытывали двигатели, и мы жили в гулком небесном рёве.
Как было рождаться под этим голосом? Встретить его новой, слепой кожей, измерить его как половину зародышевого мира? Я молчу не оттого, что задумчив, а потому что мне не перекричать эти ваши прикованные к бетону ракеты, мне нечего добавить.
*
Не слишком ли?
Ведь я собирался писать научно, что значит спрятавшись в домике горькой страсти.
У вас же есть такая книга, да? В ней каждая страница посвящена специальному чувству, выражению. И для каждого чувства вы придумали значок. Получился алфавит, но вы не составляли на нём фразы, а просто знали.
Когда мне показалось, что предыдущая страница недостаточно припрятана, убрана, научна, литературна, рефлексивна, я подавил в себе письмо, что значит также подавил любовь к жизни. Но я ведь и намеревался писать о несуществовании! О неприемлемых состояниях, о пьянящем великом ничто — и о маленьких тенях, что могут отвлечь ещё на денёк хотя бы.
И я думал, что это будет что-то среднее между Вирджинией и Марселем, но теперь начинаю оправдываться, подобно А.А. Но что тут оправдывать?
Вот что: моё утверждение. Которое, кажется, не научное, не поэтическое, не психическое. Речь пойдёт о выживании.
*
Тогда ты показала мне своё письмо к другу. Ты в нём говорила, что все живущие, органические тела тайно завидуют неживым вещам, и каждый ягнёнок вожделеет обратиться в камень, угомониться.
Твой друг в ответ написал целую науку, и это самая умная и грустная из всех наук, что я знаю. В ней, конечно, предусмотрен некоторый минимальный оптимизм, но так себе.
А этой весной, он решил что всё не так безнадёжно, всё проще — и радость подвижного функционирования уравновешивает зависть к камням.
Он тогда жил в смешном городе у моря, у него были ясные и важные занятия, он ходил гулять в парк, ходил в кафе есть торт, ходил бегать вдоль моря под кедрами.
И когда я жаловался на свою удушающую тоску, то он советовал мне тоже начинать бегать и есть торт. Но как же твоя теория? — я возражал. Ты отвечал: забудь, пойдём со мной в горы.
А потом с тобой случились бюрократические неурядицы самого глупого вида, тебе пришлось уехать, ты перестал отвечать на мои письма, и ты даже не мой друг, а нашей общей подруги.
Он уехал вместе со своей целостностью и радостью и ясным равновесием сил, а мне осталась его грустная наука и так себе надежда.
*
За стеной скулит собака; она проснулась в пять утра от грома, жёлтые вспышки над спокойным морем, серой пустыней. Мне тоже страшно.
Раньше я жил на усмирённой земле и боялся только людей. Теперь я боюсь землетрясения, урагана, волн-людоедов, медведей, оползней. Я боюсь, что выйду из дома, а он рухнет вместе с моими последними вещами.
Смешно, правда? Медведи и ураганы. Дело не в них.
Эта собака скулит и без грозы. Я думал, когда остаётся одна. Что за ужас для животного — заключение в бетонной камере высоко над землёй, навечно, навсегда.
Потом стало ясно, что когда хозяйка рядом, собака всё равно плачет. Может, потому что знает, что та однажды уйдёт? Не сейчас, так вечером? Какая разница, когда начнётся вечное страдание, если оно вечно?
А перед этим я нёс из магазина покупки, я шёл вдоль пляжа, и волны бросили об камни морскую мину, принесённую штормом с войны, она взорвалась, жёлтая вспышка, как тогда, жёлтая вспышка и гром, будто лопнула земля — но я совсем не испугался, я подумал что-то вроде «наконец-то», и ты мне написала, что это сила эмпатии.
Но все остальные пляжные собаки испугались, стали прятаться под лавками и за пальмами — пока ураган не начал кидать лавки и пальмы. Есть собаки, которые пытаются спрятаться, а есть собаки, которые заранее скулят и воют. Я же говорил, наука выживания. Мы с тобой из вторых собак, и должны переучиться в первых, но я, на самом деле, не
*
Ты считаешь, что надо быть честным, и сказать это слово.
В один из последних дней я зашёл в торфяник, тот, что с овальным озером. Было удачное время, уже начала поспевать голубика и ещё не сошла морошка, я собирал ягоды, любовался низким янтарно-жемчужным небом и
Прошёл год, а я всё думаю об этой морошке и об этом небе, и текут слёзы. Хотя я уже видел так много другого и прекрасного, и другие земли и люди были добры ко мне, но я как будто неживой. Я был живой там, потому что был в неподвижной тьме. И это было прекрасно: самое тонкое и густое удовольствие.
А на тёплой и яркой земле невыносимо.
Для тебя моё пристрастие нелепо, и оно таково — если не думать о
*
Перед сном я посмотрел видео про одинокого солдата захватнической (столь от меня неотторжимой) армии. Он попал под заряд, сброшенный с маленького коптера. Он пытался встать, опираясь на оружие, но его ноги были как мягкие и гибкие. Тогда он лёг на мокрую глину, приставил ствол к стыку челюсти и шеи и выстрелил. Это видео меня успокоило. Я позавидовал ему. Не тому, кем он был и что делал, но тому, как всё завершилось. Плоское небо, разбитая неотрадная земля, помощи не будет. Сколько раз я пытался оказаться в этом месте.
Но год назад я завидовал другим и другому, совсем другому и совсем другим, я был схвачен ржавым острым пламенем.
Как странно, обладая такими жизненными целями, помнить, что через два часа рабочий созвон, а потом надо идти в клинику снимать швы, и ещё разобраться, почему не приняли документы, и
*
Неделю назад была популярна теория двойника, которого можно воспитать в тени, чтобы он занялся укрощением ничто — по нашу сторону это отношение нерешаемо.
А теперь оказалось, что тот двойник — это я, это я на другой стороне. И надежда в том, чтобы появился освещённый двойник, воспитанный буковой рощей; тот, что займётся людьми, и морем, и любопытством, а мы будем за ним немного подсматривать, успокоимся, будем ожидать плоского неба и пустой земли.
*
Но подожди, конечно, я понимаю, что это звучит как сладострастное нытьё перед лицом реальных человеческих страданий. Конечно, такое нельзя никому показывать. Я и не собираюсь — но знаешь, какая же это тлетворная роскошь, писать только для себя и тебя, не дневник, но слёзный трактат. Как двадцать лет назад. Полчаса письма утром и полчаса бега вечером: вот и мой день длиною в час.
И подожди, я ведь только начал. Мой научный план состоит в том, чтобы сперва показать соблазн ничто, а затем его уравновесить. Шутка в том, что демонстрация соблазна утопила меня в соблазне — но ведь иначе мы бы и не говорили про соблазн, верно? Я сделал девять шагов назад, чтобы сделать один шаг вперёд, но теперь не умею вернуться.
То есть, я знаю путь, знаю ответ, только ведь он не в моих руках. Придётся блуждать по лабиринту, пока не ударит молния, о которой ты так красиво и отчаянно говорил.
Как же надоела эта скулящая собака, если бы ты знал. А песня называется whatever I do it is wrong.
*
Мой друг в Выборге, когда ему было тоскливо, насильно вспоминал, что его любящее немое сердце разбито, и эта горячая боль выдавливала из дня пустое уныние. Он подъезжал на машине к пограничному пункту пропуска, смотрел на него 15 минут, и возвращался в свой разрушающийся дом в стиле северного романтического модерна. Ему становилось лучше.
*
Я уже начинал писать этот рассказ год назад. Чтобы упражнять сознательность и снижать риски — всё не сработало. Я бросил. Перед тобой другой рассказ.
В предыдущем я писал о возлюбленном острове.
В сердцевине моего острова было тёмное забродившее болото, по краям оно обрастало светлейшими балтийскими дюнами, а все лучшие уголки были заняты военными базами и милитаристскими тематическими парками. Так же и я — думал и писал тогда — так же и я, веду свою жизнь подобно тому, как полипы и моллюски устраивают свой упруго-мягкий мир поверх затонувшего ржавого якоря. Закрывая его целиком, делая внутренним. Но вкус железа на их нежных губках и отросточках всегда.
Сейчас уже не так. Знаешь, когда я читал твою книгу о вкусе любви, я представлял его горьким, но скорее больно-остро-горьким, как в перце чили. Теперь, если тебе угодно, моё распознавание утончилось. Эта горечь стала совсем не острой, она стала сухой и вяжущей, как сода или лекарство на вкус, как ядовитый пепел. Более неживая, если тебе угодно, горечь.
И я слежу мыслями, иду вслед за этим изменением вкуса, меня меньше стало волновать насилие, эта вспышка, вокруг которой затем откладывается психическое животное. То был железистый вкус.
Но есть что-то ещё. Что-то, что превращает отдельное дрожащее тело в крейсер на рейде и звено вертолётов над любимой ольхой.
Я бы узнал это «что-то ещё», если бы год назад дописал другой рассказ. Но это невозможно, если тебе угодно, не бывает такой руки, что могла бы довести такой рассказ до понимания.
Нельзя начинать с начала, нельзя начинать с любви, надо наблюдать за оттенком горечи.
*
Спасибо тебе за помощь. Она мне снова понадобится.
Самое тихое раннее утро. Ярко-серое небо, ярко-серое море, мелкий дождь и гром между ними. Паук-скакун на моём пустом окне.
Я охвачен тревогой, потому что у меня назначена встреча, но я не знаю с кем.
Я возбуждён страхом того, что мой мир снова сломается, и я даже не узнаю почему. Мне снова понадобится его помощь.
Две кошки очень осторожно пересекают ярко-серую парковку.
*
Тёпло-молочная летняя ночь, мы танцуем в крохотном дворике средневековой части города, мы молодые и мы коммунисты, мы счастливы. Я убеждён, что все проблемы можно решить, если пробраться в номер отеля к знаменитому итальянскому постмарксисту и заняться с ним дипломатическим сексом. Это изменит судьбу нашей страны, обратит вспять подъём феодального рентного капитализма: нам это тогда казалось главной проблемой, мы не верили тем, кто говорили, что это только начало, а потом будет хуже, а потом этих умников убили. Я как раз открывал выставку.
Все проблемы неизбежно решатся силой исторической материалистической диалектики, но
И ранним утром я ходил по пустым улицам абсурдной нефтяной столицы сияющий и счастливый, ведь — ничто.
Ах, как давно это было!
Я сегодня ночью не мог уснуть до тех пор, пока, неожиданно, со всей скелетной ясностью не почувствовал, что я — не ничто. Я — это моя бессонница. Я — проблема.
И ты не ничто. Ты тоже проблема. В том числе и моя.
*
У тебя в книге кони ищут водопою.
У тебя в книге волны это звери длиною в мили.
У тебя в книге звери это тоже деревья.
После этого мы спускались из леса. Так быстро упали на нас холодные облака, и всё очутилось в жемчужном тёмном растворе. Буки утратили свои листья и веточки, остались только чёрные стволы в сияющей дымке. Собаки утратили своё веселье и сделались медленными задумчивыми пятнами. Мы превратились в гудящие голоса, мы стали призрачными шмелями под крылом этой горы.
Солнце распалось на миллиард сухих пылинок, и когда солнце исчезло, мы ожили. Все самости проснулись, утратив видимые тела, стали живыми, утратив границы, став тяжёлыми, пробудились к общительности. Мы бы смогли выжить в этой жемчужной вспененной тени, если бы у нас был шанс остановить следующую волну, но вот она приближается, и на её гребне — прозрачное солнце.
*
Что за хорошенькая страничка. Посвятим её теории. Я почти забыл, что начинал писать эту апологию для развёрнутого изложения и поэтической защиты гипотезы о вспененном ничто. Оно было упомянуто в других местах, чуть здесь, чуть там, но нуждалось и в собственном, отдельном тексте.
Но вместо этого мы с тобой погрузились в пиршество стенаний и упрёков.
Пока не забыли, давай вернёмся к обсуждению. Ведь скоро всё забудется, мы забудем друг друга. И мне уже начинает казаться, что гипотеза неверна.
*
Когда ты уехал, сразу после, может, из самолёта на поле, ты прислал сообщение, — Прости, мне нужен экзоскелет из миллиона иголочек, направленных вовнутрь.
А когда я ничего не ответил, ты прислал мне ещё одно сообщение, в кавычках: kаждый атом тишины чреват роскошными плодами.
Спасибо, но я бы так не сказал. Я бы сказал, что каждый атом тишины чреват другим атомом тишины. Хотя, может, это и есть твои роскошные плоды.
*
— В июле уже не остаётся ни однёшенького целого листочка, все уже поедены червями и пятнами, мы уже падаем в зимнюю пустыню — лишь весной есть лишь одна-две недели, когда мы обмануты свежей умытой зеленью и думаем, что бывает рост и развитие, а не падение —
И пока ты это произносил, мне хотелось схватить тебя, трясти, целовать в губы, бросать в песок и навсегда забывать тебя.
Не
Но знаю ли я, что умно, а что нет? Был бы умный, взял бы с собой щепотку волшебных японских акарицидов.
А теперь каждый день смотрю на то крохотное мотыльковое растение, что мы собрали с тобой на горе трёх крестов, и что было такое милое, упитанное, хорошенькое. А теперь его съедают пылевидные жадные тела, и у меня нет той щепотки акарицидов, да и желания применять их нет. Я каждый день смотрю, как оно бледнеет, опадает нерасцветшими бутонами.
По утрам я купаю его холодной водой, чтобы замедлить пылевидный голод. Ты всегда говорила мне о пользе ледяной воды. И ведь ты придумала это сравнение с пылью.
Во сне я пересаживаю растения и нахожу, что все они убиты сухой гнилью. Я держу одно в руках и не могу отпустить.
Я не то чтобы не знаю, что такое ум. Я не понимаю, где здесь для него место.
*
Я смотрел вчера на мужчин в форме. Я наблюдал за тем, как хочу быть соблазнённым их властным насилием. Как хочу гордиться своей соблазнённостью. Что я могу этому противопоставить?
3 — Настоящее ничто, вспененное ничто, подкожное ничто
1 — Нежных и грустных мужчин
2 — Некое грустное внутрикостное вспененное ничто
Твой ответ на этот вопрос мне тоже понравился. Хореография забот, держащая на плаву взрослого уставшего человека, неостановимый тревожащий поток возвышенно-суетливых событий. Я бы так не смог.
Наутро вместо задуманной поездки в горный лес я спрятался под одеялом и расплакался, моё сердце бессмысленно колотилось. Потом я вышел побегать, и всё прошло, прямо как ты сказала.
*
Я читаю книгу, что ты написала.
(Какая безупречная фраза)
*
В твоей книге все были персонажи были невообразимы поначалу, у меня перехватывало дыхание после каждого параграфа. А затем все стали подзатрёпанные и блеклые, в их жизнях ничего не случилось, кроме того, что П. умер. Это вообще единственное, что случилось. Дети размером в галактику, а взрослые размером с сигаретную жопку, и ты зачем-то, со всем своим талантом, описала превращение из одного в другое.
Знаешь, нам от этого не стало легче.
Но зато я сходил в лес, я лежал, свернувшись клубком, между грабов на вершине горы, стало сумрачно и зябко, в подлеске на склоне начали колотить по листу жести, сперва я подумал, что это куница лает. Но вспомнил, вспомнил, как я мог забыть, это же голоса hyla, питомцев из моего детства. Такой родной и милый звук, и только я был способен засыпать под него в крохотной советской квартирке, а всех остальных это ночное хрипло-звонкое тявканье сводило с ума, и однажды родители сказали мне утром, что квакши сбежали из моего террариума, и теперь, вероятно, живут на улице, и им там даже лучше. И я поверил в эту оскорбительную чушь, несмотря на то, что я был научный ребёнок с публикациями в журналах про лягушек. Какая оскорбительная чушь.
Этот изумрудный лай на холодной горе вернул мне сердце, я трогал лёгкую кору буков и дрожал.
Я лёг спать на крутом южном склоне среди буков и рододендронов. После заката повсюду зажглись светлячки. Я плакал от красоты и ужаса. Я переживал, что они прожгут спальник и тёмную плёнку на дне глаз. Я стал понимать, зачем она нужна. Я сердился, что светлячки горят слишком ярко и не дают уснуть.
Но мой голос, этот текст, угасает, как твои персонажи. Что-то уже случилось, но я не помню.
*
Мои структурные божества покинули меня сегодня, их отвратило твоё присутствие, и я благодарен, и я так люблю эти пустые тропически влажные страницы.
Может, теперь, когда мы снова покинуты, получится:
— Ясновидящие животные знают, что для живущих нет ничего милее нежизни
— Структурные божества велят забыть нашу страсть, быть изворотливым; и, слушаясь их, мы впадаем в уныние
— Другие из них крадут нежизни и вместо них предлагают великое ничто; и слушаясь их, мы глупеем, наш ум становится сухим, а тело вворачивается внутрь себя
— Третьи из них одевают нежизнь огненной вуалью; и тогда мы хотим зла, хотим разрушать, как будто ещё осталось что разрушать
— Но мы и так не можем прикоснуться к этой блестящей чёрной плёнке внутри себя; которая делит позвоночных надвое, с какой стороны ни глянь; мы не можем разглядеть своё устройство и утихомириться
— Зато допустимо уловить милую пустоту внутри чужих чёрно-плёночных глаз; унюхать ту внутреннюю тьму, что делает их зрячими, как ты писала, что делает их смертными, как ты писал
— (Только из этой плёнки, как пузырьки, и всплывают новые животные)
— И тогда это мы снова и снова тянемся, обрывается, тянемся руками, губами, молчанием, страхом, как ты и говорил, но здесь нет усталости, ведь это единственное, что может помочь, но нет тут и мудрости, потому что вспененное нашим барахтаньем ничто под каждым лучом солнца осаждает свою пену в горький горизонт
Пока, увидимся завтра вечером.
*
Я никуда не поехал, я положил скатерти на окна, чтобы укрыть это небо и этот песок.
Я вспомнил, как ты сказал тогда, очень по-детски, что самое обидное — умереть. Как если бы все продолжают веселиться, а тебя отправили в кровать, и из тёмной комнаты слышно жизнь, идущую уже без тебя. Обидно!
Я так люблю слушать, как жизнь продолжается без меня. Странно, что мы не пара.
Когда ты уехал в первый раз, я сполна возвеличил оставленность, я написал в статусе they gonna be happy cool heroes we gonna miss them so much.
Неудивительно, что мы не пара: мы счастливы в своих запертых комнатках.
Здесь так влажно, что на полу квартиры вечером выпадает роса; что если поцеловать стену, наутро она порастёт чёрной плесенью; что выгорают рецепторы сладкого; что одежда не высыхает никогда.
Чтобы поддерживать уровень своей заброшенности, мне приходится мигрировать всё дальше и дальше, что ты наделал, зачем ты преследуешь меня и не даёшь остановиться.
*
Две недели назад ты сказал мне, что ничего не можешь делать, потому что жарко и душно, ты надеешься, что придёт прохлада и можно будет вернуться к работе.
Вчера ты написала мне, что холодно и идут дожди, и ты ничего не делаешь, потому что смотришь на дождь и слушаешь музыку. Ты ходишь по краю, тебя скоро выгонят с работы.
Я тоже перестал работать, я
Мы ходим по краю, помнишь, тот парень в баре сказал: контроль это иллюзия. Мне так понравились эти слова, хотя на самом деле я стараюсь всё организовать и предупредить. Но только потому, что знаю: тропинка по краю на самом деле ведёт вниз.
По твоей же теории любая тропинка ведёт вниз, других нет. Движение равно вниз. Но есть маленькие толчки, которые нас немного подкидывают, и потому спуск не такой быстрый. Давай я нарисую, вот так:
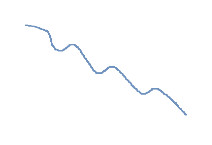
Что за толчки такие? Вот сейчас на террасу своего домика на ножках вышел пляжный спасатель в
А в городке неподалёку девушка бросилась доставать собаку из штормовых волн, и там не было спасателей, их не спасли.
Всё дело в этих красных костюмах. Я хочу увидеть, как они плавают в них. Надо ли для этого начать тонуть?
Знаешь, очень даже многие вещи можно контролировать. Но всегда найдётся одна неуправляемая, и она будет твоё определение, и она тебя утащит в шторм, она будет твой красный костюмчик — то, что удержит на краю, то, что вне контроля и не иллюзия. Чашка кофе, может быть, улыбка бармена, что-то такое.
Я, как и ты, жду дождь. Дождь всё не идёт, хотя каждый день в прогнозе.
*
Я в агонии, а ты мне рассказываешь, что любовь — это инвестиция собственного эго в другое эго, а эго это инвестиция либидо в метафору. Я тут же вспоминаю определение из другого источника: самость есть ликвидная метафора. Инвестиции, ликвидность. Умно! Всякая вещь определяется отношением к самой себе; и моё отношение — ты. Вот и вспенили ничто, до состояния плазмы. Я в агонии. У тебя есть подружка, и ты мне об этом сказал. Моя инвестиция ликвидной метафоры корчится на солнечной улице. Зато теперь я достойная всякая вещь, у меня есть отношение к самому себе — я дурак в агонии, приглашавший тебя на кофе.
*
В этом районе дети крестятся, прежде чем перейти дорогу. Я вызываю такси, чтобы попасть на другую сторону улицы.
Наша богиня поседела. Она скучает в тёмном углу пограничного пункта, где встречается белый свет жестокого солнца и милосердная холодная тьма, где вскипает сладкий взрыв.
В этом районе люди отворачиваются от моего лица, спички никогда не загораются. Давай представим, что это не вопрос выживания, а гипотеза.
*
А потом ты так нежно со мной поговорил, и всё изменилось.
*
Опять меня отвлекли, давай я просто из кипа перепишу заметку. Иначе это никогда не закончится.
Оправдание тени:
— Кто для радости беспечной, кто для ночи бесконечной
— гегемония первых, существование как решение всех проблем, антипсихичность нашей эпохи (та книга о собаке)
— тогда как психическое филогенетически и морфологически связано с ничто, тонкая плёнка в твоём исследовании, вставочный нейрон и торможение, сознание как разрыв связи (Б. и Б.)
— новое приходит из ничто и тишины, а не из сплетённости и явленности
— есть и альтернатива, великое ничто, аннигиляция. Когда гегемония присутствия запрещает нашу грусть и исчезновение, мы ищем спасение в едином ничто, каждая из нас отдельно и все мы вместе
— тенеделие восстанавливает достоинство, этику и красоту вспененного ничто как субстрата жизни, морскую пену, водоворот слёз.
(конец заметки)
Но на самом деле меня не интересует ничего, кроме любви, тьмы и холода.
*
Я никогда не изменюсь, я не хочу ничего другого. Но я хотя бы успокоился. Твоё утреннее признание успокоило меня. Ты говорил так нежно. Ты можешь подарить мне любовь, я могу вернуть тебе потерянную тьму. От таких обменов исчезают звёзды и просыпаются камни. А теперь я пойду пить кофе на балкон. Потом у меня рабочий созвон. Мы никогда с тобой больше не поговорим. Самая пугающая мысль — что я и правда смогу выжить, эта кость будет упрямиться и ползти, это сердце будет просыпаться по утрам.
*
Я хотел, чтобы ты пошёл со мной в горный лес. Ты большой и спокойный, с тобой моя тревога по поводу медведей и незнакомых людей утихла бы. Но ты не захотел, плохо спал ночью и лучше будешь валяться в саду и ничего не делать. Ну ладно, я пойду один.
Вернулся поздно и уставший, мечтая об ослеплённом сне. Но ты кричал и плакал всю ночь, вот почему ты плохо спишь. И ты не мог мне объяснить, почему ты кричишь и плачешь. Потому что яркая луна над горами и тебе беспокойно. Или холодные тени в долине, и тебе страшно. Или ты возбуждён и не можешь угомониться. Или тебе одиноко, хотя я рядом.
В тебе так много тяжёлой любви, что деревья в саду искривились, как от полувека каменных штормов. Эта любовь не ко мне, я её боюсь, я думаю, я не подхожу тебе, не могу тебе дать то, что нужно для этой кричащей похоти. Мне так жаль и мне так одиноко от этого.
Хорошо что ты со мной не пошёл.
