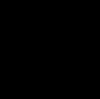Рубрика «Переплет»: Эрнст Юнгер / «Уход в лес»

«Язык не живет по собственным законам […].
Язык ткет свою ткань вокруг тишины […]»
Что может значить в современном мире тезис о том, что «[в]опросы подбираются к нам все ближе, они становятся все настойчивей, и все важнее становится способ, которым мы отвечаем» (с. 8)? Не нашел ли мир панацею от такого рода тревожной навязчивости в демистификации и оскудении языка? Именно такой вывод напрашивается, если принимать в расчет вселенский груз такого безличного вопрошания, которое подавляет человека, ищущего ни много, ни мало [само]реализации — не более чем соллипсистской самодостаточности, не менее чем отрицания всего внешнего, уже даже не в форме абстрактных символических построений, но уже самой матер[е]альности мира, а значит и языка как ее протеза. При таком положении вещей, с одной стороны, упразднение заряда, (якобы?) заключенного в означающем, сулит «субъекту ужаса» существование поистине [у]топическое (не это ли пик трансцендентальной карьеры идеалиста, некогда лишь тактично алкавшего подобной реальности?). С другой же стороны, субъекту, не сумевшему преодолеть вопрошание как способ существования — свое и безличное, подразумеваемый импульс к коммуникации, гостеприимно ассоциируемый с бытием как таковым во всей его матер[е]альности — остается лишь умолкнуть. Воистину, «молчание — это тоже ответ» (там же).
Молчание как ответ, однако, не отсылает к перформансу героини бергмановской Персоны — нервозному, невозможному, тщащемуся исчерпать в себе всю непомерную непримиримость с миром. Ибо если «все будет являться ответом и тем самым поводом к ответственности», молчание — Уход в Лес — будет являться не отказом, не капитуляцией, но военной хитростью в духе китайских стратагем, где высшей стратагемой является обман, способность одержать победу либо без боя, либо чужими руками. Такая победа в данном случае примет форму потери бдительности со стороны пресловутого Другого, давно ослепленного, если не ослепшего от суггестивной репрезентативности — девизов, манифестов, банальной агрессивности и прочей нарочитой и пошлой прямолинейности, в которой он (Другой) только и считывает слабость, а значит и обреченность в метафизической схватке между «униженными и оскорбленными» и Системой, машиной, властью и прочими ветряными мельницами (Левиафаном?) — наивными концептами, порожденными ничем иным, как общественным договором между первыми и последними. «Неизменным остается то, что именно спрашивающий устанавливает […] закон […]» (с. 18), ибо в поле дискурсивном, понятийном, он — абстрактный «спрашивающий» и не менее абстрактный «закон» совершенно синонимичны, взаимозаменяемы — обманчивым и трагичным образом оказывается первичным для человека, предстает в качестве первопричины не только субъекта, но и всего бытия.
В партизанской войне против Другого «[п]исьмо возвращается к иероглифическому шрифту. Тем самым знаки получают непосредственное существование, вместе с иероглифичностью и наглядностью они перестают быть толкованием, но сами становятся предметом истолкования» (с. 21). Знаки как непрестанно свершающееся толкование, становление в форме компульсивного истолковывания, агрессивной, циничной, «убивающей Вещь» дешифровки — знаки такой метафизической формации отсылают к лакановскому порочному кругу смыслообразования, где означающие не оказываются способными ни на что иное, кроме как на отсылку к другим, таким же безвольным означающим. «[С]танов[ясь] предметом истолкования» (там же), иероглифичность, конечно, не отдается во власть таких судей: она становится предметом истолкования лишь в той степени, в какой она ставит их в тупик, и лишь в той степени, в какой она рискует всем.
«Исторический процесс развивается так, что обе силы, как необходимость, так и свобода, влияют на него. История деградирует, когда одна из этих сил отсутствует» (с. 23). История, осмелимся оговориться, — детище человека, причем человека, презревающего время… и бытие. Хотя бы частичное примирение истории с оными, претендующее на установление равновесия перед лицом так называемой судьбы, иными словами, перед чем бы то ни было, имеет в виду такую форму отношений между человеком и тем, чье существование он отрицает за внеположностью миру непосредственного взаимодействия, которая возможна лишь при наличии определенной чуткости к телу и к пространству в смысле их не санкционированного гуманизмом взаимодействия. В данном контексте позиция наблюдателя, созерцание как акт (!) бытия в мире не имеет ничего общего с работой зрительно-понятийного аппарата, однако, если таковой и берет свое, главным вопросом является то, проделан ли путь от досимволического зрительного опыта к миру понятий, минуя корпореально-травматический опыт, который и начиняет означающие смыслом, либо же понятие самодостаточным образом замещает собой таковой. «То, какая из сил виднее, зависит не столько от ситуации, сколько от наблюдателя» (там же).
Наблюдателю в данном случае так же чужд пафос, как и мнимый размах действий, которым зачастую прикрывают предельную осторожность акционизм и прочие культурные текстуализации так называемого критического мышления. «К характерным чертам нашего времени относится сочетание значительности сцен с незначительностью исполнителей» (с. 28). Коллаборационизм с Другим разворачивается именно в той точке, где выверенность действий обнажает предельную чуткость к «желанию Другого» (Лакан). Не в пример указанной выше чуткости, априори идущей на риск, связанный с непредсказуемостью последствий, которые она до определенной степени отказывается принимать в расчет, такая инкарнация чуткости является поистине и в буквальном смысле звериной. Таким образом, либеральный капитализм как абстракция и он же в лице такого субъекта не жалеет усилий, чтобы вписать любой перформанс в спектр возможного, принимающего то форму современного искусства, то — до банальности — форму имеющего право на существование мнения.
Зловещим, неожиданным образом именно в фигуре наблюдателя или Ушедшего в Лес «необходимость» и «свобода» творят историю, поскольку «[п]онятно, что человеку […] желаннее нести самое тяжкое бремя, чем быть причисленным к «иным»» (с. 33): вопреки романтическим выкладкам свобода, чреватая усилием тела, а не праздной фантазии, свобода, взимающая определенную цену и зиждущаяся на принесении в жертву привычного течения вещей, являет себя не иначе как необходимость, тупик, выход из которого отнюдь не является обязательным условием жизни и личностного/социального функционирования: «[У] попавшего в окружение человека остаются только две заботы: исполнять должное и не отклоняться от нормы» (там же). Ушедшим же в Лес, опознавшим в хрупкости нормы хрупкость себя как ее носителя, нашедшим выход в неизбежности риска, является тот, «кто в ходе великих перемен оказался одиноким и бесприютным и в конечном счете увидел себя преданным уничтожению» (с. 36). Это уже иная форма фатализма, не та, которую так легко спутать и которую и склонны путать с беспомощностью.
Подчеркнуто ссылаясь на «три великие силы» — искусства, философии и теологии — могущие помочь обрести себя скорей не за пределами себя, но на периферии себя как претворения в жизнь продукта культуры, лишь походя упоминается не «гештальтизированная», но от этого не менее значимая фигура (ср. фигуры Рабочего и Неизвестного Солдата как «дв[а] великих гештальта нашего времени» [с. 35]) — фигура Проводника или Учителя. Учитель есть «некто мыслящий, некто знающий, некто любящий» (с. 44), формулировка, искушающая рассматривать в ее контексте знание как пересечение плоскостей мысли и любви, пересечение немыслимое и нелюбимое для западной культуры. Дихотомизированность этих двух срезов субъективности, завещанная Западу Платоном, неизбежно склоняет чашу ассоциативных весов либо в сторону любви к мышлению, либо к способности/склонности к тому, чтобы мыслить, концептуализировать любовь, истощая таким образом аспект знания в его онтологической, телесной, животной и не исчерпываемой никакими критериями оценки сокровенности. Учитель же, воплощающий в себе несводимость понятий мысли, знания и любви к обоюдному ассоциативно-нормативному порабощению, воплощающий их полную самодостаточность, благодаря которой их альянс и может порождать новые ипостаси, подобные ипостаси Учителя, обогащая, а не изничтожая друг друга, — Учитель в этом смысле является носителем мифа, если не вообще мифической фигурой, в той степени, в какой миф «есть вневременная реальность, возвращающаяся в истории» (с. 47), ибо «[к] мифическому нельзя вернуться, с ним встречаются снова, когда время поколебалось в своей основе, в области наивысшей опасности» (с. 52).
В современном мире невозможность обрести Учителя или по-настоящему услышать его слова, если таковой встречается на пути, свидетельствует о глубокой атрофии вопрошания, порождаемой не в последнюю очередь духом общности во всей его перформативной избыточности, которая трагическим образом пронизывает не только публичное пространство, но и пространство интимное, включая и внутренний мир, невидимый стороннему взору. «[П]ризнаком ситуации вопрошания является одиночество. […] [П]одлинное лицо коллективного — его бесчеловечность» (с. 74).
В одиночестве человек оказывается вынужденным прислушаться к собственному телу, которое широким и сложным спектром своих состояний подрывает монополию естествознания на то (вторичное) место, которое телу надлежит занимать в пространстве мироощущения. Бюрократизация социального устройства в первую очередь связана с делегированием полномочий, связанных с функционированием тела, безличному социальному началу («лечение под наблюдением бюрократии» [с. 87]), в котором непредсказуемость такого процесса и вся неизбежно вытекающая из него палитра архаических реакций (паника, суеверие), как бы эффективно они ни ‘модернизировались’, будучи вписанными в психиатрический глоссарий, ‘гасится’ постоянно меняющимся взглядом науки на человека, взглядом, давно ставшим трансцендентальной функцией, взглядом бога, а посему утратившим всякую связь с бренным миром, на котором парадоксальным образом — порождая иллюзию божественного знания, вписанного в язык, — он только и концентрирует свое внимание. За бортом же остается знание, основанное на связи времен в том смысле, в котором она воплощается в человеке вопреки попыткам ее осмыслить. «В состоянии полного здоровья, ставшего сейчас редкостью, человек […] обладает знанием, той высшей формы, аура которой его зримо окружает» (с. 86). Такое знание ставит вопрос о том, что является рациональным в онтологическом плане. В основе пресловутого ресентимента лежит скудость внутренних — ‘душевных’ и телесных — средств современного человека, постоянное ощущение их недостаточности, частным образом проявляющееся в неспособности смириться с тем, что в отличие от человека безмолвное животное (каждое в контексте естественной для себя среды) — безмолвности этой хватает как философам, так и активистам, чтобы отбрасывать всякую мысль о том, что коммуникация с ним течет по внесимволическим каналам и подвластна совершенно иной логике — что животное владеет всеми необходимыми инструментами, необходимыми для эффективного и гармоничного взаимодействия с физической реальностью, инструментами, которые карикатурным, лабораторным путем ‘выводят’ соответствующие науки (ныне это касается и гуманитарных/социальных наук). Результат, приправленный энтропийной примитивизацией, «отшлифовывающей» любой затяжной повторяющийся процесс, не может не ужасать: воля к знанию, зиждущаяся на отречении от матер[е]ального мира, приводит к такому отдалению от условного объекта познания, что от познания остается лишь агрессивное желание этот объект изничтожить, сослать в поле невозможного и непостижимого. «[В]сякий рационализм приводит к механизму, а всякий механизм приводит к истязанию как к своему логическому следствию» (с. 103).
Уход в Лес как реакция на такое ‘состояние культуры’ чреват частичным или полным порыванием с корнями в смысле укорененности в ‘конкретной’ культуре, если о таковой вообще еще можно говорить. Клеем, способным удержать человека в мире, в таком случае будет являться сама экзистенция и заново вызревающий из нее праксис. Речь, разумеется, не идет о праздной мечтательности, которой, по мнению многих ‘пишущих’ буржуа, достаточно, для того чтобы изобрести мир заново. Пороговым событием, с которым мы ныне и сталкиваемся, является исчерпанность языка в том, что касается начинявших его дотоле смыслов, и его готовность, которую способны ощутить лишь те, кто еще не успел отказаться от языка как метафизической функции вообще, к тому, чтобы забеременеть новыми плодами. Готовность эта не подразумевает активность, которой глупо ожидать от ‘пустого знака’. Однако покуда треснувший сосуд не развалился, его можно склеить и использовать по желаемому назначению. Желание же это может проснуться лишь в тех, кто оказывается способным ужаснуться от необратимости распада, от девальвации и оскудения языка, являющихся в данном отношении главным, пренебрегаемым многими ‘критиками эпохи’, рупором данного распада: «[в]стреча с […] бытием должна происходить в самой темной бездне» (с. 115). Если и можно говорить о некоем героизме, то лишь в том смысле, в каком он проявляется в преодолении ужаса. Последний естественен, вопрос лишь в том, какой внутренний процесс в каждом конкретном человеке он задействует: «[п]аника [как] выражение […] изнуренного духа, пассивного нигилизма, бросающего вызов нигилизму активному» (с. 115), вполне может стать катализатором Ухода в Лес.