Умножение на ноль (о фильме «Теорема Зеро» Терри Гиллиама)
Вышедший в 2013 году фильм «Теорема Зеро» Терри Гиллиама — не стал лучшим в его карьере. Скорее напротив, получил в целом заслуженную критику за сумбурность и самоповторы. И
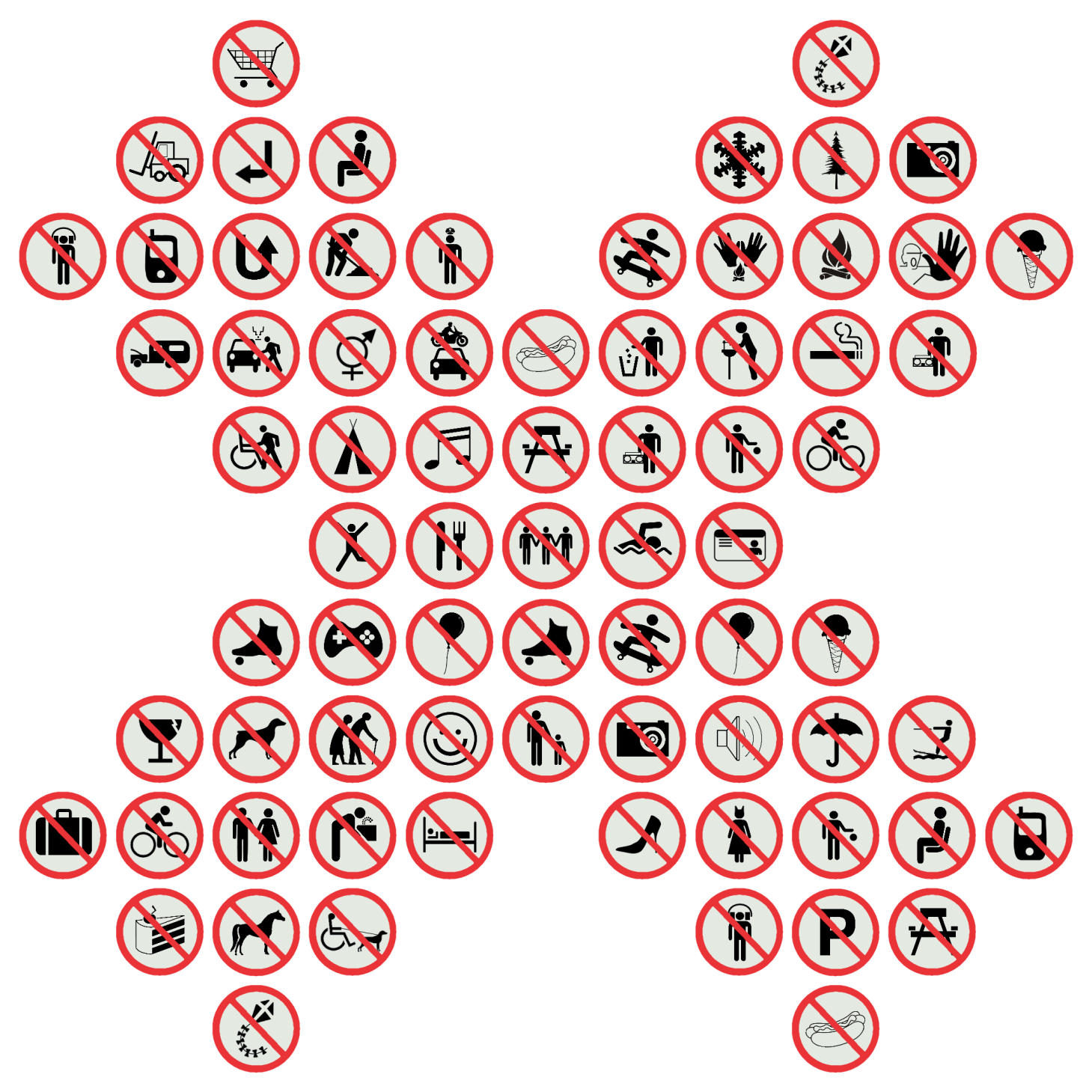
Фильм действительно стоит критиковать, так как удалось в нем далеко не все. Возможно, это следствие того, что фильмы Гиллиама приходится ждать очень долго, и с каждым разом разница между полученным и ожидаемым только растет. Но, несмотря на претензии к «Теореме Зеро», идейно-образная часть новой утопии Гиллиама как всегда интересна. Правда до
Он, похоже, давно уже осознал авторский удел — это было заметно по грустной самоиронии в «Воображариуме» (особенно метафора, уподобляющая режиссера нищим актерам, пытающимся развлекать зрителей с помощью хлама и кучи гнилых яблок). Поэтому и «Теорема Зеро», созданная в неестественном для режиссера ритме (он работает долго) и за сущие гроши (благодаря съемкам в Румынии) кажется чересчур компромиссной. Даже несмотря на отказ от
Конечно, режиссер может позволить себе банальные высказывания об одиночестве, смысле жизни и мире вокруг нас. Иронию и сарказм от него мы уже видели, вопросы и попытки разбудить воображение — тоже. Почему бы не обратиться к драме? Увы, в фильме нет ни действия, ни его разрешения, поэтому и последний момент Коэна наполнен не «достоинством и поэзией» (как считает автор), а скорее похож на пустословие рекламного ролика. А сама кинолента чем-то напоминает излишне перегруженное изъятиями, недомолвками и флешбэками повествование, склеенное из простой истории с началом, серединой и концом. Вдвойне странно и то, что фильм, лишенный экшена и переполненный диалогами, оставляет совершенно неудовлетворенным в плане сказанного. В нем есть точные и достойные размышления фразы, но их ужасно мало. Словно какая-то неведомая антиметафизическая цензура вырезала все слишком сложные для современных голов сентенции и обобщения.

Так что вместо смыслопорождающих парадоксов в финале вы будете довольствоваться лишь избитым образом Черной дыры. В фильме есть и атмосфера утопии, и продуманный быт, и типично гиллиамовские юмор и аллюзии, но в нем нет истории. И даже изображение внутреннего мира Коэна оказалось каким-то скомканным. Актер Кристоф Вальц — мне очень нравится, он хорошо держит на себе кадр, но
Если кратко резюмировать общее впечатление, то это фильм для головы. Все остальное если и хоть как-то задевает, то случайно, по касательной. Гиллиам снова снял фильм о воображении, но теперь оно призвано латать прорехи в основном повествовании. Претензий к нему можно сочинить еще немало, но лучше обратиться к самим темам и идеям, которые скрываются под этой самой теоремой Зеро.

События фильма происходят в недалеком будущем, которое даже по кратким эпизодам легко реконструируется. На загаженных улицах с шизофренической пестротой царит навязчивая реклама (например, рекламируется церковь Бэтмена Освободителя), а модель отношений между людьми хорошо иллюстрирует вечеринка, где каждый слушает музыку на собственном гаджете. Лучше всего суть такой общественной системы выразил Чак Паланик, когда говорил: «Большой Брат не следит за тобой. Большой Брат танцует и поет. Достает кроликов из волшебной шляпы. Все время, пока ты не спишь, Большой Брат развлекает тебя, отвлекая внимание… Он делает все, чтобы тебя занять. Он делает все, чтоб твое воображение чахло и отмирало… Когда столько всего происходит вокруг, тебе уже не хочется думать самостоятельно. Ты уже не представляешь угрозы. Когда воображение атрофируется у всех, никому не захочется переделывать мир».
Это будущее, в котором люди поглощены развлечениями, в т.ч. виртуальным получением самого разного опыта. В фирме, создающей в пробирках такой опыт, работает главный герой — Коэн Лет. Любопытно, что взгляд на такое будущее (на деле, считай, настоящее западных стран) у Гиллиама — совсем не старперский. Тенденция Системы к упрощению и бегству от проблем, конечно, вызывает у него опасения, но
Многие сразу же стали сравнивать «Теорему Зеро» с другими его утопиями — «Бразилией» и «12 обезьян», однако сам автор отмел преемственность. Их и в самом деле сложно сравнивать. «Бразилия» по большей части вдохновлялась проницательным, но все же во много устаревшим романом Оруэлла «1984», в то время как «Теорема Зеро» — реакция на современность корпораций, медиа и соцсетей. В отличие от других футуристических историй Гиллиама, в этой нет ничего, кроме бедного несчастного индивида в застенках своей экзистенции. Поэтому декорации мало что меняют. В некотором смысле герой Вальца — это средний современный человек, захваченный гаджетами и виртуальностью. Одинокий невротик — слишком старый, чтобы следовать за новыми веяниями мира, слишком молодой, чтобы умереть.
В завязке сюжета мы обнаруживаем две ярких метафоры. Первая — это звонок, который ждет главный герой, убежденный, что голос на том конце сообщит ему смысл жизни. Вторая — это теорема Зеро, за доказательство которой он берется.
Сама по себе теорема Зеро — это недоказанная гипотеза, согласно которой если учесть все данные, то можно обнаружить, что все в мире логично придет к небытию (нулю). Поэтому она и звучит: «ноль равен ста процентам», т.е. ничто не имеет смысла, т.к. по сути всего лишь случайная флуктуация от Ничто. Иными словами, мир в конечном счете может быть упрощен до схемы, в которой каждому «да» соответствует свое «нет», а каждый «плюс» в итоге будет аннигилирован «минусом».
Впрочем, для Гиллиама «зеровина» — не столько проблема буддистскоподобной онтологии, сколько метафора жизни в перспективе смерти. Каждый из нас в той или иной степени доказывает своей жизнью эту теорему, однажды уходя в небытие. И в общем это как раз тот случай, когда неудача боле почетна, чем успех в ее доказательстве. Даже визуально процесс доказательства теоремы в фильме выглядит как попытка найти место каждому фрагменту структуры так, чтобы не разрушить другие крупные соединения. Найти или создать смысл чего-либо — это как раз и означает раскладывание всего по полчкам в ситуации когда сами полочки не даны заранее. Хотя
Тема ценности воображения и смыслопорождения противостоящих позиции скептика и реалиста была ключевой в бесконечных пари Парнаса и Дьявола в «Воображариуме». Здесь же больше нет Игры, теперь это теорема, которая должна быть доказана. Точнее, одной из сторон неявного конфликта очень хочется, чтобы она была доказана. В «Теореме Зеро» эту сторону представляет глава «Mancom» — бизнесмен, прагматик, человек без души, лица и имени (его зовут «Начальство»), мимикрирующий под окружающую среду и тусующийся инкогнито.
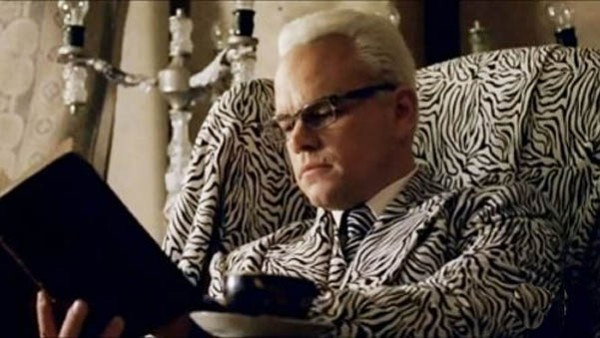
Противоположная сторона — это сам Коэн Лет, который искренне отторгает конечный смысл теоремы. Проблема только в том, что Гиллиаму не удается что-либо противопоставить формуле, утверждающей, что все в мире бессмысленно. Коэн — не мечтатель Сэм Лаури и не уставший, но еще кое на что годный Парнас, это изначально человек, не способный бороться за свои мечты. Даже его бегство в виртуальных мир своих сексуальных фантазий едва ли можно назвать успешным.
Не стану отрицать, в итоге у Терри Гиллиама и Пэта Рашина получился точный образ. Человек, надеющийся получить смысл своей жизни, не только лишает свою жизнь смысла (избегая жизни в омертвляющем тревожном ожидании), но и вынужден ради возможности получения смысла (работа на дому ради ожидания звонка) доказывать, что все в мире бессмысленно (теорема Зеро). Его ужасает сама идея, лежащая в основе теоремы, и одновременно с этим он самый страстный фанат мысли, что все можно упорядочить и свести к понятной логике. Та страсть, с которой он пытается довести решение теоремы до 100% — это не доблесть исполнителя, не раж исследователя, это в чистом виде невротическая потребность все упорядочить, привести к гарантиям и регулярностям.
Пожалуй, именно настолько противоречиво запутанным и подразумевающим взаимоисключающую мотивацию я ощущаю человеческое существование. Но это целиком и полностью картинка «для ума», эмоции она практически не задевает. И даже удивительно, что такой мастер визуализации как Гиллиам откровенно запорол задачу показать эту сложность во всей ее возвышенной красоте.

Собственно эта формула с одной стороны оказывается недоказуемой, с другой — чудовищно страшащей самой возможностью доказательства. Герой не может ни бороться с ней, ни отказаться от ее доказывания, ни даже рискнуть изменить свою жизнь (когда девушка предлагает ему уехать с ней). Удивительно, что сотни абсолютно идентичных парадоксов в собственной жизни мы привычно не замечаем. И эта слепота, на мой взгляд, объясняется не устройством мира («природа скрывает себя»), а устройством субъекта.
Что такое ноль? Это ведь не только метафора ничто как некой бездонной черной дыры, способной поглотить все, это еще и метафора человека как некого пустого места. Никчемный человек — ноль без палочки, значит, обычный человек — просто ноль. И в самом деле, на уровне здравого смысла ноль — это то место, которое остается там, где из 5 яблок вычли все 5. И в данном разрезе «ноль равен 100%» звучит еще и как отсылка к неизбывной жажде человека быть всем, наполнить себя, вместить в себя весь мир. Но даже это не может изменить того, что субъект — это ноль, не полное ничто, а скорее нечто на месте ничто (представитель/обозначение ничто). Собственно это, на мой взгляд, и есть самая важная тема в понимании себя: научиться воспринимать себя не только через позитивный наполнитель и не через анонимное ничто, а как раз через промежуточное нечто, маркирующее ничто. Такая метафорическая связка показывает, что единственное, что имеет хоть какой-то смысл — это само заполнение субъекта, т.е. смыслопорождение, создание внутреннего аналога мироздания в самом себе.

В несколько пессимистической картине мира этого фильма, однако, есть один изъян: она строится на абсолютной вере в симметрию. Эта вера очень часто оборачивается мифологией противоположностей — будь то в реальности (материя и антиматерия), в языке (символы точно отражают реальность) или в отношениях (дружба и любовь — это всегда связь взаимная и необходимая для обоих). Как ни странно, ни одна из этих идей не подтверждается даже на самом материале фильма. Что уж говорить о нашем бренном и сложном мире?
Особенно любопытно и то, что даже в понятийной системе, где казалось бы и должна быть абсолютно симметричная зеркальная схема из понятий и противоположных им понятий, не всегда удается найти соответствия. Даже логическая структура мало похожа на стройное логическое Древо Порфирия, а уж логика языка тем более изобилует не существующими антитезами (все эти «несуразица», «ненастье», «несметный», «бестолочь», «как собак нерезаных» и проч.). Так что не совпадающий сам с собой мир — это, пожалуй, то немногое, что можно расценивать как шанс на пусть и критический, но оптимизм.
Смерть Вселенной, бесконечность или цикличность бытия, конечность человеческого существа — все на разный лад обессмысливает то, что сделано или может быть сделано человеком. Однако мы что-то делаем… и отнюдь не только по велению среды и инстинктов. И в этом нет какой-то чересчур глобальной проблемы, вроде деления на ноль, которого так боится хрупкий мир идеализаций математики.
Осмысленность (или возможность осмысленности) чего-либо в жизни мне видится на манер не деления, а умножения. Любой математик знает, что всякое число при умножении на ноль дает ноль, но однако никто не считает эту операцию бессмысленной. Это действие очень часто ведет к решению каких-то задач, и именно поэтому я делаю выбор в пользу того, чтобы делать. Столь краткосрочным существам как человек, онтологически более соразмерно то, что смысл часто появляется после действия (и благодаря им), а не только заранее. Причем, думать, чувствовать и пользоваться воображением — тоже могут быть действием, если их делаете вы, а не анонимный ноль, живущий в каждом из нас. Так что пустота, которую люди порой отчетливо чувствуют, сидя в интернете, — это хороший повод задуматься о перспективах умножения на ноль.
