Морис Бланшо. Чтение Кафки
[Фрагмент книги Мориса Бланшо «От Кафки к Кафке», пер.с франц. Д. Кротова, М.: «Логос», 1998]
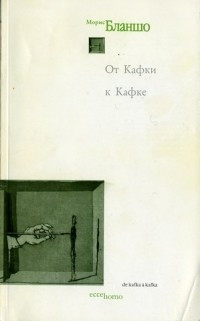
Возможно, Кафка хотел уничтожить все написанное им потому, что оно казалось ему обреченным приумножать вселенское непонимание. Когда мы замечаем, сколь беспорядочно нас знакомят с его произведениями, позволяя узнать одно, скрывая другое, бросая лишь частичный свет на тот или иной фрагмент, разбивая тексты, которые и так не завершены, размельчая их еще больше, превращая их в пыль, как если бы дело касалось реликвий, чье достоинство ничем неумолимо; когда мы видим, как эти произведения, по преимуществу молчаливые, наводняются болтовней комментариев, как эти книги, непригодные для печати, становятся материалом для бесконечных публикаций, как эти вневременные творения превращаются в толкование истории, — мы спрашиваем себя: предвидел ли Кафка подобный провал в подобном триумфе? Возможно, ему хотелось исчезнуть — незаметно, как тайне, стремящейся ускользнуть от взгляда. Но сама эта незаметность превратила его в общественное достояние, а тайна принесла ему славу. Теперь его загадка везде выставлена напоказ, она стала дневным светом, своей собственной сценической постановкой. Что делать?
Кафка хотел быть только писателем, это показывает нам его «Дневники»* , но они же заставляют нас, в конечном итоге, видеть в Кафке более чем писателя, давая преимущество ему как живущему над ним как пишущим, и впредь живущего мы и ищем в его произведениях. Эти произведения представляют собой как бы разрозненные фрагменты существования, которое они помогают нам понять, как бесценные свидетельства об исключительной судьбе, обреченной без них оставаться невидимой. Возможно, странность таких книг, как Процесс или Замок, заключается в том, что они постоянно отсылают к некой внелитературной истине, но как только последняя пытается увлечь нас вовне литературы, мы начинаем изменять и самой этой истине, хотя они вовсе не одно и то же.
Этого тяготения не избежать. Все комментаторы уговаривают нас видеть в его рассказах всего лишь рассказы: события означают лишь то, что они означают, землемер — это лишь землемер. Не подменяйте «развитие событий, которое собственно и нужно понимать как повествование, диалектическими конструкциями» (Клавдия-Эдмонда Маньи). Но несколькими страницами ниже читаем: «В произведениях Кафки можно найти теорию ответственности, взгляды на причинность, наконец, интерпретацию человеческого предназначения в целом, и все эти аспекты оказываются достаточно связными и достаточно независимыми от их романной формы, чтобы выдержать перевод на язык чисто интеллектуальных терминов.» Такая противоречивость может показаться странной. И действительно, зачастую эти тексты переводились безапелляционно, с явным пренебрежением к их художественному значению. Но верно и то, что Кафка сам подал тому пример, комментируя иногда свои новеллы и пытаясь прояснить их смысл. Разница только в том, что, поясняя лишь истоки—не значения — некоторых особенностей, Кафка не выводит текст в то измерение, которое позволило бы нам лучше ухватить его: комментирующая речь Кафки сливается с вымыслом и никак не выделяется на его фоне.
«Дневник» полон замечаний, которые кажутся соотнесенными с неким теоретическим смыслом, легко доступным узнаванию. Но его мысли остаются чуждыми обобщениям, у которых они заимствуют форму: облеченные в эту форму, они оказываются точно в изгнании, вновь впадая в двусмысленность, не позволяющую понимать их ни как выражение единичного события, ни как толкование всеобщей истины. Мысль Кафки не имеет дела с общепринятыми правилами, но еще в меньшей степени ее можно назвать простым следом конкретного события его жизни. Она плывет, ускользая, между двумя этими потоками. Едва превратившись в изложение событий, происшедших в действительности (как это имеет место в одном из дневников), она тотчас незаметно переходит к поиску смысла этих событий и хочет проследить их приближение. Тогда-то рассказ и начинает сливаться с собственным. объяснением, но объяснение это не объясняет, оно не исчерпывает то, что должно быть объяснено, и в еще меньшей степени ему удается приподняться над ним. Получается как бы, что под действием собственного веса оно втягивается в ту частность, чей закрытый характер призвано было подорвать: смысл, вводимый им, витает вокруг да около фактов, становится пояснительным только выделяясь на их фоне, но в действительности поясняет только будучи неотделимым от них. Нескончаемые изгибы размышления, возобновляющегося каждый раз из образа, надломившего его ход, кропотливость рассуждений по самому ничтожному поводу составляют строй мысли, играющей в обобщения, но рождающейся как мысль только в переплетении с миром, сведенным к единичному.
Госпожа Маньи замечает, что Кафка никогда не пишет банальностей, и не
Его произведения представляют собой потрясающие примеры аллегории, символа, мистической выдумки, что неминуемо в силу характера его мысли. Последняя колеблется в нерешительности между двумя полюсами одиночества и закона, молчания и обыденной речи. Но она не в силах выбрать из них что-нибудь одно, а нерешительность оказывается также попыткой покончить с нерешительностью. Его мысль не находит укрытия в обобщениях, но несмотря на то, что время от времени она сетует на свою ненормальность и на свое заточение, она не совершенно одинока, ибо говорит об этом одиночестве; она не бессмыслица, так как в бессмыслице заключен ее смысл; она не вне закона, так как изгнание, с которым она примиряется в конечном итоге, и есть ее закон. Об абсурде, который мы хотели сделать критерием этой мысли, можно сказать то же самое, что Кафка говорит о народе мокриц: «Попробуй только заставить мокрицу понять тебя, и, если тебе удастся спросить ее о цели ее труда, ты разом уничтожишь весь народ мокриц». Как только мысль встречает абсурд, это означает конец абсурда.
Таким образом, все тексты Кафки обречены рассказывать о единичном и лишь казаться выражающими общепринятое. Само повествование — это мысль, ставшая последовательностью неоправданных и недоступных пониманию событий, а смысл, который наведывается в повествование, — это та же мысль, но преследующая себя через непонятное под видом общего смысла, который его опрокидывает. Тот, кто придерживается повествования, погружается, не отдавая себе отчета, в нечто темное, а тот, кто придерживается смысла, не может достичь тьмы, в отношении которой смысл оказывается разоблачительным светом. Два читателя никак не могут воссоединиться, мы становимся то одним, то другим, мы понимаем то слишком много, то слишком мало из того, что требуется понять. Настоящее прочтение остается невозможным.
Так что читающий Кафку неизбежно превращается в лжеца — но не полностью. Отсюда и беспокойство, присущее этому искусству, без сомнения более глубокому, нежели простая обеспокоенность нашей судьбой, чьим выражением оно зачастую представляется. Мы проделываем непосредственный опыт с ложью, считая, что можем ее избежать, борясь с нею (выдвигая противоречивые интерпретации), но это усилие — обман, на который мы идем в силу предательской лености. Коварство, хитрость, чистосердечие, лояльность, небрежение также являются носителями заблуждения, заключенного в истинности слов, в их особой власти, в их силе, в их интересе, в их уверенности, в их способности нас бросать, подхватывать вновь, увлекать за собой с несокрушимой верой в их смысл, который не позволяет ни чтобы его упускали, ни чтобы ему следовали.
Как показать нам этот мир, ускользающий от нас не потому, что он неуловим, но оттого, что в нем, наверное, слишком много нужно уловить. Мнения комментаторов не слишком расходятся. Они употребляют приблизительно одни и те же слова: абсурд, совпадение, стремление найти себе место в мире, неспособность в нем удержаться, желание Бога, отсутствие Бога, отчаяние, беспокойство. И все же, о ком они говорят? Для одних — это религиозный мыслитель, верящий в абсолют, даже возлагающий на него надежды, во всяком случае, без конца борющийся, чтобы его достичь. Для других — это гуманист, который живет в мире, не имея прибежища, и, чтобы не приумножать в нем беспорядка, остается по возможности неподвижным. Макс Брод считает, что Кафка нашел множество путей к Богу. Госпожа Маньи думает, что Кафка видел свою главную поддержку в атеизме. Другие говорят о неком потустороннем мире, который, правда, недостижим, возможно -плох, возможно — абсурден. Для третьих, нет ни потустороннего мира, ни стремления к нему: мы пребываем в имманентном, и важно лишь постоянно присутствующее ощущение нашей конечности и неразрешимость той загадки, к которой оно нас приравнивает. Жан Старобинский: «Человек, пораженный странным недугом, — таким нам кажется Кафка… Человек, наблюдающий собственное истребление». И Пьер Клоссовский: «Дневник Кафки — это дневник больного, жаждущего исцеления. Он хочет здоровья… Значит он верит в здоровье». И далее: «Мы ни в коем случае не можем говорить о нем так, как если бы его не посещало видение конца». И вновь Старобинский: «…последнего слова не существует и не может быть».
Эти тексты отражают болезнь чтения, пытающегося сохранить и загадку, и ее разрешение; непонимание и выражение этого непонимания, возможность чтения при невозможности интерпретации прочитанного. Даже двойственность не удовлетворяет нас, — двойственность это уловка, схватывающая истину в состоянии скольжения, перехода, хотя возможно, что истина, уготованная этим произведениям, проста и единична. Кафка едва ли станет нам понятнее, если каждому утверждению мы противопоставим другое, враждебное утверждение, или станем уточнять до бесконечности каждую тему другими темами, по-иному ориентированными. Противоречие вовсе не главенствует в этом мире, исключающем веру, но не поиск веры, надежду, но не упование на надежду, истину здешнего мира и мира дольнего, но не призыв к некой конечной истине. Конечно же, пытаться объяснить эти произведения, ссылаясь на религиозные и исторические обстоятельства жизни того, кто их создал, делая из него нечто вроде Макса Брода высшего разряда, было бы слабой уловкой, но верно также, что, хотя эти мифы и выдумки не имеют никакой связи с прошлым, их смысл отсылает нас к частностям, высвеченным этим прошлым, к проблемам, которые, конечно, можно было бы сформулировать иначе, не будь они изначально теологическими, религиозными, проникнутыми духом растерзанного, несчастного сознания. Поэтому можно в равной мере испытывать неудовлетворение от всех предлагаемых истолкований, но при этом нельзя сказать, что все они друг друга стоят, что все они либо одинаково истинны, либо одинаково ложны, что все они далеки от своего объекта или правдивы лишь в своем расхождении.
Основные вещи Кафки отрывочны, но и все его творчество в совокупности — тоже лишь отрывок. Этот недостаток мог бы объяснить неуверенность, которая, не влияя на направление, делает неустойчивыми и форму, и содержание их чтения. Но недостаток этот не случаен. Он составляет часть самого смысла, искажая его; он совпадает с отображением некоего отсутствия, которое не принимается и не отвергается. Страницы, читаемые нами, наделены совершенной полнотой, они заявляют о произведении, для которого ничто не может быть изъяном, и, кроме того, все произведение кажется заданным в этих скрупулезных описаниях, которые внезапно прерываются, как будто больше нечего было сказать. В них есть все, и даже этот недостаток, как часть их самих, — это не упущение, а, скорее, знак невозможности, присутствующей во всем, но никогда не принимаемой в расчет — невозможности общественного существования, невозможности одиночества, невозможности положиться на эти невозможности.
Наши усилия прочтения становятся мучительными не
Каждое творение Кафки ищет некое утверждение, стремясь обрести его через отрицание, — утверждение, которое, едва наметившись, разоблачает себя, представляется лживым, исключает, таким образом, из себя утверждение и тем самым вновь делает его возможным. Поэтому-то. и кажется столь неуместным говорить о таком мире, что ему не хватает трансцендентного. Трансцендентность — это как раз и есть такое утверждение, которое утверждается лишь через отрицание. Будучи отрицаемым, оно существует, будучи отсутствующим — присутствует. Умерший Бог получил в этих творениях довольно впечатляющий реванш, ибо со смертью он не лишается ни мощи, ни бесконечной власти, ни непогрешимости; мертвый он еще более ужасен, еще более неуязвим в битве, в которой уже нет надежды победить его. Мы пребываем в состоянии борьбы с умершей трансцендентностью, и бюрократ из Китайской стены представляет собой мертвого императора, а в Исправительной колонии бывшего командующего, мертвеца, по-прежнему олицетворяет машина пыток. И верховный судья Процесса, как заметил Ж. Старобинский, — кто он, как не мертвец, который только и делает, что приговаривает к смерти, потому что смерть — это его сила; и не в жизни, а в смерти заключена его действительность.
Двойственность негативного связана с двойственностью смерти. Бог мертв— этот факт может означать еще более суровую истину: смерть невозможна. В одном коротком рассказе под названием Охотник Гракх Кафка повествует нам о похождениях одного охотника из Черного Леса, упавшего с обрыва, но не попавшего в результате в потусторонний мир, а оставшегося как бы мертвым и живым одновременно. Он с радостью принимал жизнь и с радостью принял бы конец этой жизни: погибнув, он радостно ожидал конца, растянулся и ждал. «И вот, — говорит он, — пришла беда». Этой бедой была невозможность смерти, — насмешка, брошенная сем великим человеческим отговоркам, ночи, небытию, молчанию. Конца нет, нет никакой возможности покончить со светом, со смыслом вещей, с надеждой: такова истина, превращенная в символ блаженства попыткой западного человека через высвобождение в ней радостного аспекта — аспекта бессмертия, выживания, компенсирующего жизнь, — сделать ее переносимой. Но это выживание и есть наша жизнь. «После смерти человека, — говорит Кафка, — на земле на некоторое время устанавливается особое благотворное молчание в отношении мертвых: закончилась еще одна земная лихорадка, долгое умирание более не открывается взору, кажется, все уклонились от
Кафка также говорит.- «Стенания в изголовье умершего в сущности означают, что он не умер в буквальном смысле слова. Остается мириться с таким способом умирания: мы продолжаем участвовать в игре». И не менее ясно вот что: «Наше избавление в смерти, но не в этой». Мы не умираем — вот в чем дело. Но из этого следует, что мы и не живем: мы умерли еще при жизни, по сути мы — вы-жившие. Так, смерть завершает нашу жизнь, но не исчерпывает нашей возможности умереть. Она реальна как конец жизни, но лишь мнится концом смерти. Отсюда эта двусмысленность, эта двойная двусмысленность, которая наделяет странностью малейшие жесты всех его персонажей: может, они, как охотник Гракх, — мертвецы, напрасно ждущие конца умирания; существа, растворенные в непонятно каких водах, сохраненные ошибкой их давнишней смерти, с ее характерной ухмылкой, но также кротостью и нескончаемой любезностью в столь знакомом декоре очевидных вещей? Или, может, они живы и борются, не сознавая того, с великими и мертвыми врагами, с
Если каждое слово, каждый образ оказывается способным обозначать свою противоположность, равно как и сама эта противоположность, — причину для этого нужно искать в трансцендентности смерти, в трансцендентности, которая делает ее влекущей, нереальной и невозможной, отбирая у нас, по сути, единственное абсолютное понятие, но не избавляя нас при этом от его призрака. Смерть властвует над нами, но властвует посредством своей невозможности, а это значит, что мы не были рождены («моя жизнь — это медленье перед рождением»), а также, что нас нет в собственной смерти («без конца ты говоришь о смерти и, однако, ты не умираешь»). Если ночь вдруг ставится под сомнение, то и день, и ночь перестают существовать и остается лишь смутный сумеречный свет — то ли воспоминание о дне, то ли сожаление о ночи, то ли конец солнца, то ли солнце конца. Существование нескончаемо, и поэтому оно — полная неопределенность, и мы даже не знаем, исключены ли мы из него вовсе (и напрасно ищем в нем, за что ухватиться покрепче) или замурованы в нем навсегда (и отчаянно вертимся в поисках выхода). Это существование — изгнание в самом буквальном смысле: нас в нем нет, мы находимся где-то еще, где мы никогда не перестанем быть.
Тема Превращения — пример страдания литературы, которой недостает предмета и которая вовлекает читателя в такой круговорот, где надежда и отчаяние перекликаются без конца. Состояние Грегора — это состояние существа, неспособного покинуть жизнь; и жить для него значит быть обреченным все время выпадать в существование. Став тварью, он продолжает вырождаться, он погружается в животное одиночество, доходит до грани абсурда и невозможности жить дальше. Но что же происходит? А то, что он продолжает жить; он даже не пытается выбраться из своего несчастья, но вовнутрь этого несчастья он переносит и последний выход, последнюю надежду: он борется за место под кушеткой, за маленькие путешествия по свежести стены, за жизнь в грязи и в пыли. И, таким образом, нам тоже приходится вместе с ним надеяться, потому что он надеется, но также приходить в отчаянье от этой ужасной надежды, продолжающей тянуться без цели, внутри пустоты. И затем он умирает — невыносимой смертью, в забвении и одиночестве, но тем не менее смертью почти счастливой
Рассказы Кафки относятся в литературе к одним из наиболее мрачных, наиболее склонных к абсолютному краху. Они самым трагическим образом истязают надежду: не потому, что надежда обречена, но потому, что ей не удается стать таковой. Насколько бы законченной ни была катастрофа, остается последний зазор, и мы не знаем, несет ли он надежду или, наоборот, устраняет ее навсегда. И мало того, что сам Бог, вынеся себе приговор, подвергается самому гнусному падению, неслыханному распаду деталей и органов, — остается еще ждать его воскрешения и возвращения его непонятной справедливости, которая обрекает нас на вечный страх и вечное успокоение. Мало того, что сын, в ответ на неоправданный и бесповоротный приговор своего отца, бросается в поток с выражением тихой любви к нему, надо еще, чтобы эта смерть была связана с продолжающейся жизнью странной финальной фразой: «В этот момент движение на мосту было просто сумасшедшее», — для которой сам Кафка подтвердил символическое значение, точный физиологический смысл. И, наконец, самый трагичный из всех, Йозеф К. из Процесса, умирает после какой-то пародии на суд на пустынной окраине, где два человека молчаливо казнят его; но мало того, что он умирает «как собака»: ему отводится еще и доля выживания — в стыде, навязанном ему бесконечностью прегрешения, которого он не совершал, обрекающего его на жизнь в той же мере, что и на смерть.
«Смерть присутствует перед нами примерно так же, как картина «Битва Александра» на одной из стен классной комнаты. Имеется в виду, что с самого начала этой жизни мы затемняем или даже затираем изображение нашими поступками». Творение Кафки подобно этой картине, являющейся смертью, а также действию, которое затемняет и затирает ее. Но, как и смерть, оно не смогло потемнеть, а напротив, ярко засияло от этого тщетного усилия уничтожить себя. Вот почему мы понимаем его произведения, лишь предавая их, и наше чтение тревожно бродит вокруг непонимания.
* В силу того, что все переводившиеся самим Бланшо цитаты из «Дневника» Кафки своеобразно встраиваются в авторский текст, их перевод на русский осуществляется уже с французского перевода. — Прим. пер.
