Франсис Понж, из книги «Проэмы»
В ноябре Издательство Яромира Хладика выпускает книгу Франсиса Понжа «Проэмы» в переводе Валерия Кислова. Публикуем предисловие переводчика и отрывок из книги.
Эту книгу и множество других заказать можно на сайте издательства –http://hladik.mozello.ru

Предисловие переводчика
Известность приходит к Франсису Понжу (1899–1988) с публикацией программной книги «На стороне вещей»[1] (1942): в небольших прозаических текстах автор описывает самые обыденные предметы и явления (свеча, сигарета, хлеб, галька), стараясь выразить их характерные «дифференциальные» качества. Этот своеобразный отчет выявляет их физические свойства, психологическую ауру — воспоминания, впечатления, аналогии, ассоциации, — а также лингвистические, в частности этимологические особенности обозначающих терминов. Автор словно изолирует, очищает и вводит вещи — на правах одушевленных персонажей — в «рай существования».
С этой целью выискиваются и устанавливаются новые связи, соединяющие предметы и слова; слово должно сообразовываться с предметом и «укореняться в действительности», а каждому предмету нужно воплотиться в слове, обрести «вербальное тело». Форму стихотворения определяет сам сюжет, то есть описываемый предмет; а каждый предмет нуждается в присущей ему риторике. Свою этическую и эстетическую позицию автор резюмирует следующим образом: «ВСТАТЬ НА СТОРОНУ ВЕЩЕЙ равно УЧИТЫВАТЬ СЛОВА».
Слова исследуются лексически, морфологически, фонетически и графически, с использованием каламбуров, аллитераций, пермутаций; внедрение этих произвольных иррациональных элементов (наивная радость открывателя) в рациональное и якобы объективное сообщение (нейтральная описательность ученого) придает тексту ироничный и одновременно напряженный характер. Как и в случае с
Книга привлекает внимание критиков и писателей, в том числе Альбера Камю, посылающего автору рукопись своего «Мифа о Сизифе» и завязывающего с ним дружескую переписку, и
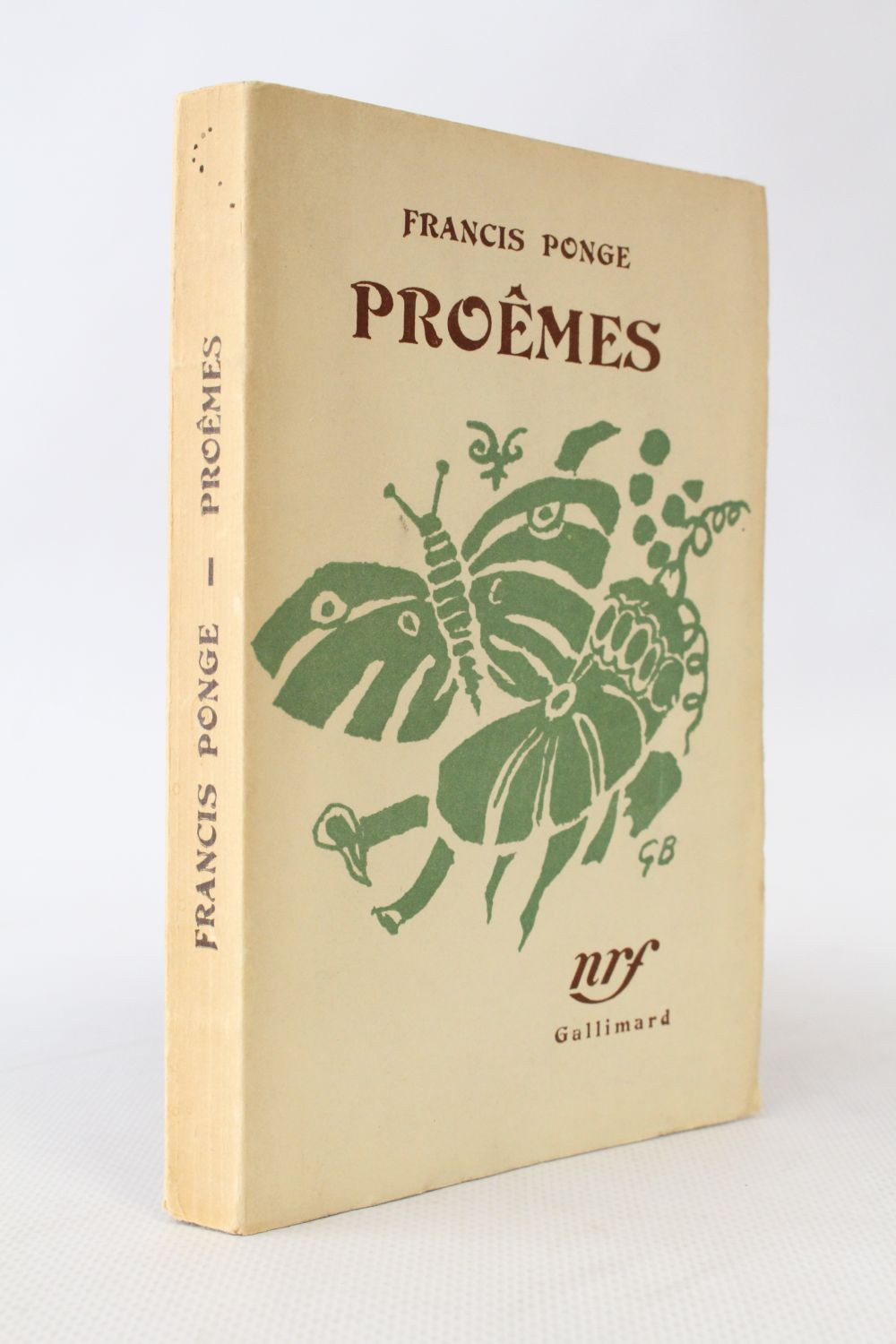
Тексты, написанные в разное время, собранные под названием «Проэмы»[3] и опубликованные в 1948 году, необычайно важны для творческой эволюции Понжа. Они поясняют, обосновывают и «узаконивают» его позицию, являют литературную значимость и подчеркивают реформаторский характер его работы. Образцы стихосложения, филологический очерк, критическое эссе, злободневная заметка или программный манифест, но чаще всего — вольные (но всегда содержательные, предметные) рассуждения о литературе: эти тексты — свидетельство преодоления сюрреалистического влияния и дистанцирования от экзистенциализма, а также радикального переосмысления романтической концепции литературы. Задача поэта — не в том, чтобы вдохновенно и безответственно изливать чувства в предусмотренной для этого классической форме. Поэту не по пути и с сюрреалистами — апологетами бессюжетной и бесформенной «спонтанности», которую призвано дать пресловутое автоматическое письмо. Ему следует избегать многословия и пустословия, произвольного «вербального растекания» и стремиться к предельно точному изъяснению. Заявленная Понжем цель — дать слово и смысл «безмолвной реальности», изречь и означить мир, где мы, живя в человеческом обществе, оказываемся одновременно «его представителями и заложниками». Такая установка уводит автора, «мученика языка», на край литературного поля, в маргинальную зону, где филология пересекается с социологией и философией, а письмо раздираемо постоянными противоречиями. С одной стороны, недостаточность выразительных средств, произвольность и ошибочность их употребления в обиходной речи вызывают негодование («Ярость выражения» — название следующей книги Понжа, опубликованной в 1952 году) и повергают в отчаяние; с другой стороны, богатство, глубина, «семантическая гуща» языка призывают выискивать возможность творчества и «основания для счастливой жизни».
Заглавие сборника лишний раз подчеркивает отсутствие четкого разделения между поэзией и прозой, теорией и практикой; поэзия — лаборатория, где важна «научность» подхода, логичность аргументации, точность действий. В «Проэмах» каждый текст «завязан» на своем предмете, «озадачен» и «озарен» своим предметом, но предметом описания может быть уже не предмет, а описание предмета, его осмысление и оформление. Письмо Понжа — дискурс о дискурсе — приобретает всё более перформативный характер.
С этой книги в описательность начинает вводиться фактор времени и связанные с ним изменения: писательского взгляда, мысли и средств выражения. Целью работы оказывается уже не только и не столько результат, сколько процесс с его вариациями, модификациями, замещениями и перестановками элементов; произведению противопоставлен отчет о производстве; творением становится само творчество, которое — парадоксальным образом — вытесняет стихотворение в заключение или скорее подобие заключения. Так, наверное, следует оценивать различные варианты псевдо-сонетов «Мое древо» и «Поэзия юного древа» с сопутствующими комментариями, которые будут встречаться и в последующих книгах. Поэтический текст мыслится и реализуется как незаконченная, да и в принципе нескончаемая реализация мысли: позднее Понж опубликует еще более «открытые» комбинаторные произведения, например «Мимоза» или «Дневник соснового леса», где работа письма явлена в постоянном действии.
Автор описывает, как борется со словами, как слова борются друг с другом и как они пытаются одолеть предмет описания; невозможность «стихотворения» заложена уже в само «стихотворчество»; любое слаженное оформление — стихосложение — постоянно подрывается изнутри. В подобной борьбе каждое произведение — это «попытка упразднить стихотворение его же предметом», но еще и попытка отразить — всякий раз меняя точку зрения и средство выражения — неисчерпаемое богатство окружающего мира, в котором каждый даже самый вроде бы незначительный элемент значим и метафизически красив.
Не это ли имел в виду другой мастер по оживлению предметов «мертвой природы», Сезанн, когда гордо заявлял, что «писать яблоки в вазе — возможно, также революционно, поскольку истинная революционность заключается в том, чтобы изменять подход, взгляд, которым человек охватывает мир»?
Валерий Кислов

Первые заметки о «человеке»
Человек религиозный по своей собственной воле…
*
Вне всякого сомнения, в человеке мало что изменится физически (даже если представить себе модификацию мелких деталей: например, более значительную атрофию пальцев ног или почти полное исчезновение волосяного покрова). А значит, мы можем его описывать. И от этого перейти к
*
Описать только тело человека — значит сказать очень мало. Какими бы ни были особенности тела (это мы кратко изложим ниже), для человека характерно то, что его определяет — или побуждает — вовсе не потребность уберечь здоровье или увековечить тело, а
*
О лице. Что такое лицо человека или животного? Это передняя часть головы. Там собраны органы главных чувств вместе с ротовым отверстием. Там читаются чувства. Там выражается бóльшая часть эмоций.
Тело животного без лица вообразить также трудно, как и тело животного без головы.
Это, как говорится, окно души (глаза). Однако глаза — вовсе не окна. А
*
Мы можем приблизиться к человеку, разум человека может приблизиться к концепту человека, лишь почитая и негодуя одновременно. Человек — это бог, который обманывается на свой счет.
*
Беззаботность. Человек почти ничего не знает о своем теле, он никогда не видел свои внутренности; он редко замечает свою кровь. А когда видит, то пугается. Природой ему дозволено познать лишь периферию своего тела. «Что у меня там под ней?» — задумывается он, разглядывая свою кожу. И сделать заключение он может, лишь обращаясь к книгам и картинкам, к своему воображению, к своей памяти. Предположить что-то о себе он может лишь в результате наблюдений за себе подобными. Но собственное тело человек никогда не познает. Для него нет ничего более чуждого.
А его любопытство в этой области чревато глубокими страданиями.
Стоит, впрочем, отметить, что ему до этого нет никакого дела. Нет ничего более очевидного (ни более удивительного), чем это свойство человека спокойно жить посреди тайны, в полном неведении того, что его так близко касается, так серьезно затрагивает.
*
Признаемся: человек над этим просто смеется. Похоже, он готов заниматься чем угодно, но только не собственным телом.
У человека нет никакой любознательности, никакой любви к своему телу, к его частям. К своему телу человек до странности безразличен.
*
Человек держится стоя лучше, чем наиболее человекообразная обезьяна. Он завершил свое выпрямление.
Однако нет никакой уверенности, что он завершил свою физическую эволюцию. Некоторые признаки наоборот доказывают, что и т.д.
(Не думаю, что отношусь к нему свысока.)
*
Человека нужно поставить на его место в природе: оно довольно почетно.
Человеку нужно вернуть его положение в природе: оно достаточно высоко.
*
Человек считает природу абсурдной, таинственной и жестокой. Ладно. Но для человека природа существует лишь сквозь человека. Так пусть не страдает. А лучше порадуется за себя, ведь у него есть возможности:
1) держаться в равновесии: инстинкт (подобный свойству болванчиков со свинцовым основанием, которые всегда выпрямляются), наука, мораль (то есть, искусство физического и умственного здоровья);
2) выражать природу, осмыслять ее, избавиться от любого комплекса неполноценности по отношению к ней: литература, искусства.
*
До сих пор человек был социальным животным не намного более цивилизованным, чем прочие (пчелы, муравьи, термиты и т. п.). Скорее, даже менее. Однако по некоторым признакам кажется, что и т. д.
Он изъял из себя идею Бога. Надо, чтобы он ее вновь в себя вобрал.
*
«Я пришел в мир с этим телом, — думает человек. — Не могу сказать, что оно мне в тягость, нет, скорее на пользу. Оно обременяет меня в меру, оно обременяет меня минимально. Но я действительно не испытываю к нему никакого чувства привязанности или верности, оно не вызывает во мне даже простого любопытства. Оно такое? — Ну и ладно! Пусть такое! Возиться с ним я не собираюсь. У меня и без этого хватает дел».
Он пеняет на свое тело только тогда, когда вынужден тратить на него свое время.
Курьезная беззаботность…
Вообще беззаботность человека не перестает нас удивлять.
Скажем, она, по меньшей мере, примечательна (если не восхитительна); она, наверняка, одна из характерных его черт.
Человек есть бесстрашие и прогресс. Он продвигается вперед радостно, воодушевленно, отважно. Он чувствует, что должен обязательно что-то открыть. Он действует почти как насекомые, которые беспрестанно шевелят усиками посреди какого-то необозримого и абсолютно загадочного ландшафта.
Так и человек любопытен не столько к самому себе, сколько к своему окружению. К миру, к его происшествиям, к его ресурсам. Он готов пересекать его на всех скоростях (но комфортно) — его разрушать — его перестраивать.
*
Когда мы рассуждаем о человеке, главное — не в том, чтобы открыть какие-то новые и неизвестные истины: сюжет был изучен вплоть до самых укромных мест (?). А в том, чтобы рассмотреть его сверху и под разным освещением, со всех точек зрения. И, наконец, воздвигнуть ему крепкую статую: строгую и простую.
Вся сложность в том, чтоб отстраниться. Следует от него отделиться, отдалиться на достаточное, но не чрезмерное расстояние.
Это не так просто. Он привлекает (манит автора, слово, перо) как магнит. Он притягивает вплотную, он поглощает, подобно тому, как тело всегда стремится поглотить свою тень. Тени, кстати, никогда не удается ни отделиться от тела, ни дать о нем представление, хоть сколько-нибудь не исказив…
*
Булыжник, ивовая клетка, апельсин: вот легкие сюжеты. Вот почему, наверное, они меня и заинтересовали. Никто никогда об этом ничего не говорил. Хотя достаточно было сказать самую малость. Достаточно было подумать: это не так уж и трудно.
А как же человек, — возразят мне…
Человек стал — по многим причинам — сюжетом для несметного множества библиотек.
По той же причине, по которой никто никогда не говорил о булыжнике, все постоянно говорят о человеке. О чем же еще говорить, как не о нем?
Однако никто никогда не пытался — насколько мне известно — создать в литературе строгий портрет человека. Простой и полный. Вот, что меня прельщает. Надо сказать все в одном маленьком томе… Итак! Один на один!
*
Человек — это сюжет, который нелегко удержать, подбрасывая на ладони. Нелегко обойти вокруг, отойти на нужное расстояние. Трудность — в этом отходе на расстояние и в фокусировке глаза, в наводке на резкость.
Непросто отходить под объективом.
*
Как бы поступило дерево, если бы захотело выразить свою древесную природу? Оно бы распустило листья, но для нас это мало бы что прояснило.
Не оказались ли мы в подобной ситуации?
*
Человек (как вид) удерживается благодаря постоянным колебаниям численности, беспрестанному преумножению индивидуумов. Вот, может быть, объяснение увеличения количества индивидуумов одного и того же типа внутри одного вида: вид удерживает свою идею под защитой этого преумножения, так он себя укрепляет.
*
Концепт человека близок концепту равновесия.
Нечто вроде пробки на воде.
Нечто фантастически ненадежное, беспечное.
(Ср. лунатик, не падающий с крыши; пьяные, которых оберегает ангел-хранитель; инстинкт, подсказывающий человеку, что по мосту следует идти вдоль, а не поперек, и т. д.)
Меж двух бесконечностей и миллиардов возможностей — пробка на воде…
*
Человек и его жажда абсолюта — его ностальгия по абсолюту (Камю)[4] . Да, это одна из характеристик его природы. Но другая, менее заметная, — его свойство жить в относительности, в абсурдности (но судить об абсурдности жизни он может, лишь проявив свою волю).
Власть сна: восполнение — развлечение, воссоздание.
Мне надо перечитать Паскаля (чтобы его сразить).
Что это за жажда абсолюта? Остаточное явление религиозного сознания. Проекция. Порочная экстериоризация.
В идею человека надо вновь внедрить идею Бога.
И просто жить.
*
Человеком называется определенное колебание природы.
*
Колебание: перебои сердца, перебои смерти и жизни, яви и сна, наследственности и личности (оригинальность).
*
Броуновское движение.
*
Человек — это одно из решений природы или один из ее результатов (одна из ее частых коагуляций). Одно из ее осуществлений (природа в нем осуществляется).
Флюид жизни в выбранных пропорциях. Симметрия человеческого тела. Сокровенная сложность. Но, несомненно, природа полностью осуществляется в каждой из коагуляций, которые ей удаются.
*
«Нет, все же человек кажется мне слишком значительным, чтобы я мог о нем говорить! А сказать надо очень много, и тема внушает мне чрезмерное уважение. Слишком деликатная и слишком пространная тема. Она меня обескураживает…»
*
Для заметок о человеке я инстинктивно выбрал тетрадь невероятных пропорций: намного больше в длину, чем в ширину. Понятно, почему.
*
Мы будем стремиться к человеку простому. Белому и простому. Новый классицизм.
Исходя из самого глубокого и самого черного (к чему нас обязали предыдущие века).
Выходя из религиозных и метафизических туманов и дымок — из безнадежности…
*
Поскольку тема столь сложна, мы выявим в ней только одно: свойство равновесия, способность жить меж двух бесконечностей и то, что вытекает в моральном плане из осознания, из высвобождения этого качества.
*
Опуская взор со звездного неба на себя самого, на человека, я поражаюсь упрямству, с которым стараюсь жить.
Придумать себе столь малую роль и так стремиться ее исполнить!
Но, самое главное, как я могу не осознавать всю мелочность этой малой роли? По какой счастливой неосознанности я играю ее всерьез?
Все дело в том, что приходится как-то жить.
И все оказывается лишь вопросом уровня или масштаба.
*
Этот строгий и простой человек, — желающий жить по своему закону, согласно своей удачной уравновешенности, своей плотности пробки на воде, — выковывает себя в современной бойне (это скорее последнее испытание огнем, последнее горнило после стольких веков добычи руды и производства металла).
Он выковывается в этом горниле, а также в представлении некоторых людей, в том числе меня, занятого одновременно его социальным искуплением и искуплением вещей в его сознании.
*
«На стороне вещей» и «Sapates» — тексты из разряда типичной постреволюционной литературы.
*
Человек еще только грядет. Человек — еще только грядущее человека.
*
«Ecce homines»[5] (когда-нибудь сможем сказать …), но скорее — нет: это ecce никогда не выразит верно, никогда не станет правильным словом.
Не вижду, а жду человека[6] .
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Русский перевод: Понж Ф. На стороне вещей / Перевод Д. Кротовой. М.: Гнозис, 2000.
2. Sartre J.-P. L’Homme et les choses // Poésie 44. № 20. Jjuillet–octobre 1944.
3. Проэма (προοίμον) — прелюдия к песне, вступление в речи (греч.); фр. proême — дидактический термин, означавший «предисловие, введение в суть» (словарь Литтре). Сам термин — пример контаминации по типу слов-чемоданов (фр. mot-valise; нем. Kofferwort) или слов-бумажников (англ. portmanteau) — прекрасно подходит к определению текстов Понжа, поскольку удачно соединяет «прозу» (prose) и «поэму» (poème).
4. Возможно, отсылка к «Мифу о Сизифе», ср.: «Ностальгия по Единому, стремление к Абсолюту выражают сущность человеческой драмы»; или к «Бунтующему человеку», ср.: «Кто хоть раз в жизни не требовал от всего сущего абсолютной девственности, изнемогая при этом от невыполнимости своего желания, кто, без конца терзаясь тоской по абсолюту, не губил себя попытками любить вполсилы, — тому не понять реальности бунта и его всесокрушающей ярости» (перевод А. Руткевича).
5. «Се люди» (лат.). Отсылка к словам Понтия Пилата об Иисусе Христе: «Ecce homo» — «се человек».
6. Изречение «ecce homo» переводится на французский язык как «voici l’homme», где указательная частица voici этимологически раскладывается на vois («вижу») и ci («здесь»). Учитывая игру слов на фонетическом сближении глаголов voir («видеть») и vouloir («хотеть»), заключительная фраза может буквально прочитываться: «Не видится здесь человек, а хочется [чтобы был] человек».
