К новому гуманизму: Дискуссия о книге Сергея Завьялова «Советские кантаты»
В преддверии выхода новой книги Сергея Завьялова «Советские кантаты», уже попавшей в короткий список Премии Андрея Белого, L5 публикует несколько отзывов на эту книгу, написанные поэтами и исследователями поэзии — Станиславом Львовским, Виталием Лехциером, Джонатаном Платтом и Галиной Рымбу. Эти отзывы написаны как реакция на первую часть поэмы, «Старый большевик-рабочий над гробом Ленина», которая была опубликована нами ранее, в то время как в только что вышедшей книге поэма представлена целиком. Возможно, приглашенные нами эксперты несколько изменят свое мнение после знакомства с полным текстом поэмы или, напротив, утвердятся в нем. Вне зависимости от этого мы решили опубликовать эти материалы сейчас — для того, чтобы начать дискуссию, которая в дальнейшем, возможно, пойдет совсем другими путями. Завершает подборку автокомментарий Сергея Завьялова.
Станислав Львовский
В этой реплике речь пойдет о первой части книги «Советские кантаты» Сергея Завьялова — о тексте «Старый большевик-рабочий над гробом Ленина», который был опубликован отдельно и в таком качестве рисковал оказаться не сколько текстом, который должен быть прочитан, столько отправной точкой для разговора о состоянии дискурсивного (и не только) паралича, который многие ощущают, — в части констатаций обсуждается не сам факт этого состояния, но скорее степень его тотальности. Те, кто считает этот паралич результатом довольно радикального отторжения левой мысли, последовавшего за коллапсом СССР, настаивают на том, что без нового раунда дискуссии о левой идеологии в широком смысле и, в частности, о советском проекте, выход из нынешнего стазиса невозможен. Рамка короткой реплики, увы, не подразумевает такого разговора (очень увлекательного, но долгого). Следует, тем не менее, сказать, что текст, о котором идет речь, достаточно интересен и сложен сам по себе, чтобы можно было не обосновывать необходимость его прочтения и обдумывания гипотетического (очень вероятного) вторжения, осуществляемого им в зоны умолчания, всегда, разумеется, в той или иной степени болезненные.
Многоголосие, вообще (а особенно в последние годы) характерное для текстов Сергея Завьялова находится в фокусе и «Старого большевика-рабочего…», где принимает, во-первых, довольно минималистский облик, а

Начнем с голосов. Первый голос, — Сталин, произносящий речь, впоследствии ставшую известной как «Завещание Сталина» на II Всесоюзном Съезде Советов; этот голос звучит из 26 января 1924 года. Второй голос, — Сергей Прокофьев, автор «Кантаты к двадцатилетию Октября в 10 частях для симфонического оркестра, военного оркестра, оркестра аккордеонов, оркестра ударных инструментов и двух хоров, op. 74». Восьмая часть — это как раз «Завещание Сталина», голос Прокофьева звучит из 1936—1937 годов. Третий голос принадлежит Ленину, цитаты из разных статей («Дрейфусиада», «О нашей революции», «Удержат ли большевики государственную власть») которого завершают каждую из шести частей завьяловского текста, — и хронологически его локализовать невозможно, — однако относительно момента похорон это разумеется, голос из прошлого. Наконец, четвертый голос, по всей видимости, принадлежит «старому рабочему-большевику», и именно он звучит «сейчас».
В нынешней практике письменной коммуникации набираемый заглавными буквами текст маркирует условный «крик», речь, тем или иным образом акцентуированную, — это, разумеется, прямо соотносится и с типом риторики сталинской речи, и со статусом, который она позже получит. Приведены цитаты не только из одного текста, но и законченные, как по смыслу, так и интонационно Ленинские цитаты не просто фрагментированы, но и набраны из разных статей, а выбранный метод графического выделения (полужирный шрифт) — слабее того, что применен к сталинским цитатам. Голос «старого рабочего-большевика» связывает голоса Ленина и Сталина: каждая цитата из последнего начинается со слов «Уходя от нас товарищ Ленин…», — и «реплики» завьяловского героя в
Ленинский голос отзывается обоим, но звучит глухо, скорее доносится, — и кроме того, возникает ощущение, что он иногда «не слышит» реплики, на которую отвечает. Так, в третьей части произносимые им слова как будто бы относятся к «труду», о котором говорит рабочий, но в действительности, это цитата из статьи «Удержат ли большевики государственную власть», речь в которой идет о той части государственного аппарата, которая выполняет регистрационно-контрольные функции. В пятой части «гильотина» вроде бы отзывается на «казненных тиранов», но на самом деле, соответствующий фрагмент той же статьи звучит вот как:
Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность являются в руках пролетарского государства, в руках полновластных Советов, самым могучим средством учета и контроля <…>. Это средство контроля и принуждения к труду посильнее законов конвента и его гильотины. Гильотина только запугивала, только сламывала активное сопротивление. Нам этого мало.
Коммуникация ленинского голоса и голоса рабочего очевидно дисфункциональна — по крайней мере, частично. Речь рабочего можно увидеть и как хилиастические по смыслу толкования, соположенные фрагментам сталинской речи с их
мы дадим новые имена земле и небу
мы зажжем новые звезды.
Тут мне, боюсь, придется не без сожаления прекратить дозволенные речи, — осталось разве что напомнить напоследок, к чему это все. «Старый большевик-рабочий над гробом Ленина» — не манифестарный текст ни в каком смысле (у Завьялова таких не бывает). Он не «актуализирует» исторический локус, важность которого, конечно же, очень сильно преувеличена, но и не отстраняет его в бесстрастную «античность». Инструментарий, с которым следует подходить к этому тексту — тот же, с которым сам его автор подходит к истории. Обнаруживается этот инструментарий в багаже скорее натурфилософа, нежели бесстрастного коллекционера сухих цветов или фокусника-таксидермиста.
Виталий Лехциер
Мне импонирует в этой поэме применение (в гадамеровском смысле этого понятия) поэзии в качестве ответа на наше общее историческое предание. Нам предлагается своеобразная поэтическая историческая антропология, частью воображаемая, частью документальная, практикуемая автором не произвола ради, а в силу личной задетости длящейся вековой болью, через которую прошли миллионы людей. Интересно также, что текст поэмы в своей эстетической функции является (примерно в двух третях) транспонированием третьего уровня: то есть, например, (в первой главе) цитаты вождей мировой революции становятся сначала ораторией Прокофьева, которая затем трансформируется в поэму Завьялова. Любопытно было бы в качестве отдельной формальной задачи проследить все этапы транспонирования изначальных документальных текстов в конечный монтажный текст поэмы и отметить для себя принципы и механизмы этого превращения. Но, боюсь, это актуально лишь для тех, кому вообще интересна (теоретически или практически) тема трансфера документа в литературу и эстетическое измерение интерречевого взаимодействия. Вот, например, мне это очень интересно и близко.

Речевая структура поэмы призвана показать, как представляется, дискурсивное устройство культуры (общества): воображаемые «личные» высказывания во всех трех главах обрамлены официальной риторикой, включая официальное советское искусство, — как образцами и идеологически заданными моделями персонального опыта, направляющими и помогающими справиться с утратами, со всеми тяжкими личными страданиями. Вот собственно постоянное зеркальное сравнение этого воображаемого «личного» и
Вместе с тем должен сказать, что антропологическая задача, то есть задача действительного понимания советского опыта в разгар репрессий (об этой задаче автор говорит в интервью Кириллу Корчагину), с моей точки зрения,
Совершенно отчетливо чувствуется по тексту поэмы и интервью, что автор не пытается устранить историческую дистанцию, отделяющую нас от того времени, что и невозможно в принципе, конечно, но намеренно создает поэму на основе своего пред-понимания, так сказать а resentiori (игра в древнегреческую трагедию отсюда же) — эту методологическую и поэтическую позицию можно только приветствовать. По некоторым текстам Завьялова можно, наверно, реконструировать нашу теперешнюю герменевтическую ситуацию, то есть тот горизонт, из которого мы пытаемся хоть что-то понять в нашей трагической истории.
Джонатан Платт
Когда Завьялов читал первую часть «Советских кантат» в Электротеатре «Станиславский», он без оговорок идентифицировал себя с рабочим голосом, который после смерти Ленина в 1924 фантазией несется через сталинский «шестиклятвенный простор» (по словам Мандельштама). Рабочий голос звучит между двумя сериями цитат — после шести заголовков знаменитой речи Сталина на втором Всесоюзном съезде Советов «По поводу смерти Ленина» и перед некоторыми фразами из текстов самого Ленина: «Дрейфусиада» (июль 1917), «Удержат ли большевики государственную власть?» (октябрь 1917) и «О нашей революции» (январь 1923). В последующей после чтения дискуссии Завьялов объяснил позицию рабочего без
Сталин стилистически деперсонaлизируется — нет его спокойного речевого ритма со странными моментами ускорения, нет грузинского акцента. Вместо этого мы слышим низкий, монотонный голос: он звучит как непосредственная трансляция авторитета, требующего дисциплины. А Ленину, напротив, Завьялов старательно подражает. Ленинская быстрота (и речи, и ума), его риторические всплески, его ораторский пафос — все на месте. Между ними голос рабочего стилизуется больше контекстом и историчностью, чем характером речи. Это пролеткультовский поэт, явно вдохновленный федоровскими идеями о преодолении смерти и колонизации космоса. Автор же только присутствует на имплицитном уровне, — в том, как он оркеструет монтаж этих стилизаций. В
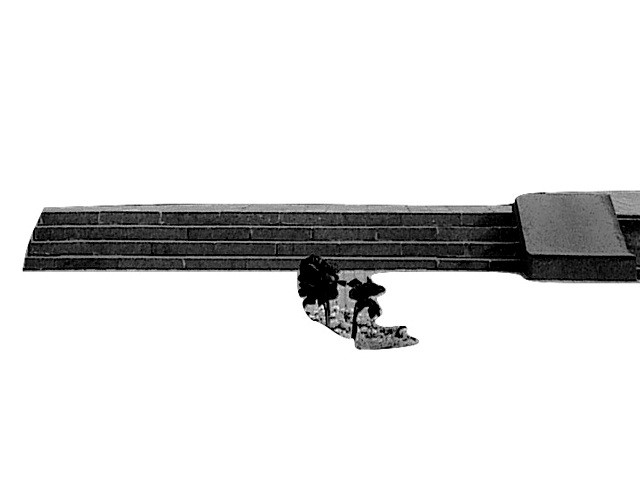
Первая клятва — о «чистоте» члена партии. Помним, что Сталин начинает свою речь с замечанием об особенности коммунистической личности (через метафору о коммунистическом теле): «Мы, коммунисты, — люди особого склада. Мы скроены из особого материала». Цитаты из ленинской «Дрейфусиады» про злобные, клеветнические атаки буржуазной прессы на большевиков (как немецких шпионов) прямо ассоциируются с этой клятвой. Мы чисты — они бешеные лжецы. Но рабочий сосредоточен на телесной метафоре. Главное для него — это бальзамирование тела Ленина, решение не отдавать его смерти как утверждение, что слепая сила природы не властна над новыми людьми революции. И тут поневоле возникает вопрос: действительно ли хотим назвать это решение отражением коммунистической «чистоты»? Ведь тело теперь будет навеки лежать на грани разложения, ожидая все более невероятного воскрешения (или, наоборот, погребения).
Вторая клятва — о единстве партии, которое мы «храним как зеницу ока». Тут тоже прямая перекличка со словами Ленина из работы «Удержат ли большевики…». В тексте Ленина довольно сложная логика — видимо, накануне революции некоторые представители партии считали, что буржуазия (у Ленина это, прежде всего, кадеты) «провоцирует» большевиков взять власть, чтобы они затем потерпели поражение и исчезли с политической карты. Ленин же требует единства партийной воли, не давая «себя запугать криками запуганных буржуа». Власть надо взять. Между тем рабочий голос все еще говорит о бальзамировании, как будто он не участвует в том разговоре о власти. Впоследствии читатель оказывается в зазоре между двумя единствами, двумя консенсусами: с одной стороны, по вопросу революционной воли и дисциплины, а с другой стороны, по сомнительному вопросу о решении не предавать Ленина земле.
Третья клятва — про диктатуру пролетариата. Слова Ленина о том же — «надо вырвать» государственный аппарат, особенно финансовую структуру, «из подчинения капиталистам». Всенародный, всеобъемлющий государственный банк, по его мнению, составит «уже девять десятых социалистического аппарата». Голос рабочего звучит очень проблематично в этом контексте. В нем начинает звучать уже более поздняя риторика сталинских чисток: «не выдадим тебя своре псов и палачей». И последняя фраза об избавлении от «паразитов» носит амбивалентный характер. Точно ли здесь речь идет о капиталистах? Не является ли это предвкушением той другой диктатуры, которая заменила собой обещанную диктатуру пролетариата?
Четвертая клятва — про союз рабочих и крестьян. А тут очень интересная перекличка со словами Ленина из текста «О нашей революции», в котором он отвечает на то, что для социализма Россия — якобы недостаточно «цивилизованная» страна. В тексте Ленина этот волюнтаристский тезис переосмыслен в историческом ракурсе как утверждение возможности альтернативных путей модернизации:
…при общей закономерности развития во всей всемирной истории нисколько не исключаются, а, напротив, предполагаются отдельные полосы развития, представляющие своеобразие либо формы, либо порядка этого развития. <…> Россия, стоящая на границе стран цивилизованных и стран, впервые этой войной окончательно втягиваемых в цивилизацию, стран всего Востока, стран внеевропейских, <…> могла и должна была явить некоторые своеобразия, лежащие, конечно, по общей линии мирового развития, но отличающие ее революцию от всех предыдущих западноевропейских стран.
Значит, крестьянская страна с рабочими в авангарде совершила революцию особенного склада. Но рабочий Завьялова опять думает о другом — он забежал далеко вперед. Он говорит уже про новое восстание, про «неумолимый ход» революционной машины «по континентам». Рука статуи Ленина направляет его вдаль, за горизонт, пока слова Ленина указывают на особенности российского исторического опыта.
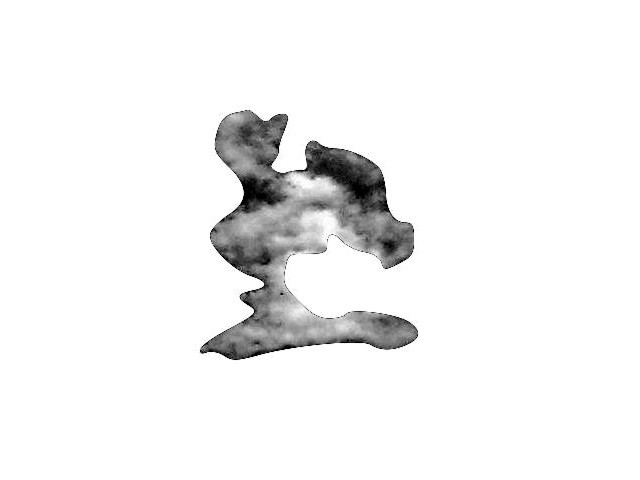
Пятая клятва — о союзе республик. И здесь, наконец, ощущаем разрыв между сталинской речью и словами Ленина. Ленин опять говорит о диктатуре пролетариата — о том, что хлебная монополия лучший метод сломать сопротивление капиталистов, чем террор. А рабочий как бы не додумался до этого. Он заканчивает свою клятву обещанием не продавать братство, «скрепленное кровью казненных тиранов». Прямое употребление лексикона французской революции, противоречащее словам Ленина из четвертой части об особенностях российского опыта, остро резонирует с ленинским утверждением о том, что гильотины мало для большевиков. Призрак чисток появляется снова. «Союз республик» в контексте казней не может не напоминать разрушение нерусских элит в поздние тридцатые в кампании против «буржуазного национализма». Так ли основываем новое человечество?
Шестая, последняя клятва — про коммунистический интернационал. Теперь слова Ленина опять пребывают в гармонии со сталинской речью, но они совсем безличные. Вопросы тактики, как и конкретность цитат, полностью отсутствуют. Ленин становится по-настоящему фрагментарен (в противоположности тому, как предыдущие фрагменты его речи ссылались на сложные аргументы). Он как бы сам угасает на фоне опустошения революционного дискурса. А где теперь рабочий? Он летит в космосе. Абсолют интернационала представляется ему как завоевание далеких миров. Федоров заменяет Ленина, и все жертвы угнетательского прошлого воскресают.
Опять же хочется воздержаться от окончательного анализа этой сложной монтажной структуры, поскольку окончательный текст поэмы мне пока не доступен. Но предварительно можно, по крайней мере, предложить два варианта интерпретации. С одной стороны, за поверхностью революционного энтузиазма скрывается клубок змей истории русской революции как возвышенная трагедия, катарсиса которой мы все еще ждем (ведь Ленин лежит в мавзолее до сих пор). С другой стороны, возможно тут намного больше пессимизма: критика сталинской политики как искажения политики ленинской как бы бросает отсвет на рабочего, на его утопические чаяния и пренебрежение рациональностью. «Шестиклятвенный простор» — это в
Галина Рымбу
Новую работу Сергея Завьялова, так же, как и поэму «Рождественский пост» нужно интерпретировать не как следствие речевой катастрофы, но как столп и основание этого нового катастрофического порядка. Это порядок, предстающий, в то же время, пределом безумия в политическом — человеческим пределом. Это предел того, что может вынести человек, оставаясь в рамках своей природы и сознания: контрреволюция после революции. Здесь ширится бездна канувших, невозможных ран, фрагментов тел, событий и слов, от которых остаются лишь сооружения, объекты: космическая ракета, мавзолей, ВДНХ… Это похоже и на тот порядок, который воцаряется на опустевшей сцене после того, как постановка трагедии состоялась: только что здесь происходили ужасные, немыслимые вещи, казалось, что мир рухнет, но нет — хор допел последние слова и растворился в призрачности полиса, а сцена так и осталась стоять. Вокруг этого пустого порядка мечется обезумевший архонт памяти и истории, разрывая на себе тогу, обнажая кривые раны и темные нарывы. Монтаж, вовлеченный в порядок, выступает здесь и как напоминание о катарсическом действе, и как
Те, кто «не понимают» советского человека и всячески изыскивают из исторического небывалого возможности для этого понимания — это и есть нынешний взгляд мелкобуржуазных исследователей, художников, поэтов. А те, кто раньше были советскими людьми, и их дети, прозябающие сейчас в ужасной бедности, выкинутые на периферию мертвого ландшафта, не могут приблизить их к этому пониманию, потому что они пристыжены, потому что их память, их представление о своих родителях и родителях их родителей отсечено, отрезано, отрублено как ненужный рудимент. Возможность понимания может обнажить только новое классовое искусство и поэзия. Если им и суждено зародиться, то в этих новых не то что неблагоприятных, но даже постыдных условиях, в условиях абсолютно невозможных, когда нужно быть готовым к тому, что в тебя будут плевать и те, что смотрят на мир глазами мелкого буржуа, и те, о ком, собственно, ты пишешь. К этому нельзя быть готовым, но к этому необходимо быть готовым. Возможность новой классовой поэзии — это не призыв к мобилизации (мобилизовать в известном смысле некого) или к опрощению и вульгаризации сложных и сильных поэтических практик — прежде всего, практик неофициальной культуры. Напротив, это свидетельство того, что отсутствие в культурном и общественном пространстве речи угнетенных — сложнейший вызов (в том числе, и формальный), на который поэзия должна ответить.

Но мне кажется, что в катастрофической полифонии поэмы Завьялова упущен еще один важный голос. Понятно, что в кантатах речь идет о катастрофе, и только о катастрофе, о некоем решающем развертывании смыслов и истории, ради которой многое может быть отброшено. Но разве может быть отброшена традиция советского гуманистического марксизма, которая пусть и слаба, но именно посредством этой слабости может выступать основанием альтернативной поэтической антропологии? Этот гуманистический марксизм хорошо сохранился в некоторой фантастической и детской литературе, в советских мультфильмах, в маргинальной линии советской марксистской философии… В его центре находится именно тот коллективный страдающий, пребывающий на пороге ужаса и безумия, исторический субъект двадцатых—сороковых годов, которого дает нам увидеть Завьялов. Если мы забудем об этом, мы забудем что-то важное о своем настоящем и будущем. Гуманистический марксизм встречает этого субъекта в тот момент, когда тот уже «на пределе», он берет его за руку и ведет в будущее — не через идеологию, а через смутные образы массового и детского, наивного искусства. Через взгляд моей бабушки, который отличается от жесткого, действительно полубезумного, отчаянного взгляда моей прабабушки, потерявшей в двадцатые глаз и работавшей грузчицей всю войну. Через смутные коммуникативные практики: мы собираемся с друзьями и странно присматриваемся друг другу, как будто пытаемся что-то важное вспомнить про эту встречу, про политику встречи в нашем постсоциалистическом ландшафте. Он ведет его в будущее затем, чтобы кто-то из настоящего, из нашего сейчас, смог понять и увидеть его.
Возможно, Завьялов пишет свои кантаты именно с этих позиций. Антигуманизм сталинизма заключается не только в изобретении бюрократической машины подавления и мобилизации. Он предполагает и едва уловимую «личную» трансформацию каждого отдельного человека: так, чтобы принцип недиалектического самоотрицания поселился в каждом. Это похоже на фигуру мусульманина у Джорджо Агамбена. Мусульманин — тот, кто не просто отрицает жизнь, ценность своего существования, но тот, кто отрицает также и смерть, — как то, что подвигает к борьбе. Рабочий Завьялова также не просто погружается в мир утопических желаний, он падает в расщелину — между жизнью и смертью, отказываясь жить без Ленина, без того, чтобы довести революцию (в том числе и внутреннюю, этическую) до конца, и отказывается умереть вместе с ним, отказывается от смерти как от человеческого.
Поэтому Ленин сегодня продолжает лежать в мавзолее и говорить. Эта речь-тело Ленина может быть прекращена только тогда, когда будет завершена революция. В разложившемся теле ленинской речи, как и в мертвенном мире рекуперированных пушкинизмов скрывается не только речевой быт гражданина современной России, но и риторика нынешней власти. Риторика, обратившая искрометность ленинского языкового завета в

P. S. Сергей Завьялов
Толчком для моей поэмы стала кантата Сергея Прокофьева «ХХ лет Октября», точнее ее восьмая часть, написанная на текст знаменитых «Шести клятв» Сталина. Меня поразила тогда монументальная поэтичность этого текста (чувство, возможно, инспирированное музыкой, но которому я не в силах был сопротивляться). И тогда я попытался представить себя в этой скорбной толпе и пережил чувство не непереносимости (ибо любая смерть любимого человека непереносима), а немыслимости произошедшего для рядового, неприобщенного к власти участника событий. Тут действительно: или «Ленин жив» — или мир рушится, и бытие как таковое теряет всякий смысл.
Ближе всего это переживание изначальному, ритуальному смыслу древнегреческой трагедии: смерть героя — как метафора смерти божества, то есть крушения мироздания.
Именно так и строится текст поэмы: это — эксод, в котором тело мертвого героя лежит в гробу, установленном на эккиклеме, окруженной поющим траурное песнопение хором.
Однако тут случается катастрофа: хор, который, как и положено, возглавляется корифеем (в данном случае это — Сталин), выражающим общее чувство так, как подобает его выражать «порядочным гражданам», вдруг начинает перебивать обезумевший от горя и попирающий всякие законы и правила хоревт. Но и этого оказывается мало: из гроба раздается не менее кощунственно звучащий голос героя, как бы санкционирующий беззаконное неистовство персонажа.
Я замышлял поэму как пролог к большому циклу трагических монологов, в которых должны столкнуться великая правда марксизма и неумолимый реализм событий советской истории. Как и моему герою, о котором его товарищи по классу с присущим им реализмом сказали бы что он — «не жилец», мир в
