Ксения Циммерман. Отслоение сетчатки (Опыт АТД)
Это небольшое эссе было представлено в качестве доклада на конференции, посвященной Аркадию Драгомощенко и состоявшейся в феврале этого года. В ближайшие несколько дней будет объявлен лауреат премии, учрежденной в честь Аркадия Драгомощенко. Мы публикуем этот текст, чтобы связать эти два события воедино и еще раз напомнить о важном для нас поэте. Ксения Циммерман была ученицей Драгомощенко: посещала его семинар «Иные логики письма», и представленный текст можно считать непосредственным свидетельством этой «инаковости».
ОТСЛОЕНИЕ СЕТЧАТКИ
Говорить об АТД. Докладывать (что как бы подразумевается для находящегося в моем положении). Документировать. Вспоминать. Но, как ни странно, вспомнить невозможно, хотя, вроде бы есть что вспомнить.
Память никогда не работала, отказывала, подводила (куда?)
Лекции АТД не представлялось возможным конспектировать. Их не представлялось возможным даже слушать в привычном понимании этого слова: внимать, понимать, запоминать. С АТД можно было только присутствовать в одном потоке речи, этом бесконечном flow, ветвящимся на каждом повороте языка. Как язык повернется такое сказать. И это, таким образом, говорилось.
Говорить об АТД все равно означает продолжать разговор с АТД.
Находясь здесь в положении «студента», последователя (того, кто вступил в чужой след, и чья ступня никогда не совпадет с местом отпечатка прошедшего и уже исчезнувшего), как мне следует обратиться: «ты» (что можно позволить себе на том расстоянии, где лица уже не имеют значения), «Аркадий», выдумать иное слово?
В этом месте, пожалуй, нам следует остановиться.

В перерывах наших «классов» Аркадий выбегал выкурить сигарету «в окно». Окно выходило в висячие сады университета. Мы могли также разделить вино или кофе, из пластиковой чашки, на ходу, упоминая то или иное имя, то или иное обстоятельство.
Говорить об опыте АТД.
Единственный раз, когда я соприкоснулась с библиотекой Аркадия — не с той, которая неизменно проскальзывала в его речи (я, конечно же, была более чем юна — дилантомасовский young dog: и те непредставимые, напоминающие созвездия имена, которые он ронял по ходу разговора, только с течением времени расцветали и разветвлялись неожиданным образом), так вот, в тот раз, когда я оказалась перед его книжными полками — это было весной 2011 года, когда я писала работу о поэзии beat generation, San Francisco Renaissance и могла позволить себе носить волосы, как у Элвиса Пресли. Аркадий, в полутьме рабочего стола рассказывал о своем велосипеде и «хитрожопых девчонках из Бруклина». Мне же в руки попадает долго искомая (с его же подачи) антология американской экспериментальной поэзии под редакцией Джерома Роттенберга The Revolution of the Word. В предисловии Кеннет Рексрот пишет: «Подобная поэзия достигает не просто иного синтаксиса слов. Эта революция устремлена на синтаксис ума как такового. Эта перенастройка всего опыта имеет не сновидческую природу, она совершается намеренно, и потому несет в себе жуткое (uncanny), что в корне отлично от самых тревожащих высказываний бессознательного сюрреалистов или символистов».
Речь идет о таких авторах, как Гертруда Стайн, ээ каммингс, Паунд.
Нить разговора рвется. (обрывается самим синтаксисом речи)
Орфей оглядывается, и видит: он смотрит в ночь, и что ночь говорит
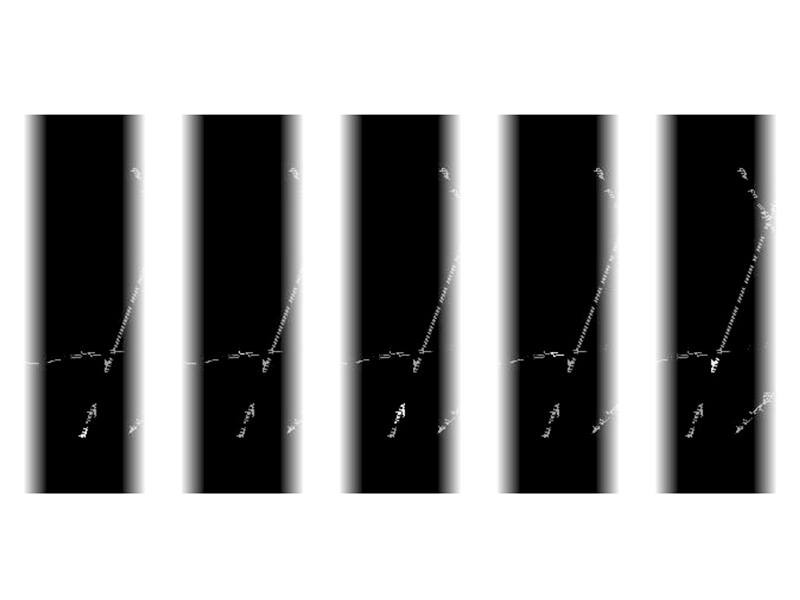
Взгляд Орфея, говорит Бланшо, это экстремальный миг свободы. В этом жесте он освобождает себя от себя самого. Этот жест совершается не ради труда песни, исток его — в безоглядном желании оглянуться, и в этой излучине и начинается акт письма.
Подобно тому, как Лакан говорил о психоанализе как об этике, мне хочется говорить об этике стихов Аркадия. Та стратегия, которой он следовал в языке — это состояние ума, политика высказывания, если хотите. Письмо — это попытка подойти к вещи, долгим путем описания к концу (?) которого уже не можешь сказать, о чем говорилось в начале. И как вообще все началось. Если свести это к матеме, формуле, то язык АТД говорит: принять иное.
Лин Хеджинян в эссе «Варварство» называет трудность поэтического текста «манифестацией того, что “объективисты” назвали бы его “честностью”, — этического принципа, благодаря которому поэт испытывает слова на их соответствие реальности, артикулируя наше положение в мире как присутствие вместе (и только вместе) с другими».
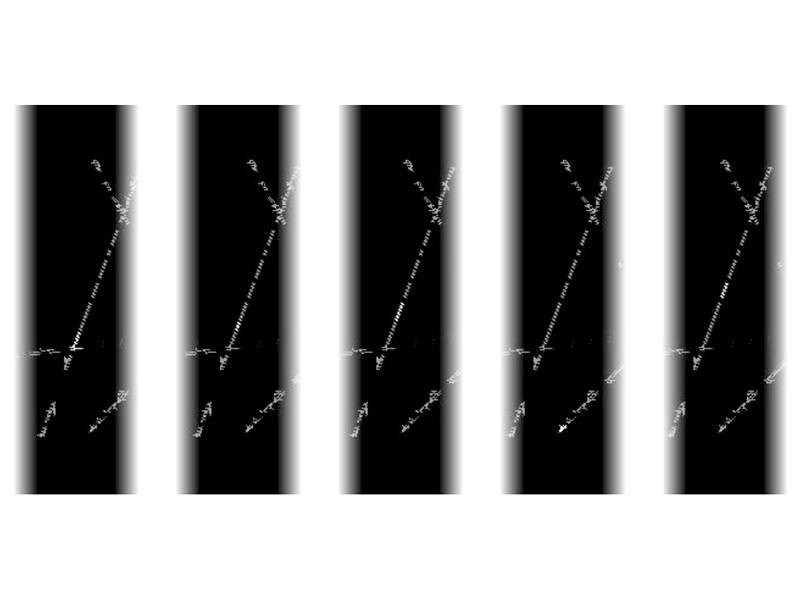
Синтаксис его языка — это именно то, как настроена его оптика. Кто-то назвал бы это дефектом зрения: поверхность, на которую спроецирована тень вещи, остлаивается от собственно глаза, [моего] тела. Под эти углом вещи, язык — не объекты зрения; они занимают свое место под зрением, «под подозрением», как называется одна из книг Аркадия.
Я пишу это, следуя линии руки, мерцающей на исходе экрана, одновременно пытаясь представить себя стоящую перед слушателями и представить себя-сидящую на кухне, я так давно ничего не писала, что сейчас любой черновик кажется освобождающим. Какая, в конце концов, разница? Мы все равно вряд ли сможем ответить на вопрос кто говорит?
Это письмо — о невозможности.
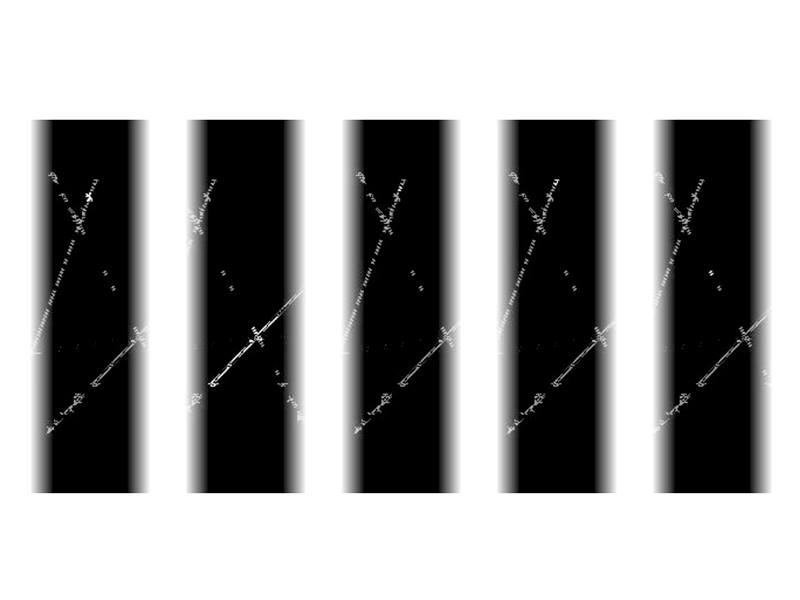
Мне нечего вспомнить, как нечего и сказать. Разве что я смутно уловлю некий порыв. Пыль оседает на стекло. Сколько раз АТД ставил меня перед такой задачей: непосильной задачей написать (о первом снеге, осени), оставляя себя в нехватке слова. Ну вот, я приближаюсь к тому, о чем могла бы сказать: (он) (меня) научил двигаться по касательной.
Прикосновение
Встреча с собой возможна только как встреча с другим. Как свое тело я обретаю только тогда, когда его коснется другой: в тот момент, когда оно как бы отслаивается от
Так и язык/дар речи/возможность разговора обретается там, где значение отслаивается-от.
Об этом говорит синтаксис АТД, который организует пространство его литературы и конструирует / расфокусирует оптику читателя: вещь отслаивается от глаза, распыляется, теряет очертания, соскальзывает со своего места, как паутинная нить, заметная под определенным наклоном зрения в дни лета; она близится к пыли.
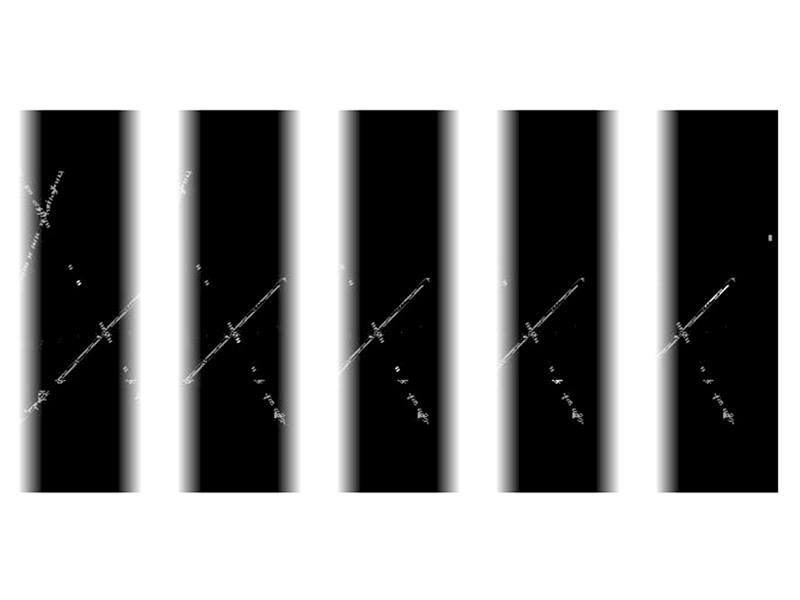
Поэт не native speaker никакого языка: он не носит язык в себе. Между мной и языком — всегда промежуток (gap, espacement), который делает пишущего иностранцем по отношению в слову. Поэт усиливает этот всегда присутствующий в языке элемент странности (strangeness) и чуждости (otherness).
Не-говорящий на этом языке (родном, должно быть, связанном с кровью и языком матери). Он не доверяет собственной речи, не может сказать.
Ситуация утраты дара речи и делает возможной поэзию: не дар, но усилие (отказа и присвоения).
(что) мое, — (то) чужое: мы вступаем в xenos письма
Предельная обеспокоенность собственным языком. Письмо как радикальный опыт встречи с тем, чему с трудом возможно дать имя, точнее: опыт встречи со
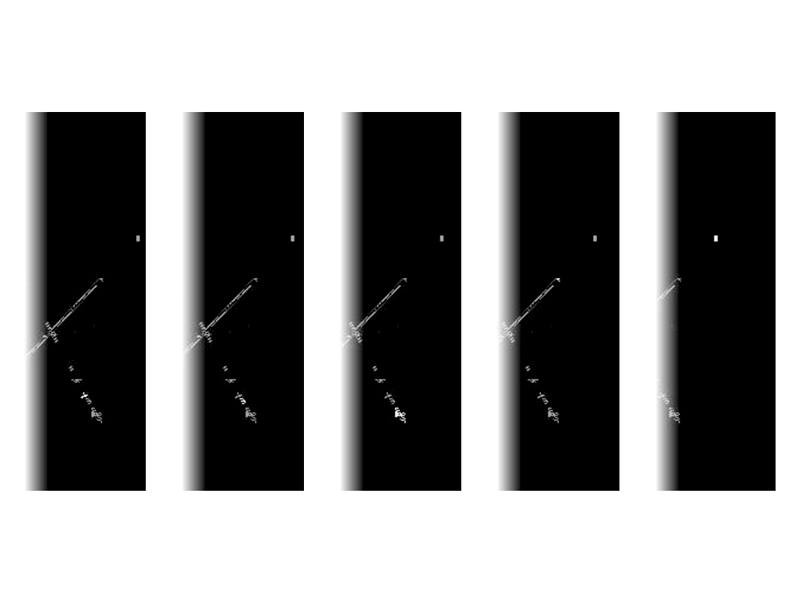
Здесь снова вернемся в ту историю, где я была студентом. Самое время рассказать либо о
АТД говорил, что в хорошем тексте мы опережаем себя. Внутри бесконечного текста Аркадия мы действительно были далеко впереди себя прежних, каждый становился тем, кем хотел стать: слепым поэтом, бородатым поэтом, мифологизатором, благородным жуликом, архитектором, проводником. Мы выходили из себя, чуть-чуть вперед, опережая, дописывая текст, уплывающий у нас
