Лучшие поэтические книги 2014
Вспоминая невыносимо трудный ушедший год, мы решили составить список поэтических книг, которые по мнению редакции L5 заслуживают самого пристального внимания. Среди этих книг есть как те, что были отмечены престижными премиями, так и те, что не вызвали такой громкой реакции, но, тем не менее, кажутся нам принципиальными для понимания текущей поэтической ситуации.

Полина Андрукович. Вместо этого мира
Полина Андрукович принадлежит к числу «тихих» поэтов, и это означает не только тот истончающийся, почти исчезающий голос, которым она читает стихи во время нечастных публичных выступлений, но и особую фактуру речевого жеста, предполагающую тончайшие акцентуации, нежные оттенки, к которым более «громкая» поэзия, как правило, остается глуха. Эти стихи заставляют вспомнить о том повороте к «маргинальным» (в смысле тех маргиналий, что пишутся для себя на полях) речевым жанрам, который европейская и прежде всего французская поэзия пережила после последней большой войны, сосредоточившись на фиксации всего того, что ранее оказывалось за пределами руководившей стихом риторики — случайных фраз, ничего не значащих цитат, незначительных обрывков из очень важных, но остающихся непонятными разговоров и т.п. (здесь можно вспомнить о Рене Шаре, Андре дю Буше, Анне-Марии Альбиак — может быть, появление французской речи в книге говорит о внимании Андрукович к этим поэтам). Задачу этих стихов можно трактовать как антропологическую: всё то, что должно было оставаться за пределами литературы в прежние времена, помещается в ее центр, становится основой не только любого высказывания, но и вообще человеческой жизни. Эти стихи стремятся запечатлеть саму эссенцию бытия — ту «плоть мира», которую можно различить лишь в просветах между загромождающими восприятие крупными вещами, от созерцания которых Андрукович предлагает отказаться, чтобы прийти к более внимательному и, в то же время, ясному взгляду на мир.
Кирилл Корчагин (поэтический журнал «Воздух»)

завяла связь добра и зла
и на ладонь взошло
Пустое качество
начала земли богов и стало
грустно той грустью, что ушла
в начало
свое и там покрылась
патиной добра и зла
и уж неузнаваема как грусть,
но только как
война
Анна Глазова. Опыт сна
Стихи Анны Глазовой до сих пор выглядят непривычными для большого круга читателей русской поэзии. В первую очередь это связано с тем, что она исходит из других «точек отсчета» — с одной стороны, это мировой поэтический контекст XX века, включающий в себя и Осипа Мандельштама, и Эмили Дикинсон, и Пауля Целана, с другой — традиция «поэтически написанной философии», обращающейся к поэтическим текстам не как только к художественным, но как к онтологическим феноменам (Мартин Хайдеггер, Ганс-Георг Гадамер, Морис Бланшо). В то же время, несмотря на то, что эти стихи ведут внутренний диалог со множеством поэтов и философов, от их читателя не требуется немедленное узнавание отсылок и цитат для того, чтобы стать этим стихам сопричастным. Можно сказать, что их следует понимать буквально, если сделать акцент на слове «понимать». Уже само название книги — «Опыт сна» — предельно прозрачно указывает на то, с чем мы сталкиваемся в этих стихах. Сон у Глазовой понимается не психоаналитически, не в качестве ребуса, который требует расшифровки, но в качестве именно самоценного опыта. Именно по этой причине поэзию Глазовой нельзя назвать «герметичной», какой реакции можно ожидать от читателей, не привыкших к чтению такого рода стихов; перед нами не шифр, затрудняющий понимание того, что «хочет сказать автор», но опыт сна как таковой, расположенный в пространстве поэзии, как месте, понимаемом как «мыслимый край между явью и сном».
Никита Сунгатов

вблизи цветов пахнет костром
потому что они себя жгут
для обогрева нетопленных дней.
не опаляет их жар
а опыляет
возрастающим светом отверстое
на все стороны небо.
персть перстами,
пыль пальцами удержи,
пусть на тебе увядают
дни, остывает до пепла белый свет дня.
Григорий Дашевский. Несколько стихотворений и переводов
В посмертную книгу поэта, переводчика и критика вошли как оригинальные тексты, так и переводы (главным образом — из авторов эпохи модернизма). Надо сказать, что для Дашевский предпочитал не различать два этих множества (которые на деле оказывались, так сказать, «малостями» — я имею в виду объем написанного и опубликованного): так, в предыдущих книгах оригинальные тексты смешивались с вольными, но в известном смысле и точными, переводами, а сами переводы насыщались современными реалиями. Причем речь шла не об «осовременивании» классических образцов, чтобы сделать их более доходчивыми или по-кибировски обсмеять. В случае Дашевского тот или иной классический текст оказывается пропущенным не только через зрение блестящего выпускника кафедры классической филологии, невероятно чуткого к чужому слову, но и человека, реагирующего на него специфическим образом, неотделимым от проблематики телесности.
Денис Ларионов (поэтический журнал «Воздух»)
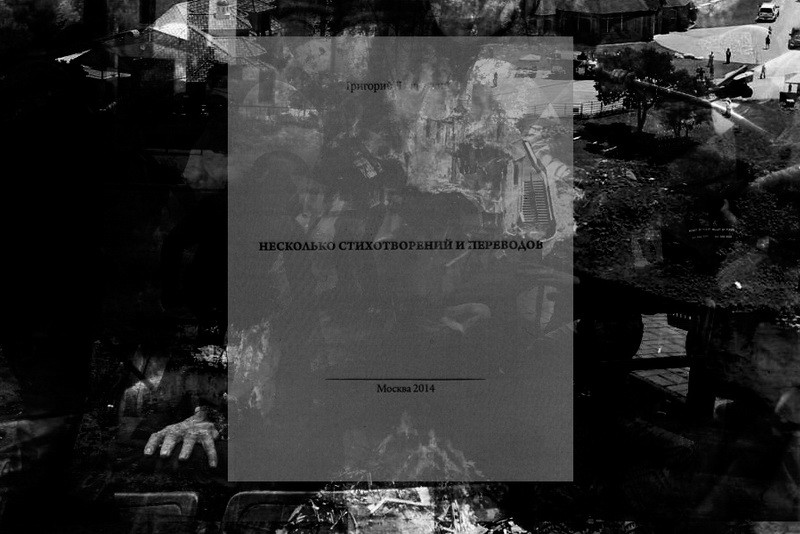
НАРЦИСС
Ну что ж, пойдем. И может быть, я встречу
тебя, а ты меня, хоть и сейчас
мы вместе. Мы в одном и том же месте,
которое мне обозначить нечем,
и кто из нас двоих узнает нас?
Наш облик, как и путь наш, неизвестен.
Вот наступает вечер. Небо ищет
в асфальте впадин, заливает их
водой и долго смотрится в тротуары.
Так сумерки, сияя нищей
зарей витрин и парой глаз твоих,
становятся дождем везде и в паре
твоих глаз. Дождь
молчит: ни да,
ни нет. Ну что ж,
пойдем туда,
где Спи спокойно на граните
прочтем или Спокойно спите
без снов и никому не снясь,
где с высоты на вечер пролит
холодный взгляд и небо строит
зеркальный сад и сразу в грязь
сбивает яблоки глазные —
они соскальзывают вниз
и там текут, уже слепые.
И вот вокруг становится темно.
Лишь небо светло, как Нарцисс
в глубокой тьме ручья.
Он жив, блаженно дышит.
Прохладная струя,
то волосы колышет,
то мягко стелет дно.
На что весь вечер просмотрел он
и что в ответ ему блестело
или сверкало как гроза
слилось с ним наконец в одно
легчайшее немое тело,
закрывшее глаза.
Ян Каплинский. Белые бабочки ночи
Это — первая книга эстонского поэта Яна (Яана) Каплинского, написанная им на русском языке. Сам автор характеризует себя так: «…как поэт, я одновременно и модернист, последователь Элиота и Рембо, и традиционалист, восхищающийся народной поэзией финно-угорских и славянских народов. К тому же, я отношусь ностальгически к старой, дореволюционной русской орфографии, и сам часто в старой орфографии пишу» (часть тиража книги действительно вышла целиком в старой орфографии). К этому самоописанию стоит добавить и любовь автора к русской поэзии «золотого» и «серебряного» веков, и его ипостась переводчика традиционной китайской поэзии (Ли Бо, Ду Фу). На пересечении этих, выглядящих чуждыми друг другу, традиций, располагается письмо Каплинского. Пожалуй, было бы просто сказать, что в его стихах мы слышим эхо, доносящееся до нас со стороны небывшего прошлого, что они представляют собой своеобразный экспонат из музея альтернативной истории русской литературы, где традиция европейского верлибра успешно легла в почву, удобренную метафизикой Лермонтова и Тютчева. Однако, удивительным образом, эти стихи абсолютно современны: невозможно представить их написанными в другое время, неважно, произведена или нет реформа орфографии. И, кажется, автор книги тоскует не только (и не столько) по дореволюционной орфографии, но по исчезнувшему миру — «миру Аристотеля, а не Витгенштейна», миру, где еще позволено говорить, «о чем невозможно». Не случайно, что один из сквозных мотивов книги — мотив самоисчезновения. Субъект, населяющий эти стихотворения, ощущает себя призраком, бродящим среди обломков старого мира, не находящим себе места. Именно такое, «призрачное», существование соединяет между собой разные языки и традиции, делает встречу двух миров возможной.
Никита Сунгатов (поэтический журнал «Воздух»)

Вы постучали не в ту дверь нажали не на ту кнопку
тут уже давно нет меня нет ни Яна ни Яана
а фамилия также не та ее давно сменили
вместе с фотографией — тот кто там изображен
давно уехал неизвестно куда и его подпись
расплылась на мокрой бумаге и так же неразборчива
как те страницы что он оставил на столе
вместе со старой трубкой и коробкой спичек
и томиком стихов Алвару де Кампуша
на чьей пыльной обложке чей-то палец
начертил что-то похожее на знак который
уже давно потерял всякое значение
Алексей Колчев. Лубок к родине
Ушедший от нас в этом году Алексей Колчев — поэт русской провинции, но эта провинция увидена им из своеобразной макабрической перспективы, перспективы посмертного бытия — тот, кто оказывается здесь, обнаруживает себя в «зомбифицированной» реальности и постепенно сам становится ее частью. Но и поэт не изображает этот мир со стороны, его нельзя назвать бесстрастным наблюдателем — напротив, он погружен во все, что происходит на этих проклятых землях. Он словно бы замаскирован под окружающих его живых мертвецов, готов поставить знак равенства между собой и ими и, видимо, чувствует, как постепенно становится одним из них. Эта фигура поэта одновременно принадлежит описываемой реальности и отторгается ею: только поэт может дать голос бормочущим зомби, но в качестве платы за это он сам должен стать одним из них. Та «зомбифицированная» речь, которая слышна в стихах Колчева непосредственно основывается на языке новейшей русской поэзии, но этот язык словно заражен тем вирусом, что превращает провинциальный мир в мир зомби, — его ткани и органы причудливым образом изменяются и превращаются в нечто совсем иное.
Кирилл Корчагин («Новое литературное обозрение»)

всё прах и тлен лили марлен
всё только прах и тлен
и страх и плен твоих колен
и трах и член — всё тлен
и гуинплен и чуингам
упавшие к ногам
пляши и пой лили марлен
над праздничной толпой
пусть щупает тебя слепой
ладонью и губой
тебя твой облик голубой
а ты пляши и пой
пусть развевается чулок
слетевший с полных ног
тебя поднимут на штыки
тебя лили марлен
тебя разрубят на куски
и юноши и старики
их содрогания сладки —
от счастья и тоски
ты всем нужна ты всем жена
нежна обнажена
всё прах и тлен лили марлен
всё только прах и тлен
Василий Ломакин. Стихи 2003—2013 гг.
Стихи Василия Ломакина могут вызывать у читателя возмущение, отторжение и даже — ужас, отвращение. Однако это поверхностный эффект жесткой инфернальной оптики с вкраплениями некроэротизма, внешне сближающий его с представителями «южинского кружка» — метафизическими реалистами Юрием Мамлеевым, Евгением Головиным и другими. На самом же деле эта поэтика вбирает в себя и деконструирует фактически все направления русского модернизма — от футуристической зауми до эмигрантской «парижской ноты». Деконструкция и расщепление привычных нам поэтических языков совпадают с ощущением раcпада и общего разложения «русского мифа», собственной культурной идентичности. Страна Россия предстает как чудовищных размеров политическая рана. Красное в стихах Ломакина течет, сочится, взрывается, заволакивает все поле зрения. Этот достаточно жесткий апокалиптический пейзаж одной страны уравновешен отчасти языковой абсурдистской игрой и зловещей иронией. Только здесь языковая игра существует не ради игры — она служит знаком невозможности сказать «так, как есть», сказать реалистически. Как говорил Славой Жижек, перефразируя Теодора Адорно, не поэзия невозможна после Освенцима, а реалистическая проза. То же самое можно сказать и по отношению к описательной поэзии. Все стихи, собранные в книге, — это, безусловно, гражданская лирика, явленная в непривычном виде и ракурсе. Она не обращается «к народу» и не преследует никаких дидактических, этических и политических целей, а демонстрирует невозможного субъекта русского гражданского общества, тело которого состоит из бесчисленных травм прошлого (и прошлых политических режимов) и не менее жуткой действительности, явленной в аду языка. Такой субъект может позволить себе лишь непозволительную дистанцию по отношению к объекту высказывания — своей стране, буквально, вырвавшись из нее, переместившись в ничто.
Галина Рымбу

В лесу умирает пехота
На небе качаются бомбы
Упала зелёная рота
Боками на красные ромбы
Читает над ними кукушка
Крестясь на широкие кроны
Что элементарные избы
Уже фрагментарной отчизны
Есть имя и смысл обороны
…звереют на небе перуны
Темнеют крылами Законы –
Вы, красные миллиарды
Зелёные зиллионы
Я только подёрну гробами
Ударю раскрашенный шар
И лес со своими дубами
Порву на сверкающий пар
Кирилл Медведев. Поход на мэрию
Кирилл Медведев известен не только как поэт, но и как политический активист левых взглядов, основатель «Свободного марксистского издательства» и лидер группы «Аркадий Коц», причем свою политическую позицию он артикулирует не только в публичном поле, но и в стихах. Что позволяет говорить не просто о «гражданской лирике», а об активистской поэзии, поскольку опыт политической борьбы (как перформативной, так и той, что происходит внутри лирического субъекта) определяет не только содержание, но и форму этих стихов. Действительно, на первый взгляд, они довольно легки для восприятия, а многие — близки к песне. Политическая борьба здесь — это борьба сердца, честность и страсть, борьба за голоса угнетенных. Однако изнанкой такой страсти является глубокое отчаяние, осознание невозможности немедленного освобождения и перемен. Отчаяние порождает утопическое волшебство: их
Галина Рымбу

если у вас какие-то проблемы советую выйти в выходной день
в составе группы антифашистов на вечернюю Мясницкую возле кафе «Муму»
и под злой аккомпанемент гудков за спиной двинуться по проезжей в сторону центра,
выйти на прекрасную пустую Лубянку
проходя мимо ФСБ подумать о том,
что когда-нибудь мы пройдем здесь так
что ничего не останется от этой вонючей цитадели,
обогнуть ее слева, удивиться тому,
что охрана никак не реагирует и чуть ли не отдает вам честь,
дойти до Кузнецкого под крики Свободу Денису Солопову и донт стоп антифа
ощутить с легкой эйфорией, что центр сегодня наш,
возле приемной ФСБ увидеть как товарищ опрокидывает железное ограждение,
как на него кидается полицейский, как те кто рядом оттаскивают полицая, пройти по Кузнецкому удивляясь почему же
расслабленно сегодня, выйти на Тверскую нагло втридцатером
перегородить одну сторону Тверской и наконец заметив ментовскую машину за спиной рассеяться на подходе к Охотному,
имейте в виду, что все это конечно не панацея, это вообще не лечение,
это самоцельный политический акт и ничего больше
так что если у вас какие-то проблемы то через некоторое время
все равно придется искать решения
но антидепрессанты уже не помогут, психотерапевтические сеансы
не помогут, книги и диски не помогут, не поможет все то во что вы зарываете
свои жизни считая это печальной, но единственно возможной
участью свободного человека.
Андрей Поляков. Америка
Эту книгу целиком занимает одноименная поэма — поэма, повествующая о джазе, но, в то же время, и о смерти, о быстротечности времени. Смерть возникает на полях этой поэмы, словно тот, кто говорит с ее страниц, не решается обратиться к ней напрямую, но в то же время трудно избавиться от ощущения, что именно ей подвластны и снег, и джаз, и зажигалка «Zippo» («для фронта выпускали чёрного цвета»), и все прочие вещи, которые возникают здесь. Стихи Полякова последних лет в большинстве своем ищут способ говорить о смерти: они походят на заметки путешественника, прозревающего за отдаленными холмами страну мертвых, но все же не решающегося проследовать туда. Со времен Свидригайлова известно, что значит уехать в Америку, но примерно тот же маршрут ждет путешествующего в Китай (одна из предыдущих книг поэта называлась «Китайский десант»). Для Полякова обе эти территории сугубо фантазматичны — это страны, населенные то ли мертвыми, то ли заснувшими в снегах. Но важно, что не только герой Полякова стремится в царство мертвых, но и то, что оно, в свою очередь, присылает в этот мир своих представителей — «китайский десант», чье присутствие делает границу между мирами особенно зыбкой.
Кирилл Корчагин (из предисловия к поэме «Америка»)

Где огни индевеющих окон
(леденеющих засветло птиц)
следуют стеклянным путём,
здесь, где снег исчезает,
где поэма-пластинка себя повторяет,
это есть, это проза, ты прав,
это — проза,
она — только снег
только тихо скользящего Бога
во движении после снегов
по асфальтам чужих берегов.
Видишь тени ушедших богов?
Это — ночь на пластинках Америки,
где бывает забытых имён.
Это есть,
это ночь
цвéта чая и дыма,
там,
вдали от холодного Крыма,
там, где я на словах знаменит —
но всё больше на длинных, на долгих,
словно поезд протяжных,
словах…
Анастасия Афанасьева. Отпечатки
В новой книге Анастасия Афанасьева продолжает линию, обозначенную несколько лет назад в сборнике «Белые стены»: здесь мы видим достаточно напряженную лирику, в рамках которой всегда проблематичное «я» стремится понять, какие же отношения связывают его с не менее проблематичным «мы». При этом обе этих инстанции, имеющие конструктивный характер, не могут существовать друг без друга. Эта ситуация многажды проговаривается в текстах Афанасьевой, что некоторым образом снимает присущее ей напряжение: думается, как никто из авторов ее поколения, Афанасьева занята поиском тем и языков, которые могли соединить как прошлое и настоящее (один из центральных циклов книги посвящен позднесоветскому времени), так и различные «зоны» сегодняшнего дня, представленные, правда, как идеальные ситуации. Афанасьева, быть может, несколько прямолинейно, но все же не без некого опережения разрабатывает темы, которые более характерны для современной критической теории — проблематику травмы, памяти и т.д. Подобная перегруженность смыслами вступает в диссонанс с «невесомостью» представленных в книге текстов, проходящих через читательское восприятие так, как их персонажи переходя сквозь воду, туман, время. Необходимо специальное читательское усилие, чтобы «утяжелить» эти стихи, позволить культурному багажу совпасть с повседневностью, и, надо сказать, что такое усилие нередко воздается сторицей.
Денис Ларионов (поэтический журнал «Воздух»)

Людям свойственно ошибаться.
Поэтому он старался
Все больше и больше
Быть похожим на человека.
Две руки уже выросли вместо
Щупальцев длинных,
Две ноги
Вместо круглых присосок.
И глаза все больше и больше
Привыкали видеть
Что-то нечеткое, размытое
За горизонтом.
Что-то такое,
И двурукий двуногий становится
Еще и крылатым
Что-то такое, отчего ноет
В области внутренней трубки,
И она чем дальше, тем больше
напоминает сердце
