Ростислав Амелин о поэтической серии "Поколение"
ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Обновленная серия «Поколение» выпустила четыре дебютных книги молодых поэтов: Вадима Банникова, Оксаны Васякиной, Ксении Чарыевой и Нины Ставрогиной. Краткое предисловие к серии говорит о смещении приоритетов: «В последние годы мир стремительно меняется, вместе с ним меняются и способы поэтического письма, и наиболее чувствительными к этим переменам оказываются молодые поэты — те, что выросли среди социальных сетей и были вынуждены заново открывать для себя поэтику и политику». Мир стремительно меняется, меняются представления о мире, но каковы масштабы происходящих перемен?
Паблики, посты, коментарии, статьи, стихи, ленты, боты, реклама, книги — носители человеческой воли к сообщению вплетаются в быт как никогда. Информации все больше и все больше ее неоднородность. Различные форматы вращаются вокруг общих тем, обмениваются новинками, порождают гибриды — некоторые способны к дальнейшей жизни, некоторые исчезают. В такой информационной мультивселенной поэзия оказывается лишь небольшим языковым миром на периферии — в нем, как и в других мирах, множатся ветви методов, практик, традиций, там рождаются и гаснут «звезды», на местах «сверхновых» возникают «туманности». Но есть и некая «темная энергия», которая, оставаясь неопределимой, движет этим расширением. При современной скорости расширения информационного пространства возникает новое явление — миры начинают сталкиваться, и мы, читая о несопоставимых фактах, слыша несопоставимые мнения, оказываемся жертвами этих столкновений.
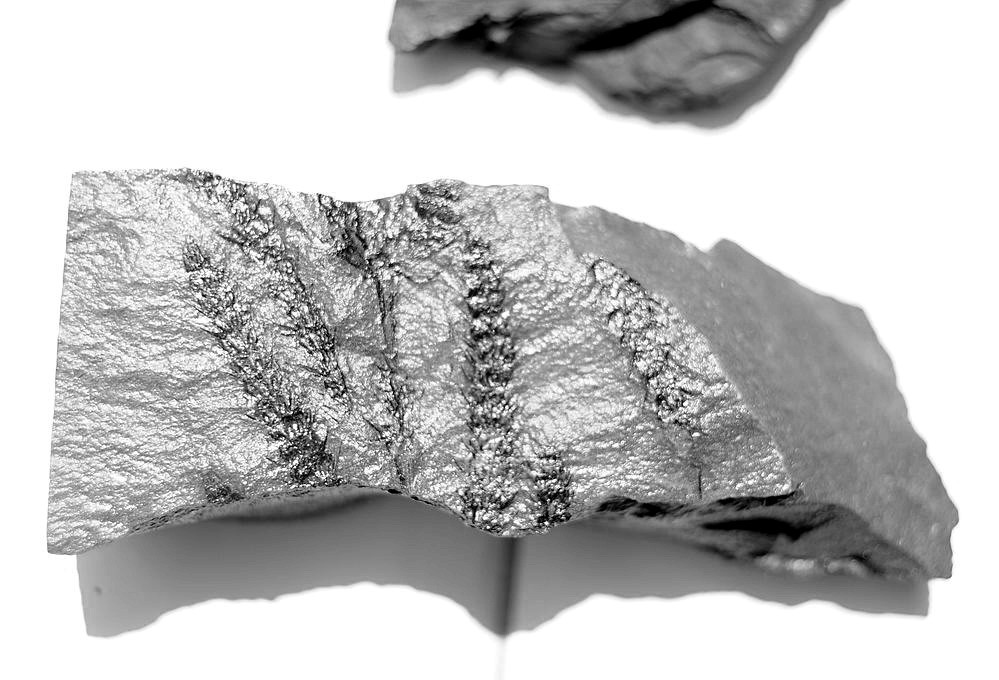
Поэт новейшего времени особо чувствителен к катастрофическому опыту — вся его практика предопределена им. Поэты, о которых пойдет речь, обретают себя на границах самых отдаленных друг от друга миров, сталкивающихся друг с другом и порождающих глубоко индивидуальные поэтики, — всем им удается объединить в собственной практике и то, что считается классическим, и то, что еще недавно считалось далеким от поэзии; к каждому поэту необходим особый подход, потому что миры, из которых они говорят, пока еще не сводятся друг к другу. Плоскость их пересечения в одной издательской серии не поэтическая, но историческая — в этом отношении «Поколение» не изменяет избранной десять лет назад повестке.
Творчество Вадима Банникова подкупает и одновременно пугает своим объемом — неисчислимы записи на странице поэта в «Facebook» или «Вконтакте». Эта поэтика всеядна и едва ли в русской поэзии когда-либо существовала более всеядная поэтика. Мало кто из поэтов способен на такую формальную свободу и сложность. Я не могу понять, что это: концептуальный проект, эстетический жест, графомания, гениальность, будущее? Я встречал разные мнения о стихах Банникова — и восторженные, и брезгливые. Но это особые стихи — именно по ним проходит актуальная эстетическая граница, и пересекать ее пока что запрещено.
Несколько лет назад эти стихи впечатлили меня сложной и непонятной архитектоникой: я обсуждал их со знакомыми, но мнения о них оставались противоречивыми. Причиной этому переживания, которые (у меня и у моих литературных друзей) они вызывали — в первую очередь, непреодолимое желание весело хохотать от удивления. Лучшие стихи Банникова — это веселые стихи: они заставляют читателя стать сопричастным нелепой языковой ситуации. Ситуации, которые воссоздает Банников, — это не комедия, и не ирония, а прикол. Прикол, основной поэтический инструмент Банникова, с одной стороны, свободен от ироничности концептуалистов, а с другой — от утопических порывов русского авангарда.

Для понимания, «в чем прикол», необходим контекст ситуации «до прикола»; так же работает анекдот — не ударной фразой, а предысторией, которая превращает последние слова в смешные. Пространством неисчислимых приколов для Банникова оказывается русский сетевой мир: поисковики, новости, стихи, посты, переписки, боты и т.п. Несравненный прикол Банникова рождается из нелепого столкновения контекстов, угадывающихся за разрозненными фрагментами речи: египетские пирамиды напоминают финансовую пирамиду / схожую с нашумевшим ммм / разные люди поступают к нам / кто илью муромца видел / у кого полный рот жучков там / прослушки на зубах / а труп пришельца после скандальной / пресс-конференции больше никто не видел. Стилистическая фрагментарность этих стихов не случайна — созвучия и повторы делают их музыкальными в обход традиционных поэтических приемов. Отдельные строки могут звучать банально или нелепо, но в рамках целого они обретают поэтическое значение.
Читая ленту или новости, можно найти парадоксальные созвучия в идущих друг за другом информационных блоках — прикол Банникова в особой философской глубине и при этом свободе найденных созвучий: иногда некоторые вещи / кладутся в основу моего понимания / некоторые вещи я забываю / положить себе в эту основу. Составителю книги, поэту Никите Сунгатову, пришлось изучить весь корпус текстов Банникова (а этот корпус уже, должно быть, сопоставим с корпусом стихов Пригова), и в итоге получившаяся тонкая книжка «Я с самого начала тут» показывает лишь одну из граней этой сложной, прикольной поэзии.
* * *
заголовок:
пушкин разрулил ситуацию на майдане
[в рабочей поездке владимир
владимирович авангард
посетил места / юности поэта
это успокоило противников кровавого и
тоталитарного режима / и они
подали петицию о сво ем
поражении / и изъявили
ходатайство о поражении в правах
аналитики не исключают, что
при посещении мест иных
временных периодов активности
солнца русской поэзии
авангард вв все же останется у руля
тогда как сейчас он на коне
]
Если стихи Банникова намеренно несерьезны, то «Женская проза» Оксаны Васякиной — это, напротив, серьезный эпос об экзистенциальном подвиге.
Книга разбита на отдельные лирические фрагменты, которые стремятся уловить парадоксальную историчность события на фоне общей сиюминутности контекста. То, что видит субъект этих текстов, как бы находится на расстоянии от него, но он сам при этом остается вовлеченным в происходящее, и это вызывает на первый взгляд неожиданные ассоциации со средневековой балладой или античной идиллией: за эпическим размахом (с его трагическим и героическим пафосом) всегда виден повествователь, отстраненный участник исторического действа.

В книге много действующих лиц, как правило, женщин (Клавдия Ш., Анжела, Катя, Люцида, Полина, мама, Медея и т.д.), но «Женская проза» — это, как ни странно, стихи мальчика: Я маленький мальчик в яблоневом саду. Под ногой лопнул сгнивший плод. И трагическое, и героическое в этих стихах раскрывается в битве пола на поле тела субъекта: повествователь становится женщиной, но не меняет пол, а скорее находит и забирает его как награду — как руно, добытое посредством жертвы, но не украденное, а, напротив, возвращенное: в этом смысле «Женская проза» — книга о становлении собой в современном, избегающем точных определений мире.
Оксана Васякина напрямую связывает борьбу (не политическую, а скорее «физиологическую», внутреннюю) и любовь, воспринятую через призму средневековой поэзии; представления о своеобразном рыцарстве красной нитью проходят через всю книгу: Как поверх моей Кати вьются сосунки, я вижу. / Надеваю доспехи, надеваю сапоги / И иду, чувствуя запах их молодых ладоней и юных / немытых волос. Но это борьба не за любовь, а скорее за зыбкую возможность любви: запертое в омертвевших от самоконтроля телах, похожих на деревья, имманентное человеку чувствование (секс) обретает своего рода растительную природу: Она прикасается к моей груди / И говорит — я ничего так не люблю, / И их берет в кроткие руки, / Аккуратно примеривая в ладонях, / Как апельсин.
Если «секс — это пустыня», то «смерть — это автобус», «это голое», и как невозможно отделить либидо от мортидо, так невозможно полностью завладеть ими обоими. Битва пола за право на секс и смерть становится равнозначной битве за свободу в современном мире, который, хотя и принимает ее с трудом, тем не менее, преображается под ее воздействием. Эта книга повествует о трагической и героической (внутренней) борьбе многих женщин, и в этом ее социальная значимость.

Мир «Женской прозы» — это мир, где чувствовать или запрещено, или невыносимо — субъект здесь как бы «приморожен», отстранен от переживания на расстояние рефлексии; назвать болезненные вещи своими именами и промолчать о них, чтобы вещи сами заговорили о себе в первых лицах. В силу этого книга Оксаны Васякиной исполнена особой экзистенциальной правды, и эта правда — одно из главных ее художественных достоинств.
Мир «Женской прозы» не герметичен; его отличает глубокая вовлеченность в знакомую читателю реальность, открытую не в книгах, а в труде, в быту, в постели, в политическом; пафос этой книги направлен не на литературу, а скорее в сторону от нее, и в этом заключается ее важный для наших дней подвиг.
***
Я открываю окно, там голуби ждут еды, и листья опали,
Я открываю окно, чтобы кислород поступал в нашу комнату.
Ты спишь уже очень давно на своем диване,
И я подхожу погладить твои маленькие бархатные уши,
И ты не просыпаешься, а только постанываешь во сне.
Ты так долго спишь.
А я сплю на матрасе со стеклянной бутылкой от
гранатового сока,
В неё я наливаю горячую воду и кладу между ног.
Ты не просыпаешься, я не вижу тебя с открытыми глазами.
Я вспоминаю:
Когда мы встретились,
Я смотрела на тебя и думала —
Эта маленькая женщина с руками похожими на лапки Спасет меня от всего,
От темноты и скуки, от грязи и распущенности,
От меня самой.
Но ты спишь уже очень долго. И спасение ни в чьих руках.
Оказаться «На совсем чужом празднике» с одной стороны неприятно, а с другой — непросто. Получив такое приглашение, уже довольно известная поэтесса Ксения Чарыева не понимает, зачем ей туда идти, если теплой компании не предвидится, а само приглашение выглядит как формальность. Тем не менее, она принимает это приглашение в своей поздней первой книге.
Среди трех прочих эта книга по своей структуре наименее однородна, а по языку наиболее традиционна; музыкальная и визуальная образность этих стихов отсылает к уже привычным для поэзии нулевых отношениям вещей и событий, но в них есть и нечто, ускользающее от любых определений —атмосфера и внутренний объем. Пускай эти понятия кажутся неоднозначными и расплывчатыми — поэтика Чарыевой избегает однозначного и конкретного, и в этом ее специфическая красота и сложность.

Вежливо обходя стороной актуальные практики ровесников и поиски старших, Чарыева чувствует себя собой, не нуждаясь в демонстрации или настаивании. В следующих строках принципиально нет никакого подвига или решения, они словно говорят о том, о чем говорят: когда мне грустно / шли мне открытки с изображениями гоночных автомобилей / чтобы я чувствовал, будто все время думает обо мне / кто-то легкий / и быстрый.
Конечно, за этой «легкостью» стоит кропотливая поэтическая работа: перед нами редкое для молодой поэзии мастерство, кинематографическое по своей природе. Ксения словно бы говорит только то, что не может не сказать: как из пожара ношу из стиральной машины / всегда как впервые / жалкие вещи, тяжелые, еле живые / часто в дороге одна или две погибают, но внутри целого отдельные и самые необходимые слова обретают драматургическую глубину. Все это свойственно и стихам Оксаны Васякиной, но если эстетическая доктрина последней близка к триеровской «догме», то Чарыевой ближе «новая волна».
Порой создается впечатление, что стихи этой книги складываются из отрывочных сообщений, отправленных по социальной сети и не требующих (не ждущих) ответа. Стихотворение может вырасти из дружеской переписки, но контекст его создания останется скрытым, так что читатель порой только догадывается, что происходило в жизни поэта.

Основные ноты этой книги — неопределенность, потерянность и утрата: неправда, что я жду автобуса / и что еду в автобусе, ложь или: трудно определиться что взять / тетрадь или прообраз тетради / с вечера собирая рюкзак, или: а я? / разве это я? / я не я. Возможно, именно в этом ключ к возникающей здесь особой лирической атмосфере: тишина поставила эти стены / золотого белого кислорода / не пропускающие перемен, а / только саму свободу / и теперь оставила нас в покое / ты не слово я не другое слово / скорее что-то вообще другое / передай другому предай другого.
Запрет на вторжение и присвоение, запрет на борьбу и победу — тяжелая поэтическая аскеза; балансирование на шатких границах вещей ведет либо к растворению в них, либо к бесконечному поиску постоянно ускользающего я. Герою этой книги легче в поэзии, чем в жизни — это дарит стихам Чарыевой внешнюю легкость и внутреннюю тяжесть. Если поэзия Васякиной манифестирует борьбу за обретение самости, то поэзия Чарыевой свидетельствует о нелегком труде ее сохранения. Так ощущает себя зрелый поэт, оказавшись на совсем чужом празднике жизни, желая остаться на нем собой и не занять чужое место.
***
вот бы небо и правда упало на землю! —
но не упадет никогда,
а вместо этого настанет день,
когда с неба земля полетит вместо снега
и увидев горсть первой земли на ветвях
яблони за окном, выбежим из квартиры
из подъезда — в чем были
спросонья торжественно тихие, как на совсем чужом празднике
и пойдем по земле, увязая в сугробах земли
Наконец, книга Нины Ставрогиной «Линия обрыва» может удивить тем, что она первая — столь ярко проявились в ней такие черты зрелой поэтики, как языковое и архитектурное единство, интеллектуализм, ритмическая и фонетическая уверенность, отточенность граней переливающихся философских смыслов, богатая и глубоко осознанная система символов и метафор.
Само слово «ткань» очень подходит для описания языка Ставрогиной: слово здесь тянется за словом, строка за строкой — часто требуется напряжение, чтобы уследить за спиралевидными ансамблями управлений и подчинений: Здесь не ступает / зверь, / разве только / растенье заронит / обречённые споры; / через много / молитвенных лет / зародились бы, может, / жабы — / но в мире, / какой эти клубни / ощупают мутным взором, / никому не нужны / камни из их голов, / и Плутон не планета, / и смерти / нет. Если стоит вопрос о назначении этой ткани, то, войдя в образную систему Ставрогиной, я бы сказал, что это саван. Саван тела — само-себя-переживание / пережовывание-изнутри жизнью, мучительная мистическая аскеза и телесная драма.
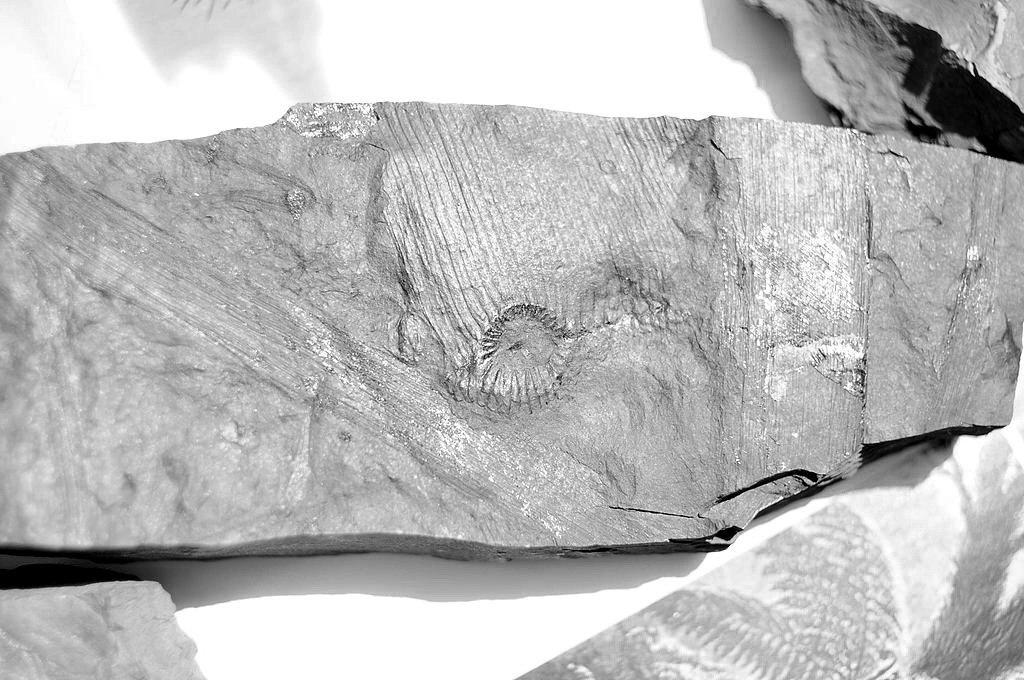
Поэтическая образность книги возвышенна и печальна, как в лучших образцах поэзии европейского модерна, но это не подделка, как может показаться, а самородок естественной огранки: «Линия обрыва» сочетает в себе особую языковую внимательность и любовь к аллегории, что может напоминать о «Tristia», столь же герметичной, архитектурно выстроенной и богатой потусторонней символикой книге: Ни облака — а небо / в молниях / трещин / над нисходящей в потемки / травой, по былинке / сражаемой, как потомство / Ниобы, Лаокоона, — / агрессией тьмы / стрел / и змей.
Отдельно хочется сказать о понятиях и именах, которыми «Линия обрыва» (как и «Tristia») очень богата. Они обращены к трем эпохам — древнему Египету, древней Греции, средневековой Европе: эти эпохи, сталкиваясь в пространстве текста, расширяют его горизонт — в потоке языка проносятся масштабные визионерские картины, выстраивающие собственный искусственный, передвижной топос: Мнимая птица, / миновавшая все / ловушки материков, / не слетевшая / ни на крошку, / смотрит — вопрос / жизни и смерти, — / как / из пучины причин / поднимается Атлантидой / безна- / чальное, нераспятое / тело. Эта книга оставляет впечатление многих пережитых лет и поднимает вопрос о природе времени и пространства, поставленный, но не решенный крупнейшими поэтами XX века.
Однако эти стихи, охваченные переживаниями космических событий, отказываются воспринимать «земное»: поэтическая дальнозоркость мешает видеть море хрупких объектов — их различия утопают в реке грамматических времен; готические соборы смыслов начинают рушиться от неловкого движения взгляда — достаточно сбиться в середине текста, и он уже не раскроется, если не попытаться ухватить его намеренно.

В этом смысле книга Ставрогиной противопоставлена книге Чарыевой, в которой поиск «истинного события» происходит на уровне ускользающей мысли. Возможно, в дальнейшем автор изберет для себя «средний» путь, где макро- и микро- смогут, взаимодействуя, создавать объемные ансамбли. Впрочем, для читателя, который заведомо готов ко внимательному и вдумчивому погружению в сакральные и мистические миры подсознательного, эта поэзия станет удивительным источником внутренних открытий.
***
Земля укачивает,
гора зыбуча,
в ногах нет правды
По шаткому
камню, кремню —
немыслимей,
чем по морю
Анти-Антей,
теряя силы
в прикосновенье к почве,
не разбирает:
сук или крест
В свете затменья,
объявшего мозг,
блазнится, уверяют,
близится, верует, айя
алетейя
В обновленной серии «Поколение» пока больше поэтов-женщин, и это отражает реальную ситуацию в молодой поэзии, где женская чувственность (вопреки политической и социальной атмосфере) переживает противоречивый расцвет. Даже Банников не оказывается в этом ряду лишним — особое положение практики Банникова в том, что она никуда не вписывается; в качестве полифонического противовеса его книга занимает в серии показательное место.
Если говорить о трех женских поэтиках, глубоко различных по своему происхождению, то каждая из них выступает как своего рода ориентир — возможность пути. Полагаю, в дальнейшем развитии эти пути разойдутся еще дальше, ведь направления, взятые Оксаной Васякиной, Ксенией Чарыевой и Ниной Ставрогиной, не сводятся ни к общей линии, ни к общему языку. Вероятно, на
