Возмущение, вызов, стыд и трепет. О призвании к ответу и исключении
16 сентября прошла первая встреча цикла Отдела практической аффектологии (в составе Леры Конончук, Ани Леоновой и Кати Пысларь) «Мутная вода», посвященного отношениям в художественном сообществе.
В последние несколько лет этические вопросы стали занимать существенное место в обсуждении искусства: все больше внимания уделяется процессу его производства и взаимоотношениям участников художественного процесса. Оптика все точнее настраивается на выявление несправедливостей и властных диспропорций, это становится частью общественного дискуссионного ландшафта. Случаи расистского, сексистского поведения, трансляция колониального отношения вызывают все более напряженную и детальную полемику. Особый акцент сегодня делается на этике труда, вопросах, связанных с достойной оплатой и условиями трудовой деятельности.
Несмотря на некоторый консенсус интеллектуально-художественного поля по поводу того, что за действиями отдельных людей, противоречащих этическим установкам сообщества и/или широкой публики, стоит структурное неравенство и структурное насилие, на которые необходимо обращать внимание в первую очередь, именно отдельные фигуры вызывают на себя медийный гнев, за которым в некоторых случаях следует «кэнселинг» — коллективный отказ от сотрудничества с возмутившим общественность человеком. При этом до сих пор не ясно, какие инструменты реагирования в условиях неработающих механизмов официального разрешения конфликтов могут быть по-настоящему эффективными. В напряжении сосуществуют этика условно позитивная, определяющая себя через внимание и радикальное принятие другого, чужого, и этика негативная, для которой важно создание безопасных пространств через о (т)граничения и запреты. Универсального рецепта для этических конфликтов (по крайней мере, пока) не существует, каждый случай сегодня становится поводом для нового пересмотра иерархий, распределения власти и переразделения на своих и чужих.
Для искусства, практики которого в XX веке во многом основывались на нарушении привычных правил и общественных норм, вопросы этики также стоят ребром. С одной стороны, искусство по-прежнему многими видится как поле, свободное от сковывающих, не в последнюю очередь этических, условностей. С другой, на фоне того, что консервативные неолиберальные политические движения апроприировали многие из субверсивных художественных тактик, искусство, которое продолжает существовать в парадигме шока и воспроизводит/транслирует на том или ином уровне механизмы насилия и угнетения, воспринимается как играющее на руку господствующей идеологии. Однако в целом уточнение того, какие поля сегодня содержат максимальный потенциал для высвечивания конфронтации, увеличивает чувствительность к социальным антагонизмам, что отражается и на содержании, и на подходах к производству работ, и трансформирует самопозиционирование художников к/внутри институции.
Обсуждение с художниками, кураторами и теоретиками коснулось прояснения понятий, в которые упаковывается озабоченность этическими вопросами в медиа («новая этика», «культура отмены» и так далее), и затронуло такие общие проблемные места, как фиксация на отдельных индивидах вместо институций, милитаризация враждующих сообществ в результате политик идентичности, вопрос возможности (и в целом необходимости) практической реализации полной отмены/исключения, недостатков существующих механизмов исправления перекосов власти и модерировании очагов ответственности — подведя к спору о специфике этических проблем поля искусства во второй части дискуссии.
Авторы реплик: объединение «кафе-мороженое» в лице исследовательниц Насти Дмитриевской и Дарьи Юрийчук, философ Лика Карева, художник Кирилл Савченков, редакторы вебзина Spectate Ольга Белова и Иван Стрельцов, художник и куратор Дима Хворостов, куратор Наталия Протасеня, художница Дарья Кузнецова и философ Роман Балабанов.
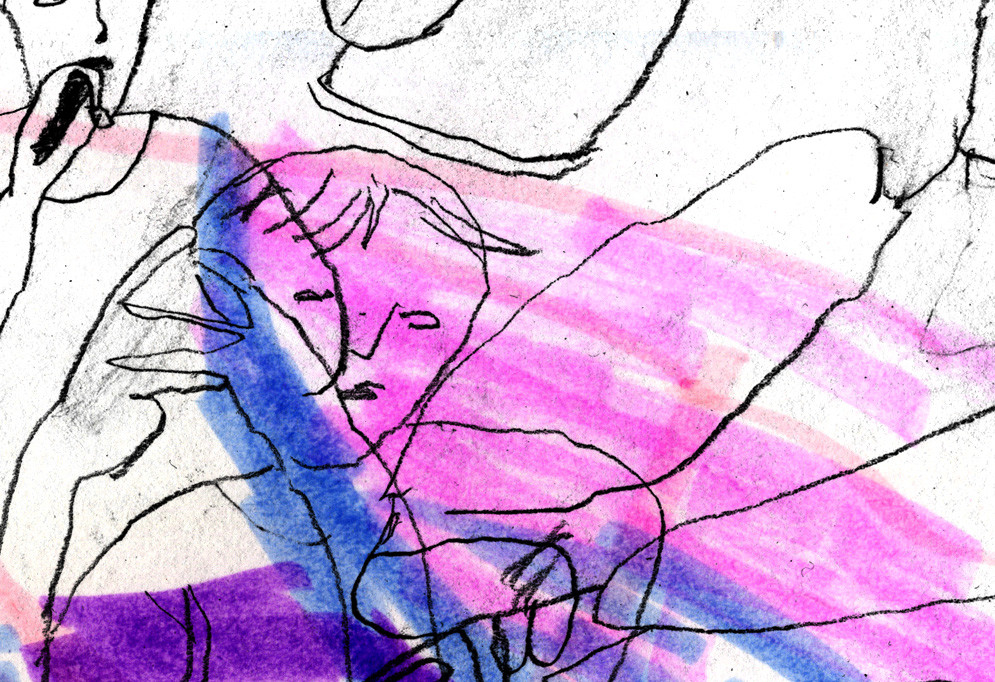
Лера Конончук: Понятие «новая этика» в том смысле, в котором мы его понимаем, то есть как культура возмущения, вызова и исключения, судя по всему, не существует за пределами российского контекста. Если вбить «новую этику» в поисковик, первой ссылкой будет википедийная статья о концепции психолога Эрика Ноймана. В своей книге «Глубинная психология и новая этика» 1949 года он делает акцент на роли бессознательного в жизни человека, на том, как бессознательное формирует наш выбор и взгляды. И связанной с этим бессознательным старой этике, которая много подавляет, вытесняет и неизбежно приводит к страданиям, он противопоставляет вот эту вот новую этику — этику принятия своей темной стороны. Иногда понятием «новая этика» обозначают новый цифровой этикет: можно ли забрасывать собеседника голосовыми сообщениями, звонить без предупреждения, слать стикеры в рабочем чате… С понятием «кэнселинг» тоже возникают вопросы. Но занятно, что, хотя пришло оно из англоязычного твиттера, оно ироничным образом происходит из мизогинной шутки. Первое упоминание понятия «кэнселинг» в том смысле, в котором мы употребляем его сегодня — исключения человека из сообщества, прерывание отношений, игнорирование на публичных площадках — относится к фильму New Jack City 1991 года, в котором герой Уэсли Снайпса, гангстер, бросает свою впавшую в истерику девушку со словами «Cancel that bitch, I’ll buy another one», «Закэнсели эту стерву, я куплю себе другую». Вот такая противоречивая этимология у этих понятий. Обращаюсь к гостям: как нам понимать и интерпретировать эти термины сегодня, в условиях нашей специфики? Полезны ли они, есть ли смысл за них держаться, уточнять?
Настя Дмитриевская: Я бы хотела начать с принципиального возмущения тем, как используется и функционирует понятие «новая этика» в российском контексте. По моим наблюдениям, один из всплесков использования этого понятия произошел после публикации статьи Серого Фиолетового на ресурсе «Нож», где Серое Фиолетовое сливало в одно три разных эпизода, а именно коронавирусные ограничения, Me Too и кампанию вокруг проекта «Дау». И все это было маркировано как новая этика, которая запрещает людям желать чего-то, быть живыми, всячески блокирует свободу самовыражения. Примерно эта спекулятивно сконструированная концепция «новой этики» и продолжает использоваться. Как правило, она наделяется самыми негативными коннотациями. Я для себя сделала выбор ни в коем случае не использовать это понятие, потому что оно максимально мутное. И в cancel culture тоже чувствуются эти преимущественно негативные обертоны. Однако если мы будем понимать cancel culture как «призыв к ответу» — для меня это более приемлемый вариант.
Дарья Юрийчук: В академических текстах, по-моему, это называется «соломенное чучело», когда ты пишешь текст, оппонируя воображаемому врагу. Мне кажется, новая этика — это такое негативное описание воображаемого противника, куда складываются непонятные, новые тенденции.
Ольга Белова: Я соглашусь с Настей, оба понятия — и новая этика, и cancel culture — максимально мутные. Их используют как ни попадя и действительно мешают в одну кучу очень много всего. Например, на выходных в рамках ярмарки Blazar состоялась дискуссия под заголовком «Новая трудовая этика», где разговор преимущественно шел о том, что художники вдруг (!) стали просить за свою работу гонорар. Примечательно, что подобные дискуссии частенько ведутся в формате «вы только посмотрите, что они снова удумали для ограничения наших свобод!». Оба эти термина, как минимум, требуют максимального прояснения и уточнения. Возможно, не стоит их использовать вовсе, а вместо этого обсуждать каждый актуальный этический вопрос в отдельности.
Кирилл Савченков: Термин «новая этика», скорее, неоднозначный; его не стоило бы использовать, потому что им обозначают целый комплекс явлений, взятый на вооружение правой риторикой. Безусловно, новые этические протоколы взаимодействия между индивидуумами нуждаются в понятийном уточнении, так как этика сегодня как никогда политизирована. В первую очередь,
Лера Конончук: Те, кого «призывают к ответу», часто говорят, что подвергаются травле или шеймингу. В чем различие между условиями травли и условиями призвания к ответу?
Лика Карева: Понятия «травля» и «шейминг» исходят от того человека, которого отменили. Мне же, скорее, интересно продолжить линию тех, кто отменяет, и продумать, каким образом возможна практическая реализация отмены от начала до конца. Если мы вообще рассуждаем сейчас об отмене, мы уже предполагаем, что такая отмена возможна, и просто отвечаем на вопрос, принимаем ли мы такую практику или нет. Однако с точки зрения отменяющих вопрос состоит в том, как возможна полная отмена, отмена от начала и до конца. Я как представительница феминистского сообщества, конечно, не раз видела попытки это сделать, однако в больших масштабах это практически ничем не кончалось. Наоборот, для человека, который занимается искусством, пишет художественные произведения или создает свою философию, уединение является самым ценным подарком, и такой подарок может ему сделать эта самая отмена. Но я не об этом: интересно, как
В действительности мы не имеем дело ни с какой тотальной отменой, скорее, с локальным корректированием процессов, каждый из которых требует отдельного разбора
Дима Хворостов: Что значит окончательно закэнселить человека? Чего бы вы хотели добиться этой полной отменой, какой бы был у кэнселинга позитивный результат?
Лика Карева: Думаю, тотальная аннигиляция!
Кирилл Савченков: Ощущение тотальной отмены производится, скорее, с
Ольга Белова: Я хочу обратить внимание на форму, к которой часто сводится призыв к ответу — это обличение и переход на личности. Я считаю такую форму крайне непродуктивной и даже вредной. Когда мы показываем на человека пальцем, шеймим его и призываем к тому, чтобы исключить человека из всех коммуникаций и не иметь с ним никаких дел, мы не даем ему шанса осознать новую реальность, подстроиться под нее, включиться в нее и начать играть по новым правилам. Естественная реакция на агрессию, а это, в общем, часто происходит в крайне агрессивных и токсичных формах, — не вступать в конструктивную беседу, а уйти в глухую защиту. И все это превращается в круг усиливающегося насилия. Но когда мы начинаем бесстрастно разбирать конкретный факт, что, скажем, не были выплачены гонорары — и говорим о том, что сейчас так не принято, а принято платить, а не тыкаем в
Настя Дмитриевская: Когда мы апеллируем к личности, это действительно часто превращается в жестокую борьбу. Но не делать этого мы не можем, потому что именно конкретная личность совершает те или иные противоречащие этическим нормам поступки. Однако обращаясь к персоналии мы, безусловно, затрагиваем и структурные вопросы. Мы не можем сказать, что в ситуации «Немосквы» виновата только Алиса Прудникова. Это не так, потому что вся система искусства работает странно, и большие проекты делаются с большими трудностями. Апеллируя к ней как к наиболее ответственной за всю эту инициативу персоне, мы разбираем и структурные факторы. Мне кажется, это две неразрывно связанные между собой вещи.
Ольга Белова: Они, конечно, связаны между собой, но при этом, когда мы начинаем бросаться обвинениями и обзывательствами в сторону «функционеров», мы закрываем для себя возможность уважительного диалога, поэтому мне кажется важным максимально долго держаться в рамках экологичного разговора.
Дарья Юрийчук: Обзывания начинаются, когда тебя очень много раз не слышат. Ты без конца повторяешь «Пожалуйста, не нужно меня лапать» или «Пожалуйста, заплатите мне, в конце концов, деньги». Ты начинаешь злиться, и именно твоя злоба, а не то, чем она вызвана, становится проблемой. Я сегодня со студентами перечитывала «Феминисток-кайфоломщиц» Сары Ахмед. Она указывает на этот парадокс: ты своим возмущением, попыткой прекратить насилие ломаешь кайф, то есть статус кво или некий здравый смысл, который все разделяют, то это ты создаешь проблему и воспринимаешься поэтому причиной проблемы. Зачастую, когда мы говорим про cancel culture, мы проблематизируем гнев, а не структурные проблемы, которые послужили причиной этого гнева. Поэтому мне кажется, что сама эта терминология, которую мы пытаемся здесь разрабатывать и обсуждать, немного уводит нас от проблем, о которых мы изначально хотели говорить. А гнев же может быть хорошей стратегией, чтобы в конце концов привлечь к проблеме внимание. Понятно, что никому не приятно быть злой феминисткой, охреневшей художницей, которая «что-то там требует за свои усилия», но мы идем на это, потому что больше ничего не остается. Мы тоже бы хотели быть клевыми, циничными, чтобы нам все просто так доставалось. Но у нас так не получается, и нам приходится быть охреневшими.

Лера Конончук: Говоря о личности/структуре, Настя вот сказала, что апелляция к одному ответственному — это ступень на пути к раскрытию структурных проблем. Однако на деле ведь дискуссия подчас замыкается на моральном уродстве одного-единственного художника, останавливается на пришивании к месту одной-единственной фигуры. Вот художника Джона Рафмана недавно обвинили в том, что он sexual predator, хищник — что он высокомерно, уничижительно относился к женщинам, находящимся ниже его на социальной лестнице. Три большие галереи незамедлительно отменили его персональные выставки. То есть понятно, что эта моментальная реакция была продиктована опасениями навлечь на себя гнев сообщества, но можно быть уверенными, что эти галереи не сделают ни единого шага к тому, чтобы как-то нарушить существующие условия угнетения, при которых большинство высокооплачиваемых художников — белые мужчины, но при этом в художественных школах учатся преимущественно женщины, они же потом занимают позиции менеджерок и ассистенток. То есть такое быстрое нерефлексивное соскакивание галерей в этой ситуации, вот это молниеносное решение закрыть Рафмана — это способ не копать глубоко, не предпринимать шагов по структурным вопросам.
Катя Пысларь: Да, как раз структурных изменений или подвижек к ним не происходит именно
Роман Балабанов: Зачем в принципе задаваться этим вопросом, как нам отменять людей, отменять взгляды людей, пользующихся, так скажем, большей известностью? На мой взгляд, людям надо позволить говорить собственные глупости, потому что это рождает в обществе несогласие, которое в свою очередь является двигателем политики.
Кирилл Савченков: Здесь важно то, что природа наших социальных взаимоотношений, трудовых отношений, крайне сильно определяется медиа. Этика, в силу ультрамутного распределения информации в цифровых медиа, сейчас в основном строится вокруг гремучей смеси фактов, слов, хэштегов, той или иной теории, которые сейчас составляют ткань нашего политического существования. В этом смысле термины, их проговаривание и уточнение отягощены отводом внимания от структурных проблем. Институции наделены властью в трудовых отношениях, а также символическим капиталом, а значит, у них есть ответственность перед этим влиянием, поскольку это влияние шире в новой технологической реальности. Единственный способ модерировать предубеждения, в основном расистского, ксенофобного характера, рождаемые от чувства, что любые факты можно сложить как угодно, все перманентно меняется и с миром что-то не так (и это действительно так), так это создавать очаги — зоны ответственности. Повторюсь, наша структурная особенность состоит в переходе к новым технологическим и коммуникативным возможностям, к новой ситуации в политике. При этом темпы этих изменений неравномерны, поэтому мы сталкиваемся с совершенно тупейшими ситуациями, когда в нашем локальном пространстве накладывается (пост-)советский опыт и новые формы культурного взаимоотношения.
Лика Карева: Я бы дополнила позицию Кирилла об изменении технологических условий нашей коммуникации. Действительно, апеллирование к личности, которое кажется назойливым и истерическим, избыточным во всех отношениях, появилось совсем недавно — в тот момент, когда в социальных сетях мы вступили на скользкую дорожку репрезентации себя. Человеку нужно выделить из себя свой внутренний образ, сущность или ценность, что может быть делом всего жизненного пути, но теперь это требуется сделать еще до до всякой коммуникации. Соцсеть как назойливое зеркало, в которое требуется научиться смотреть — извращенный и бесконтрольный психоанализ без согласия. В
Технология — это лишь отражение процессов политик идентичностей, где каждая группа, каждое сообщество считает свою этику универсальной
Наталия Протасеня: Меня как раз очень интересует тема кэнселинга какой-то конкретной персоны в институциональном контексте. Когда конкретные люди репрезентируют институции или какое-то сообщество, то в ситуации кэнселинга часто сообщество и институция совершается акт жертвоприношения. Взять тот же пример «Немосквы». Как действует институция? Она берет конкретного человека и удаляет его из дискуссии за прошлые проступки. Но ведь человек всегда будет защищать интересы институции или сообщества, к которой принадлежит, это часть договора. И все действия им предпринимаются после одобрения со стороны руководства. Неужели Алиса Прудникова ни о чем не знала, а потом узнала и ужаснулась? В это верится с трудом. Так часто получается, что страдают конкретные люди, а Институция всегда остается чистой. Вообще сегодня сложно представить, как можно кэнсельнуть институцию. Можно кэнсельнуть определенных людей, которые выражают позицию институции, с которой могут быть и не согласны. Любую ситуацию можно вывернуть так, что станут виноватыми конкретные люди, а институция остается чистенькой. Поэтому апелляция к конкретным людям, проводящая знак равенства между человеком и институцией, которую этот человек репрезентирует, — порочная практика. Это один комментарий, а второй — более общий, я им хотела бы ответить Кириллу. Разумеется, новые технологии катализируют этические дилеммы или иные конфликты, возникающие на почве этики и морали. Однако, мне кажется, что технология — это лишь отражение процессов политик идентичностей, где каждая группа, каждое сообщество считает свою этику универсальной. Было уже много разговоров и на тему того, что не существует универсальной этики, и по поводу идентичностных ориентаций: само деление на сообщества провоцирует такие столкновения, потому что создает ситуацию милитаризации одних против других. Чем больше мы говорим в эмансипаторном ключе о политике идентичности, тем, с одной стороны, больше мы встраиваем предпосылок для подобного рода разногласий, с другой — когда мы говорим, что нет универсальной этики, мы ставим себя в неудобное положение, где возможен плюрализм мнений и легитимация самых диких взглядов. Как мне кажется, нужно посмотреть на это с точки зрения этической теории. Деление на сообщества из эмансипаторной практики вырождается в войну всех против всех, но в масштабах сообществ.
Кирилл Савченков: В условиях российского контекста институции еще не пережили тот момент, когда персоналии, их сформировавшие, сменились. Ряд скандалов, связанных с институциями, проблематизируют ситуацию несовпадения институций и персоналий, их возглавляющих. В нашем же случае эта смычка куда более проблемна. Не только
Иван Стрельцов: Вот понятно, что нужно кэнселить фашистов, насильников и так далее. Но я считаю, что то же нужно проделывать со сторонниками авторитарного коммунизма, сталинизма и маоизма. За то, что убийство нормализуется в культуре. Скажем, китайских, гонконгских активистов критикуют за совершенно непонятные вещи, что они альт-райты, например… А когда кто-то выступает в их поддержку, этих людей начинают кэнселить за критическое отношение к маоизму. Я как либертарный социалист этого вообще не понимаю.
Наталия Протасеня: Вы немного смешиваете в кучу разные вещи, у маоизма и сталинизма
Иван Стрельцов: Прошу говорить по делу. И не очень понимаю, к чему эти вопросы, просто скажу, что это моя позиция. Каждый под cancel culture понимает что-то свое, поэтому и тотальной аннигиляции быть не может. Для меня, например, неприемлемо быть маоистом или сталинистом.
Дима Хворостов: Вам не кажется, что при разговоре о сообществах в контексте cancel culture как раз и идет речь о создании новой унификационной системы. Которая действует не сверху, инициируется не с
Кирилл Савченков: Мы здесь, как мне кажется, накладываем разные системы координат. Безусловно, наш социальный опыт и ближайшие исторические примеры предлагают нам форму тоталитарных форматов нормирования, гипернормализации. Все же же ситуация несколько иная, она не предполагает создание новых норм, а, скорее, подразумевает информационное влияние некоторых концептов — со стороны тех же самых институций. Или же нормирования взаимоотношений со стороны конкретных персон, когда с их стороны происходит произвол, злоупотребление властью, ресурсом или привилегией, которые они в свою очередь нормализуют. Тут появляется и третья проблема: поскольку мы живем в неолиберальном мире, неолиберальное культурное производство берет на щит эти инструменты и вводит их в паттерн культурной политики. Так проявляется момент приватизации культуры, общественных институтов. При этом очень важно, откуда мы смотрим: если мы смотрим из России, мы видим близкие нашему представлению институты, армию, тюрьму, школу, авторитарное государство. Когда институция предлагает парадигму — да, мы правые, да, мы альт-райт, да, мы топим за правый акселерационизм, за правое либертарианство — в сообществах это порождает жесткий бойкот, выход на травлю, в других порождает только дискуссии, в
Настя Дмитриевская: Я думаю, что страх унификации и нормализации не имеет достаточно оснований для существования, поскольку призыв к ответственности происходит от разных сообществ: не целое общество обладает единым мнением по поводу той или иной проблемы, а у каждого сообщества свои требования. Одно считает, что нужно заняться проблемами труда, другое полагает важным решить проблемы странной этики сексуальных отношений на работе. И все сообщества предъявляют свои требования к конкретным фигурам, которые представляют для них угрозу. Поэтому ни о какой унификации не может быть и речи — это разные люди, разные сообщества, разные проблемы.
Дима Хворостов: Я предполагаю, что где-то в Москве может проходить дискуссия о том, нужно ли кэнселить пропаганду гомосексуализма. Получается то же самое: отдельное сообщество, выступающее с поддержкой механизмов кэнселинга, в отношении других групп, которые они считают этически несостоятельными, сомнительными.
Дарья Юрийчук: А мне интересно, о какой новой норме идет речь: не насиловать людей? По-моему, в случае сексуального контекста именно насилие является нормой. В трудовом контексте нормой до сих пор не стала справедливая оплата, что мы и пытаемся изменить.
Ольга Белова: Ты говоришь об очень ярких ситуациях, с которыми сложно не согласиться, даже если ты тот человек, который не платит зарплату…
Дарья Кузнецова: Извините, у меня вопрос. Почему никто не хочет разбираться в юридических аспектах, в уголовном кодексе РФ? За насилие можно вообще-то заводить уголовное дело, собирать улики для расследования, судиться, почему этим никто не занимается? Почему вместо этого просто происходит социальное бурление, не поддающееся абсолютно никакой критике? Насчет оплаты: что значит вам не платят? Почему не начать разбираться в рамках существующего закона?
Кирилл Савченков: Здесь есть очень важный момент, связанный с формами насилия. Не все формы насилия и перераспределения ресурсов могут быть отображены юридически или четко верифицированы на текущем юридическом пространстве. Это также связано с сообществами: у разных сообществ разные ресурсы и политическая сила, привилегии. Одни обладают существенными преимуществами по сравнению с другими, пользуются административным и силовым ресурсами по отношению к другим.

Иван Стрельцов: Я считаю, в искусстве сегодня необходимо мыслить множественностью, совместностью, понимать, что центра уже не существует. Все сводится к этому: к комплексу мнений, а не к одному человеку или идеологии.
Лера Конончук: Говоря об искусстве, как вы считаете, наше поле схожим образом отвечает на вопросы, связанные с насилием, абьюзом, расистскими высказываниями, фашистскими тенденциями, как, например, журналисты или развлекательная индустрия? Есть ли в художественном сообществе своя специфика реакции на этически возмутительное?
Лика Карева: Отвечу и на реплику Ивана, и на Лерин вопрос. Мне кажется, все не должно сводиться к простому принятию плюрализма. Плюрализм и так уже существует, идеал множественности и принятия различий продемонстрировал свою практическую нереализуемость. Мы приходим к ситуациям, при которых идет, как сказал Дмитрий, унификация снизу — да и не важно, сверху или снизу, а важно то, что унификация, то есть приведение вещей в один правильный вид — это действие, рожденное унынием, глубоким эмоциональным упадком. Возможно, связанным с тем, что идеал плюрализма оказался нереализуем. Если не от тотального плюрализма, то откуда еще можно идти? Наталия Протасеня уже отметила возможную траекторию: множественность может существовать одновременно с универсалистской этикой. Универсалистская этика предполагает общность, которую нужно определить в позитивном ключе. Сейчас схожие процессы идут в философии — попытки найти универсалистские языки. Кстати, в математике этой проблеме уже сто лет: в основе разных математик существуют различные формальные логики, то есть у нас нет одной алгебры или геометрии, а есть множество, которое исходит из совершенно разных гомологий и топологий. Над решением непонимания между математиками сейчас работает Фернандо Заламеа, на которого опирались при написании манифеста ксенофеминистки. Они поднимают вопрос формы, которая могла бы быть общей в разных обстоятельствах, но при этом не навязывала бы конкретное содержание, а была бы общей в плане ее общей доступности. Именно в этом внимании к форме заключается, на мой взгляд, отличие искусства от любого другого вида деятельности. Я заметила, что, когда мы обсуждаем художественные работы, то обращаем внимание, скорее, не на форму, а на «спущенную сверху» в работу идею, голую концепцию, совсем с формой не соотносящуюся. Однако та коммуникация, которая осуществляется посредством формы, зачастую не вербализуема, не укладывается в правила. Именно она и интересна в искусстве.
Дарья Юрийчук: В манифесте ксенофеминизма говорится о том, что то, что раньше считалось универсализмом, по сути таковым не было. Тот универсализм, который критикуют, скажем, постструктуралисты, на самом деле не был универсальным, поскольку представлял только белую западную точку зрения.
Наталия Протасеня: Я бы хотела ответить на вопрос Леры и одновременно дать комментарий к предыдущим высказываниям. Мы часто употребляем выражения «символический капитал», «культурный капитал», но при этом забываем, что разные поля — поле искусства, поле развлекательной индустрии или журналистики — они не плоские, они все иерархичны. Если мы соглашаемся с существованием символического капитала, значит, мы соглашаемся с существованием иерархий. И в условиях существования иерархий существует нынешний плюрализм мнений — это плюрализм иерархий, если хотите. Однако плюрализм иерархий вовсе не транслирует напрямую точку зрения большинства: внутри каждого поля существует своя докса, определенный канон, который формируется в силу различных факторов. Внутри сообщества существуют и иерархии, и докса. Поэтому, когда сообщества вступают друг с другом в конфликт, следует различать, кто конкретно говорит через эти сообщества. То есть никакое сообщество не гомогенно, внутри существуют свои структуры иерархии, поэтому говорить о плюрализме в данной ситуации вообще не представляется возможным. Поэтому, когда мы говорим о реакции на кэнселинг в поле художественного производства, нужно задаться вопросами об иерархии этого производства, о его законах и о сформировавших их условиях. Не стоит унифицировать все художественное производство и проводить знак равенства между теми, кто находится внизу и вверху иерархии, теми, кто обладает экономическим капиталом и политической властью, а кто — лишь культурным и символическим. Одно в другое часто переходит, кстати.
Аня Леонова: Но вот кэнселинг часто обвиняют в том, что он мешает авангардному художественному жесту, свободе выражения. Справедливо ли такое обвинение, на ваш взгляд, мешает он или нет?
Кирилл Савченков: Действительно, free speech и призыв дать всем свободу слова — это очень проблемная вещь сейчас, так как притворяющаяся свободой слова свобода ненависти стала главным инструмент альт-райт движения. Не секрет, что в большинстве случает защита слова подразумевает защиту права кого-нибудь оскорбить. Вопрос в том, насколько в этом участвует политика ненависти или политика постправды, насколько это вепонизирует медиа в борьбе за политическую и экономическую власть. Конечно же, свобода слова вещь спорная — кто будет выступать однозначно против нее? С другой стороны, именно она стала частью риторики правых в отстаивании права на ксенофобию, расизм и т.п. на форумах и в социальных сетях. В этом плане free speech становится распределенным общим местом, которому ничего нельзя противопоставить. Что касается искусства, действительно, есть художники, которые используют авангардные методы, трансгрессию, например, но при этом отстаивают совершенно четкие анархо-капиталистические, то есть либертарианские идеи, не связанные с неолиберальным консерватизмом, а с возможностью приватизации ресурса, тех или иных инструментов социального государства. Иными словами, демонтируют возможность равного доступа к ресурсам и распределения благ.
Лера Конончук: Лика, ты говорила про форму, отделяя ее от содержания. Вот здесь интересно, искупает ли, на твой взгляд, этически сомнительное содержание прогрессивная форма?
Лика Карева: Могу ответить примером из несколько другого поля. Он касается формы последнего фильма Олега Мавроматти «Полупроводник» 2019 года. Он снял его вместе со съемочной командой, с которой работал и над предыдущими фильмами. Фильм вышел сразу в двух версиях: самого Мавроматти и в версии его съемочной команды, которые отличаются названием и монтажом. И вот этот монтаж в итоге дал результат очень сильного, видимого различия в форме этих двух произведений. Форма, получившаяся у команды, вышла множественная, поддерживающая горизонтальность в своей нарезке — что сопровождалось в медиа обсуждением необходимости горизонтальности, устранения авторитарной фигуры режиссера. Форма, которую представил Мавроматти, отвечает не медиальному консенсусу, а прекрасной глубокой мысли самого произведения.
Дарья Юрийчук: Мне кажется, это вопрос не столько про художественную форму, а про то, как делается работа. Для меня важнее, как устроен процесс продакшена, каковы взаимоотношения между участниками.
Настя Дмитриевская: Отвечая на вопрос, сделаю это с воображаемой позиции кураторки. Если бы я собирала журнал или делала выставку, я бы не стала отменять работы по причине некого непристойного, на мой взгляд, содержания. Я бы просто не стала сотрудничать с людьми, чьи идеологические взгляды я не разделяю. Если я знаю, что художник или автор — либертарианец, я не буду его публиковать — для меня это выбор, который будет сделан в пользу иных персон. То есть я в первую очередь отталкиваюсь не от содержания работы, а от взглядов человека.
Дима Хворостов: Мне кажется, очень важно, чтобы отношения в искусстве регламентировались правильными договорами и художники требовали подписания бумаг. Чтобы все соответствовало системе, к которой впоследствии было бы легитимно без истерик и скандалов предъявлять претензии. Есть вот, кстати, очень интересный пример в российском сообществе, которое, видимо, не очень любит систему бумаг и всячески старается эти бумаги обходить — это галерея XL и Елена Селина, которая два года назад мне говорила лично, что она категорически против каких бы то ни было договоров; не знаю, сейчас, возможно, уже изменилось что-то. Но тогда она говорила, что ни с кем из художников не заключала никаких бумажных отношений. Мне кажется, это тоже нормальная история, потому что пострадавший в этих нерегламентированных или регламентированных в устной форме отношениях больше никогда не будет работать с этими людьми. То есть первый провал в случае отсутствия договора оказывается и последним. И это тоже вполне рабочая система, доверие это нормально. Я с большим сомнением и тревогой отношусь к случаям, как вот эта шумиха вокруг Рафмана, когда личная история человека вдруг становится причиной, которая останавливает художественное производство, то есть трансляцию художественных и эстетических сигналов. Художественная деятельность — это отчужденный продукт, который после своего выставления становится автономией. Я так смотрю на произведения искусства. Когда два этих полюса, сферы совмещаются, начинают интерпретироваться одна через другую, происходит, на мой взгляд, преступление против искусства.
Лера Конончук: Я вернусь к напряжению между формой и содержанием. Может ли наше понимание этого напряжения меняться на протяжении истории искусства, можем ли мы делать что-то, чтобы оно изменилось? Приведу пример. Теоретик искусства Анна Чейз в свое время писала важный текст о минималистах, обвиняя их в фашизме. Она утверждала, что за их обезличенной эстетикой скрывается власть индустрии и технологий, отсылала к прямому использованию минималистами фашистской символики — скажем, Уолтер Де Мария в своей работе Museum Piece использовал полую фигуру свастики, внутри которой катался металлический шарик, и это далеко не единственный пример использования нацистской эстетики. За рамками не остается, конечно, и мачизм минималистов, сквозящий в названиях и фаллической образности их работ, а также в их образе жизни и поведении. Все, наверно, помнят историю Карла Андре и Аны Мендьеты, которую первый то ли довел до самоубийства, то ли убил: неизвестно, что именно произошло, но она во время их громкого спора вышла в окно, и, несмотря на то, что Андре оправдали, он до сих пор в черном списке у феминисток. Но сегодня происходит интересная динамика, при которой вот эта обезличенность форм минимализма и абстрактной скульптуры 1960-х в целом переприсваивается теоретиками трансгендерных исследований, которые игнорируют смыслы, сознательно закладываемые художниками в минималистские работы, и трактуют их как молчание, отказ быть интерпеллированными властью и получать идентитарный ярлычок. То есть вопрос такой: нужно ли нам репаративное перепрочтение вызывающих этическое сомнение мест в истории искусства?
Иван Стрельцов: Альт-райты это делают постоянно. Мемы как раз соответствуют логике похищения, выдергивания, и нет никакой причины, чтобы их контратаковать в этих моментах.
Кирилл Савченков: Это важный вопрос, о способах отношения к истории искусства. Каждое новое событие в
***
Цикл «Мутная вода» прошел в рамках «Группы поддержки» (кураторы Сергей Бабкин и Анна Журба) — специального проекта VII Московской биеннале молодежного искусства.
Отдел практической аффектологии — это открытое объединение исследователь_ниц и художни_ц, занимающееся изучением динамики изменения массовых настроений и чувствований, контингентных и
