Сэди Плант. Ткацкие станки будущего: ткущие женщины и кибернетика
Перевод опубликован в электронном журнале cyberfemzine_02. Это первая часть статьи Плант — продолжение ждите в cfz_03.
I.
Начинается с отрывка из романа:
Быстрым привычным движением женщина откинула свою вуаль и на мгновение Мэллори открылось её лицо. Это была Ада Байрон, дочь премьер-министра — госпожа Байрон, Королева Машин.
(Гибсон и Стерлинг, 1990: 89)
На самом деле под именем Ада скрывается не Ада Байрон, а Ада Лавлэйс, а её отец вовсе не был премьер-министром. Последнее — предмет вымысла Вильяма Гибсона и Брюса Стерлинга: сюжет их книги «Разностная машина» развивается в Викторианской Англии, в которой программное обеспечение, разработанное Адой, уже было введено в оборот; стране, где луддиты были повержены, премьер-министром был поэт, а Ада всё ещё носила девичью фамилию, а вместе с ней величественное звание Королевы Механизмов и была всё ещё жива. Настоящая Ада умерла в 1852 году на своём третьем десятке. Повествуя о событиях середины 1850-х, роман переносит Аду в её зрелые годы, которые ей так и не удалось прожить. Всю жизнь она страдала от болезней, неизвестных врачам, пока в конце концов они не обнаружили рак матки, после месяцев чудовищной боли от которого Ада скончалась.
Этот текст прописывается через Аду Лавлейс, фигура которой сплетает начало двух историй: о компьютерной эре и об освобождении женщин. Однако только спустя столетие после ее смерти влияние женщин и программного обеспечения стало видимым и необратимым. После императивности милитаризма 1940-х как женщины, так и компьютеры перестанут просто обслуживать человека [мужчину] — вместо этого они начнут организовывать, изобретать и возбуждать сами себя, таким образом достигая беспрецедентных уровней автономии. В последующие десятилетия как женщины, так и компьютеры постепенно выходят из домашней и офисной изоляции с помощью установления собственных связей. Сплетённые в сети, они, в свою очередь, начинают сообщаться в 1990-х. Конвергенция женщин и машин — одна из предпосылок кибернетического феминизма, о котором будет идти речь; его перспектива во многом была открыта благодаря работе Люс Иригарэ — ещё одной важный фигуре для этого текста.
Компьютер вытекает из истории о развитии ткачества — процесса, так часто принимаемого за квинтэссенцию женской работы.
Ткацкий станок — веха в развитии программного обеспечения. Именно форма станка, или скорее процесс ткачества, подсказывает этому тексту его продолжение. Возможно, он сам является примером упомянутого процесса, ведь рассказы и тексты переплетены в нём так же плотно как нити в тканях. Текст — это ткань в обоих смыслах, и этот, сообщая о ткущих женщинах и кибернетике, сам является сплетением женщин с кибернетикой. Он рассматривает станки прошлого, но и будущее, которое перешивает патриархальное настоящее и грозит концом человеческой истории.
Ада Лавлэйс, вероятно, была воплощением первой внезапной встречи женщин и компьютерных технологий, однако сближение женщин и софта отбрасывает ещё дальше, к мифическому истоку истории. Для Фрейда ткачество имитирует сокрытие матки: греческую гистру, латинскую матрицу. Женщина ткёт, компенсируя отсутствие пениса, являясь пустым местом, женщиной одного органа — матки; говоря о женщине, Фрейд настойчиво заявляет «здесь не на что смотреть». Женщина завуалирована — так же, как и Ада абзацем выше; она плетёт, «скрывая свою первоначальную сексуальную неполноценность»*. И всё же разработка компьютера и кибернетической машины, с помощью которой он осуществляет свою работу, может быть описана через придание большей скорости, сложности и миниатюризации ткачеству. Эти тенденции приходят к конвергенции в глобальных сетях данных и сетях коммуникации — вещах, через которые понимается киберпространство.
Сегодня как женщины, так и компьютеры, выводят на дисплей матрицу, которая также появляется в качестве завес и экранов, отображающих операции. Эта виртуальная реальность — то же отсутствие пениса и его силы, однако она — нечто большее, чем пустота. Матрица возникает как процесс абстрактного ткачества, которое производит, или ткёт, то, что человек называет «природой»: его материалы и ткани, экраны, на которые он проецирует свою идентичность.
***
Наряду со своими экранами и по тому же функциональному принципу, компьютер становится медиумом человеческой коммуникации. Ада Лавлэйс сама была первоклассным связующим: она часто писала по два письма в день и была в восторге от перспектив телеграфа. Более того, её часто принимают за голос Чарлза Баббиджа, выражающий его идеи с ясностью, точностью и эффективностью, которых самому Баббиджу было не достичь.
В 1833 году, когда Баббидж впервые продемонстрировал публике свою Разностную машину, Ада была дебютанткой, приглашённой взглянуть на машину вместе со своей матерью — Лэди Байрон, известной под именем Принцесса Паралеллограммов ввиду своих способностей к математике. Леди Байрон была очарована машиной и с полной определённостью оценила тончайшие грани изобретательности учёного: «Мы обе видели мыслящую машину (такой она представляется) в понедельник», — написала она. «Она возвела несколько чисел во вторую и третью степень и извлекла корень квадратного уравнения». (Moore, 1977:44).
Отзыв Ады был записан другой женщиной, и был следующим:
«В то время как остальные гости глядели на прекрасный инструмент с ярко выраженным на лицах изумлением, и, осмелюсь предположить, чувствовали они то же, что и дикари, впервые увидевшие зеркало или услышавшие выстрел… Мисс Байрон в своих юных летах поняла принцип её работы и увидела величайшую красоту сего изобретения». (Moore, 1977:44)
В раннем возрасте Ада питала страсть к математике. Она была обожаема вдохновляющей Мэри Сомевиль, видной фигурой в научной среде и авторкой нескольких научных текстов, в том числе высоко оценённой работы «Связь физических наук». Ада и Мэри Сомэрвиль вели переписку, разговаривали и посетили несколько лекций о работе Баббиджа в Институте Механики в 1835 году. Ада была зачарована машиной и отправила Баббиджу множество писем, умоляя его воспользоваться её блестящим умом. В итоге, когда никто от неё этого не просил, Ада перевела труд Менабреа об аналитической машине Баббиджа и позже снабдила его своими примечаниями по совету Баббиджа. Он был невероятно впечатлён переводом, и вместе они начали работу над разработкой аналитической машины.
Баббидж слишком часто отдавался страстям; удивительно плодовитый исследователь самых увлекательных вопросов науки и техники, он редко умел окончить свои исследования; не доработанные до конца, ни разностная, ни аналитическая машина не смогли встать ему на службу. Ада, наоборот, была решительно настроена доводить дела до конца и, возможно, ревностнее относилась к машинам, чем сам Баббидж. Заметив нехватку финансирования, публичного освещения и организации при разработке разностной машины, она приняла на себя руководство над разработкой следующей машины Баббиджа. Часто ей приходилось страдать от его неряшливости — или от того, что она за неё принимала — и после серьёзного спора в 1843 году, она выдвинула несколько условий продолжения их сотрудничества: «можете ли вы», — спросила она с нескрываемым нетерпением, —
приложить весь свой ум, полностью и безраздельно, так, чтобы ничто не могло вас отвлечь, к рассмотрению всех тех вопросов, в которых мне время от времени требуется ваша интеллектуальная помощь и поддержка; и можете ли вы обещать не рассредотачиваться и не спешить, не теряться и не вносить путаницу и ошибки в документы и пр.?
(Moore, 1977:171)
Баббидж подписал это соглашение, но не смотря на условия, поставленные Адой, будто вступившие в заговор плохое здоровье и финансовый кризис помешали завершить работу над машиной.
Аде Лавлейс приходилось работать рука об руку с комбинацией застенчивости и уверенности в себе — свойствами, часто приводящими к чудовищным занижениям самооценки или же к доходящей до мании величия влюблённости в собственную исключительность. Иногда она приходила к убеждению в принадлежащем ей бессмертном математическом гении. Так, в 1944 она написала: «Я надеюсь завещать будущим поколениям Исчисление нервной системы». «Я вступила на путь довольно своеобразный и — в чём я убеждена — свой собственный» (Moore, 1977:216). Временами она напротив теряла всякую уверенность в себе и подумывала обратиться к музыке, к которой тоже имела способности. Ада всегда находилась в ловушке требования проявлять послушание; её удерживали цепкие лапы общественных ожиданий и моральных обязательств, смысл которых она не могла понять.

Письма Ады и даже её научные труды полны предположений о её странной роли в судьбе человечества. Баббидж называл её своей феей за ей способный ум и несравненную лёгкость, что спровоцировало в ней унаследованную страсть к романтизации: «Я отрицаю полнейшее несуществование волшебства». «Этот мой мозг — нечто превыше всего смертного, и время это покажет (если бы только моё дыхание и прочие составляющие не сделали слишком быстрым движение к смертности вместо того, чтобы направлять от неё)» (Moore, 1977:98). Текст из послания одного из её поклонников — «о том, что вы являетесь своеобразным — весьма своеобразным « представителем женской расы, вы и сами осведомлены» (Moore, 1977:202) — только подтвердил мнение, которое Ада, не без самолюбования, имела о себе. Она даже как-то написала о своей работе: «я нахожусь в некотором ошеломлении от силы написанного. Это вовсе не похоже на женский стиль, но и со стилем какого-то определённого мужчины сравнить это также нельзя» (Moore, 1977:157). Не слова женщины, но и не слова мужчины: кем была Ада Лавлейс? «За десять лет», — писала она, — »пошло всё к чёрту, если мне не удалось высосать немного жизненной силы из таинств этой вселенной — смертным губам и мозгам такое не дано» (Moore, 1977:229).
Для Баббиджа Ада была феей, но обстоятельства не давали забыть ей о других ролях: жена, мать и жертва бесчисленных «женских дисфункций». К 24 годам у неё было трое детей. Позже она написала: «для меня они просто докучливая обязанность, не больше» (Moore, 1977:229). Затем, когда в 1840-е
Вплоть до того момента, когда в 1850-х её дочери диагностировали рак, Леди Байрон отказывалась принимать действительность, предпочитая объяснять всё проявлениями истерии. Даже Ада склонялась к модной в те времена вере в то, что чрезмерная интеллектуальная нагрузка привела к дисфункциям в её теле; в 1844, когда, не смотря ни на что, она продолжала химические и электрические эксперименты, она написала: «Множество причин способствовало возникновению прошлых расстройств, и в будущем я должна стараться избежать их. Одним из ингредиентов (одним из многих) было: слишком много математики» (Moore, 1977:153-4). Она умерла в ноябре 1852 года, последний год испытывая мучительную боль.
Лавлейс часто описывала свою странную близость со смертью; скорее ограничения жизни были тем, с чем ей приходилось бороться. Однажды она написала: «Я собираюсь сделать то, что я намерена сделать», но без сомнения, её ужасно ограничивали близкие: брак, дети и неугомонная мать, выступающие против её независимости — не удивительно, что её так привлекали незнакомые просторы математических миров. Мать так прокомментировала новость о свадьбе Ады: «Можете распрощаться со своей старой подругой Адой Байрон со всеми её странностями, капризами и поисками себя; предрешено: в качестве А.К. ты начнёшь жить для других» (Moore, 1977:69). Но она никогда с этим не соглашалась.
Презирая общественное мнение, она просаживала деньги на скачках, принимала наркотики и флиртовала с чрезвычайным усердием. Но лучше всего у неё получалось программировать компьютеры.
Лавлейс мгновенно поняла важность аналитической машины и вдавалась в самые пространные описания, стараясь передать на письме огромный размер её будущего влияния. Хотя аналитическая машина имела ограничения, она сильно отличалась от разностной. В аналитической машине Баббидж мечтал воплотить устройство, способное не только на сложение, а на выполнение любой арифметической операции. Такое предприятие требовало не просто механизации каждой математической операции, оно требовало механизации функционирования самих основ системы. Требование переписать правила игры превратило аналитическую машину в универсальный механизм. Баббидж был довольно скромен, описывая изобретение как «машину самого общего характера» (Babbage, 1961:56), но главное значение оставалось между строк: аналитическая машина не просто синтезировала данные, предоставленные оператором, как это было в случае разностной машины, она была воплощением того, что Ада Лавлейс назвала самой «наукой об операциях».
<…>
«Cравнивая силы и принципы работы разностной и аналитической машин», — писала Ада, — «мы видим, что возможности последней во много раз превосходят возможности первой, и что в действительности они находятся в том же отношении, что и анализ с арифметикой». В её заметках к статье Менамбреа выделяется один момент: она утверждает, что машина воплощает сам механизм анализа, так, что:
нет конечной демаркационной линии, ограничивающей силу аналитической машины. Её силы совпадают по площади распространения с нашими знаниями и законами самого анализа, и могут определяться только степенью нашего знакомства с последними. Тем не менее, мы можем рассматривать машину в качестве материального и механического воплощения анализа.
(Morrison and Morrison, 1961:252)
Разностная машина была «основана на принципе последовательных рядов различий», в то время как:
отличительной особенностью аналитической машины и тем, что открыло для механизма столько возможностей, что он стал правой рукой абстрактной алгебры, было внедрение принципа, разработанного Жаккардом и с помощью перфокарт справляющегося с самыми сложными узорами, необходимыми для изготовления парчовых изделий.
(Morrison and Morrison, 1961:252)
Действительно, Ада видела определяющую роль перфокарт в различении двух машин. «Мы можем сказать, ничуть не сомневаясь», — продолжала она, — «что аналитическая машина ткёт алгебраические узоры так же, как жаккардовый станок ткёт листья и цветы. В этом, как нам кажется, он отличается оригинальностью, на которую разностная машина вряд ли могла бы претендовать». (Morrison and Morrison, 1961:252) Отсылка к жаккардовому станку — не просто метафора.
Аналитическая машина действительно ткала так же как станок, функционируя, в некотором смысле, как абстрактный процесс ткачества.
Ткачество всегда стояло в авангарде развития машин, возможно потому, что процесс отличается сложностью даже в своей самой простой форме, всегда вовлекая множество нитей в создание одного интегрированного предмета одежды. Даже ручной ткацкий станок для фигурного ткачества, иногда датирующийся 1000 до н.э. в Древнем Китае, задействует изощрённые способы упорядочивания основы и утка в изготовлении сложных образцов шёлка, распространённого в тот период. Это означает, что «необходимы огромные объемы информации для плетения сложного орнаментального рисунка. Даже самые древние китайские примеры [тканей] требовали, чтобы около 1500 различных нитей основы снимались в различных комбинациях» (Morrison and Morrison, 1961: xxxiv). С педалями и челноками ткацкий станок становится тем, к чему один историк обращается как к «самому сложному человеческому механизму из всех», машиной, которая «сводила всё к простым действиям: чередующиеся движения ног жмут на педали, поднимая сначала одну половину нитей основы, затем другую, в то время как руки запускают челнок, проводящий уточную нить» (Braudel, 1973:247). Человек за станком был интегрирован в механизм, связан с его операциями, подключён своими частями тела к процессу. В Средние века, ещё до искусственной памяти печатного листа, квадратные бумажные карты использовались для хранения необходимой для разработки рисунка информации. В начале XVIII века в Лоне Базиль Бушон изобрёл механизм автоматического выбора нитей, используя раннюю версию перфорированных бумажных рулонов, гораздо позже позволившим пианино играть и машинке печатать. Введённые Фалконом несколькими годами позже перфокарты на смену перфолентам возвели всё на новый уровень сложности. Их за основу взял Жаккард во время работы над чертежами автоматизированного станка, осуществившего революцию в ткачестве в 1800-х и продолжающего сопровождать современные разработки. Машина Жакарда связала перфокарты между собой и наконец автоматизировала машинные операции, которым теперь требовалась всего лишь одна человеческая рука. Жаккардова система программ перфокарт принесла информационную эру в начало XIX столетия. Его автоматизированный станок был первым в хранении своей собственной информации, он функционировал с помощью собственного софта и был ранним примером передачи управления от ткача к механизму.
Баббидж распологал тем, что Ада описала как «прекрасный плетёный портрет Жаккарда, для изготовления которого потребовалась 24 000 карт». (Morrison and Morrison, 1961:281). Шелковое плетение, около 1000 нитей на дюйм — Баббидж прекрасно понимал, что такая невероятная детализация достигнута благодаря возможности станка хранить и передавать информацию с большой скоростью и в больших объёмах: жаккардовы ленты перфокарт выступили основой в начале работы над аналитической машиной. «Известен факт», — писал Баббидж, — «что станок Жаккарда способен соткать любой узор, доступный человеческому воображению» (Babbage, 1961:55). Собственный вклад Баббиджа в непрекращающееся совершенствование системы перфокарт заключался в том, чтобы представить возможность повторения карт или, как написала Ада:
возможность задействовать любую карту или набор карт любое количество раз подряд для решения одной проблемы.
(Morrison and Morrison, 1961:264)
Это была беспрецедентная симуляция памяти. Машина выбирала карты в зависимости от своих нужд и эффективно работала в качестве файловой системы, сохраняя собственную информацию и опираясь на неё.
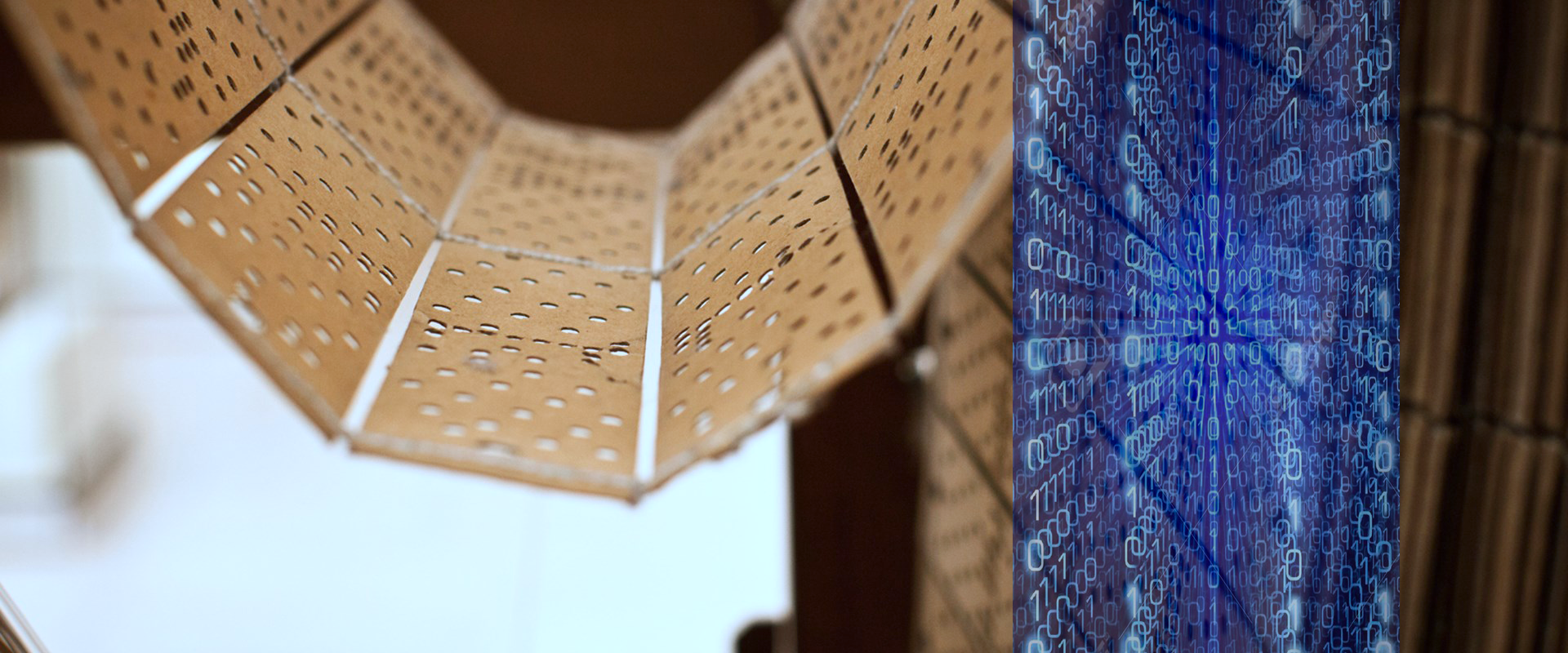
Жаккардовые карты сделали память возможной, так что «Аналитический двигатель будет обладать собственной библиотекой» (1961: 56), но это должна была быть библиотека, с помощью которой машина могла бы ссылаться как на свои прошлые, так и на будущие операции; Баббидж намеревался дать машине не просто память, но и способность обрабатывать информацию из будущего своего собственного функционирования.
<…>
Дар предвидения может быть приписан аналитической машине не только в этом смысле: прошло более чем 100 лет, прежде чем изобретение начали использовать, этот удивительный временной разрыв вдохновил Гибсона и Стерлинга на исследование того, что могло бы случиться, если бы его ввели в оборот в 1840-х годах, а не в 1940-х. Баббидж думал, что на разработку аналитической машины уйдёт 50 лет. Многие, особенно те, кто располагал деньгами и влиянием, скептично относились к его изобретениям, его эклектичные интересы создавали впечатление эксцентричности. Даже его ассистент признался в тогдашнем убеждении в «замутнении разума» Баббиджа. (Babbage, 1961:54), когда тот начинал говорить о способности машины предвидеть результаты ещё не сделанных ей расчётов.
Влияние работы Лавлейс и Баббиджа в годы, когда военные нужды обратили на неё внимание военной индустрии Антигитлеровской коалиции было огромным. Её софт работает на его харде по сей день. В 1944 году Говард Эйкен разработал Mark 1, который считал первым программируемым компьютером, хотя на самом деле его опередил немецкий гражданский инженер, Конрад Зузе, машина которого под названием Z-3 была построена в 1941-м. В ретроспекции примечателен тот факт, что хотя самые развитые варианты разработки Z-11 до сих пор в ходу, тогда немцы не придали большого значения изобретению, и именно американский компьютер стал первой программируемой системой, которую действительно заметили. Mark 1 или «Управляемый последовательностями автоматический вычислитель», разработанный IBM, был основан на наработках Баббиджа и был запрограммирован очередной женщиной — капитаном Грейс Мюррей Хоппер. Её часто называли «Адой Лавлейс» компьютера Mark 1 и его преемников. Потеряв мужа на войне, Грейс Хоппер могла отдавать все свои силы программированию. Она написала первый высокоуровневый компилятор, была техническим консультантом при разработке языка COBOL и даже ввела в оборот термин «баг» для описания глитчей софта или харда после того, как обнаружила мертвого мотылька причиной блокировки передачи сигнала в Mark 2. И снова — женщина-программист.
В разработке компьютеров в 1940-е решающую роль сыграла кибернетика — термин, предложенный Норбертом Винером для изучения управления и коммуникации в животном и машинном. Возможно, первой кибернетической машиной был регулятор, простая саморегулирующаяся система, которая, так же как термостат, берет информацию, поступающую из машины, и зацикливает либо подаёт её обратно. В отличие от линейной операции, в которой принятая информация обрабатывается и возвращается без всякого ответа, кибернетическая система всегда предполагает обратную связь, петлю, подключение и реакцию на изменения в собственной среде. Кибернетика — это наука, или, лучше сказать, инженерия абстрактных процедур, являющихся виртуальной реальностью систем любого масштаба и любых комбинаций харда и софта.
Именно компьютер делает кибернетику возможной, всегда продвигаясь к абстрактным методам описания своих операций. Начиная от попыток произвести или воспроизвести поведение определённых функций, таких как сложение, он приходит к симуляции операций любой машины, в том числе своих. Баббидж мечтал о машине, способной складывать, но в конце концов разработал аналитическую машину, способную не только на сложение, а на любую арифметическую операцию. По сути такая машина была абстрактной машиной, которая может приложить свои абстрактные руки к чему угодно. Хотя аналитическая машина ещё не была доработанной кибернетической машиной, она сделала такие системы возможными. Как заметила Ада Лавлейс: «Аналитическая машина никогда не претендовала на создание чего-либо. Она может сделать всё — всё то, что мы можем для неё сформулировать» (Morrison and Morrison, 1961:285). Сама машина была абстрактной, однако её автономные способности были ограничены процессуальной ёмкостью: используя терминологию текстильной промышленности, Баббидж описал это через противопоставление мельницы и амбара. Рассредоточенное управление является частью всего механизма, но не распространяется на все машинные операции.
Только Машина Тьюринга стала следующим шагом в область программного обеспечения. Тьюринг понял, что на деле мельница и амбар могут работать вместе, так, чтобы «самоизменяющиеся программы могли быть записаны» — программы, способные «передать управление подпрограмме, переписывающие себя, чтобы знать, куда перейдёт управление после выполнения текущей подзадачи» (De Landa, 1992:162). Машина Тьюринга демонстрирует небывалое распределение управления, но всё же в ней оно всегда возвращается к основной программе управления. Только внедрение в 1960-х силикона вынесло децентрализованное распределение управления на повестку дня и позже позволило системам, в которых «тип управления всегда подчинялся специфике производства, оказаться в состоянии, удовлетворяющем любые производственные задачи» (De Landa, 1992: 63). На этом этапе абстрактная машина начинает работать как сеть «независимых софтверных объектов». Параллельные системы вычисления и нейронные сети возымели успех над концепциями централизованного управления и контроля; функции управления коллапсируют в системы, и машинный интеллект больше не обучается сверху-вниз, а вместо этого сам выстраивает связи, учится организовывать себя и самообучаться.
Это зона пересечения самоорганизующихся систем и самонастраивающихся** машин, автономных систем управления и синтетического интеллекта. В человеческих руках в составе исторического инструментария управление осуществлялось по большой части как господство и выражалось только в централизованных и вертикальных формах. Господство — одна из версий управления, но также его ограничение, препятствие: даже самоуправление воспринимается человеком как осуществление господства. Только в кибернетической системе самоуправление не оказывается обречёно на существование под или ниже чего-то: нет никакой «личности», контролирующей человека, машину или любую другую систему — и машина, и человек становятся частями кибернетической системы, которая сама по себе является и управлением и коммуникацией.
Возникает странный мир, путь к которому проложен программированием Ады — мир возможности действия без централизованного управления, мир разного рода агентности, не нуждающейся в позиции субъекта.
Ада Лавлейс считала величайшим достижением аналитической Машины то, что в ней «не только ментальное и материальное, но теоретическое и практическое в математическом мире приводятся в более интимное и эффективное взаимодействие друг с другом» (Morrison and Morrison, 1961:252). Её программы ещё тогда стремились к сближению природы и интеллекта, определившем последующее развитие технологий.
Аналитическая машина стала актуализацией абстрактной работы ткацкого станка, и по сути абстрактным механизмом работы любой машины. Баббидж часто сопровождал описания аналитической машины отсылками к ткацкому станку: «Аналогия аналитической машины с этим хорошо известным механизмом невероятно точна» (1961:55). Аналитическая Машина была таким превосходным развитием ткацкого станка, что сделанные в процессе её разработки открытия должны были повлиять на само ткачество. Как написала Ада:
было решено использовать это искусство взаимовыгодно: хотя оно не имеет очевидных пересечений со сферой абстрактной науки, оно уже доказало свою полезность последней, предложив принципы, которые в новой и отдельной сфере применения способны переместить алгебраические операции в вынесенную, но связанную с механизмом плоскость — туда же, где расположены все эти разнообразные тонкости, влияющие на пересекающиеся нити.
(Morrison and Morrison, 1961:265)
Алгебраические комбинации, возвращаясь обратно к ткацкому станку, сходятся с пересекающимися нитями, следствием которых уже являются.
Приходя в движение, кибернетические циклы начинают распространяться, выходя за границы механизмов, в которых когда-то появились, и заражая все динамические системы. То, как перфокарты Баббиджа встроились в фабрики середины XIX столетия показывает, как быстро кибернетические машины стали связаны с кибернетическими процессами гораздо больших масштабов. Возможно, не случайно то, что Нейт — египетская богиня ткачества, также и богиня мудрости [в ориг. intelligence], а последняя — также собирается на пересечении систем поперечных и вертикальных нитей. «Это изображение», — рассказывает один свидетель, — «ясно указывает на факт того, что все данные, записанные в мозге, являются результатом взаимного пересечения ощущений, воспринимаемых с помощью наших органов чувств — точно так же, как пересекаются нити в процессе ткачества» (Lamy, 1981:18).
Ткацкий станок стал поворотным пунктом того, что Де Ланда называет «миграцией управления»: высвободившись из человеческих рук он направился к программируемым системам. Баббидж постоянно интересовался влиянием автоматизации на традиционные формы производства, опубликовал исследование о судьбе кустарных промыслов в Мидлендсе и Северной Англии «Экономика производителей и оборудования» в 1832 году, а жаккардовый ткацкий станок был одним из самых значительных технологических новшеств начала XIX века. Новому станку было оказано довольно много сопротивления, он был «яростно отвергаем работниками, которые видели в этой миграции управления буквальную передачу частей своих тел машинам» (De Landa, 1992:168). Своим первым выступлением в Палате лордов в 1812 году лорд Байрон внес свой вклад в дебаты об ужесточающем наказания для луддитов законопроекте. «После введения одного конкретного новшества один человек выполняет работу многих, а излишние рабочие оказываются выброшены с работы». Он считал, что им следует радоваться «этим усовершенствованиям столь полезного для человечества искусств», а не «принимать себя за жертв улучшений техники» (Jennings. 1985:132). Его дочь только ускорила уже идущий процесс перераспределения и переопределения управления.
Примечания:
* Плант в этом тексте, вслед за Иригарэ, полемизирует с Фрейдом, который предположил, что единственным значимым вкладом женщин в историю и культуру является изобретение ткачества. После приведённых цитат из лекции о женственности он говорит следующее:
«Полагают, что женщины внесли меньший вклад в открытия и изобретения истории культуры, но, может быть, именно они открыли один вид техники — технику плетения и ткачества. Если это так, то попытаемся отгадать бессознательный мотив этого достижения. Сама природа как будто подает пример такому подражанию, заставляя гениталии с наступлением половой зрелости обрастать волосами, скрывающими их. Шаг, который надо было сделать далее, состоял в том, чтобы скрепить волокна друг с другом, которые на теле выступали из кожи и были лишь спутаны».
** в оригинале — self-arousing, перевод включает и значение «самовозбуждаться», и «самонастраиваться». Об
