Отрывок из новой книги Александра Бренера
Издательство книжного магазина «Все свободны» представляет книгу Александра Бренера «Ка, или Тайные, но истинные истории искусства»
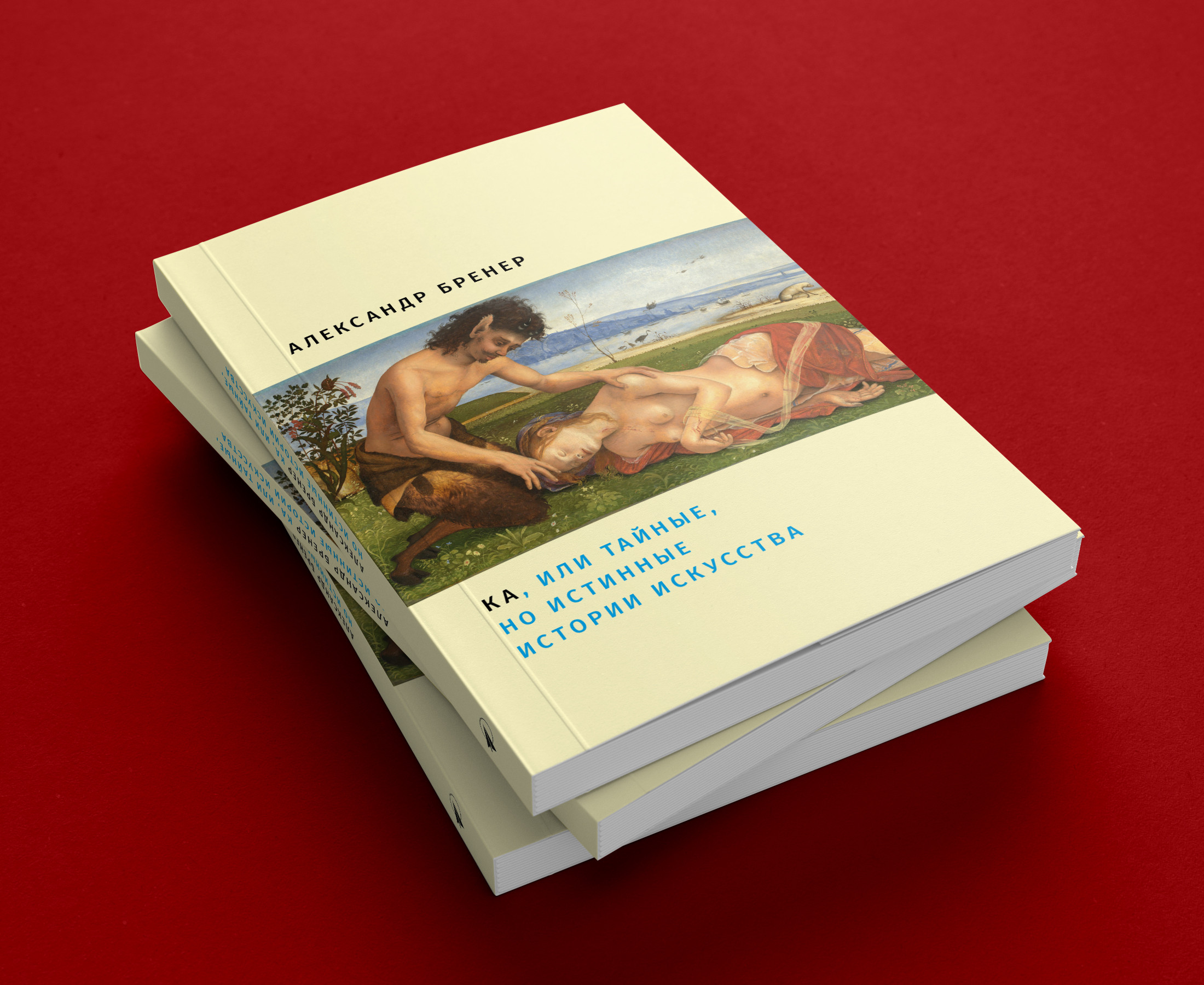
Александр Бренер — известный арт-провокатор. Его наиболее нашумевшие акции состоялись в 1990-е годы — вызов на боксерский поединок Бориса Ельцина, выгул Олега Кулика на поводке, нарисованный зеленой краской знак доллара на картине Малевича в
Выпущенная в 2016 году книга Бренера «Жития убиенных художников», в основном представляющая собой воспоминания о неофициальной арт-среде 1960-90-х годов и написанная в едкой скоморошеской манере, вышла в финал литературной премии «Нацбест». Неожиданно для многих этот, по сути, контркультурный текст, был высоко оценен критиками и жюри и едва не стал победителем.
Новая книга Александра Бренера «Ка, и Тайные, но истинные истории искусства» стилистически и содержательно продолжает «Жития». Но на этот раз автор пишет не о своих современниках и, в основном, в другой тональности. Скорее, это нечто вроде признания в любви к вдохновляющим его художникам и их произведениям — от безвестного резчика по кости Каменного века до Фрэнсиса Бэкона и Филипа Гастона. Предлагаем вниманию читателей syg.ma одну из глав книги.
О, Мантенья!
Согласится ли со мной моя дорогая читательница, что все великие художники — пугающи?
Вот Мазаччо: от его мужиков — суровых, неумолимых, лютых, простодушных — поблажек не жди.
Вот Ван Эйк: он рисует стариков-процентщиков и измученных раскольниковых!
Вот Микеланджело: гирлянды из мускулатуры, как в мясной лавке.
Вот Гольбейн: пренеприятные мертвецы.
Вот Брейгель: указка на слепоту человечества.
Вот Пуссен: замороженный балет страстей.
Вот Энгр: ящеры-одалиски.
Вот Дега: он сказал, что живопись требует такого же обмана, злобы и изощрённости, как удачное преступление.
Вот Курбе: волосатое начало мира и его убогий конец в Орнане.
Вот Тулуз-Лотрек: прекрасная Франция как дом терпимости.
Вот Энсор: пляска скелетов.
А вот уже и Луис Фернандес: сплошное издевательство.
Да, великие художники неприятны.
Они не льстят, не ублажают.
Наоборот: чтобы короче были муки, чтобы убить наверняка, они берут нас в свои руки самого лучшего стрелка.
Но наистрашнейший из всех — Мантенья!
Он высокомерен, не протягивает руку зрителю, а бросает его на произвол судьбы в своей каменной зоне, откуда не видно выхода.
Эта область дика, скалиста, бесплодна.
Мантенья открывает под нежной кожей европейского художества пугающий костяк: военизированный лагерь классического искусства.
Там муштруют, загоняют в строй, пытают, прибивают к кресту.
Там всё каменное, железное.
Не только орудия, не только почва — плоть у него из камня!
Кремень, валун, плитняк — это и есть живопись Мантеньи, её форма и содержание.
Камень торчит, дыбится, принимает разнообразные формы, прикидывается человеком и деревом, трескается, крошится, ломается на куски, падает на землю и на голову зрителя.
У мантеньевского камня грандиозная сила — куда более упорная, необоримая и неуправляемая, чем животная или растительная.
Как сказал Борхес: «Нет ничего, что стояло бы на камнях, всё стоит на песке. Но наш долг строить из песка, как из камня».
А стоики учили, что человеку не мешало бы стать камнем.
Или это:
Кружевом, камень, будь
И паутиной стань:
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань.

Камень у Мантеньи происходит из готической формулы стремления ввысь.
Но он и низвергается, как горный обвал.
Камень может быть глыбой, утёсом, обработанным блоком, зданием, аркой, крышкой гроба, статуей, кружевом и паутиной, а потом вдруг делается развалиной, осколком колонны, крошкой.
Каменеет природа: деревья, горы, звери.
Окаменевает культура.
И да: песчаник, мрамор и гранит подвержены разрушению, а Мантенья влюблён в разрушение — древних статуй, скал, крепостей, человека.
Окаменение и разрушение — главные темы Мантеньи.
Ни один фашистский художник не способен был на такую открытую враждебность, на такое откровенное всматривание в разрушение, ведь фашисты были халтурщиками, а Мантенья — нет.
Каменное недружелюбие в лице этого мастера, в его портретах. Он презирает людей.
Мантенья осмеливается сказать прямо: «Отвратительно, мерзко… Всюду тюрьмы, застенки, аресты, пытки, убийства… Глумление на каждом шагу… Невыносимо смотреть?… Так вот же — смотрите: здесь только камень и смерть».
«Триумфы Цезаря» — апофеоз военного лагеря в искусстве.
Это произведение старика Мантеньи — самое ужасное во всей истории живописи.
Там на девяти трёхметровых холстах изображено шествие завоевателя мира: колонной идут воины, стучат копытами конники, бегут покорные рабы — несут младенцев и трофеи, плетутся пленники, семенят заложники, солдаты тащат копья, штандарты, утварь, золото.
Мантенья писал эти девять холстов последние десять лет своей жизни.
Это — образ покорённого и поставленного в строй человечества.
Хаос тел и вещей переходит в космос казармы и парада.
Живопись, по мысли Мантеньи, должна быть такой же твёрдой и неумолимой, как скульптура.
Мантенья уважал Донателло.
Это было его зрение: живопись-как-скульптура, как бронзовый барельеф, отполированная, как мрамор, материальная, как скала.
Я испугался, увидев в детстве «Оплакивание мёртвого Христа»: окаменевшее тело, каменеющие лица. Мантенью уважали Беккет и Тарковский — все трое испытывали отвращение к обществу.
На картины Мантеньи нужно смотреть долго-долго, пока не умрёшь от жажды или не помудреешь.
Как сказал платоновский Сократ: «Хорошо было бы, Агафон, если бы мудрость имела свойство перетекать, как только мы прикоснёмся друг к другу, из того, кто полон ею, в того, кто пуст, как перетекает вода по шерстяной нитке из полного сосуда в пустой».
Но в каменном мире Мантеньи вода — озёра и слёзы — превращается в солончаки, застывает.
Впрочем, есть одно исключение в его каменном стиле.
Это — изображения Мадонны с младенцем: там нежная лепестковая плоть; теплота, шелковистость, ласка; в камнях пробиваются аленькие цветочки.
Это — мантеньевский маньеризм, ахиллесова пята в суровом утёсе:
Ночевала тучка золотая
На груди утёсавеликана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утёса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне

