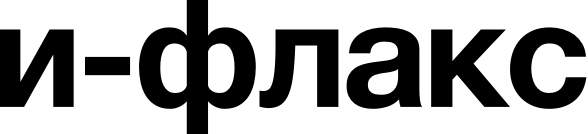Борис Гройс. Труженики искусства: между архивом и утопией
В этом эссе философ и теоретик искусства Борис Гройс рассуждает об отношениях между утопией и архивом, а также изменениях, которые претерпела художественная деятельность с появлением Интернета.
Текст впервые был опубликован в 45 номере журнала e-flux в мае 2013 года, а его перевод в 10 номере журнала «Искусство кино».

Тема этого эссе — художественное творчество. Я, конечно, не художник. Но труд в этой области, будучи в некоторых аспектах весьма специфичным, все же не целиком автономен. Он зависит от многих более общих — социальных, экономических, технологических и политических — условий производства, распространения и презентации произведений искусства. В последние десятилетия эти условия претерпели радикальные изменения, прежде всего в результате возникновения Интернета.
В Новое время институтом, который определял доминирующий режим функционирования искусства, был музей. Но в наши дни Интернет предлагает альтернативные способы производства и дистрибуции искусства, и этой возможностью начинают пользоваться все большее число художников. Что же заставляет нас, и особенно художников, писателей и т.д., полюбить Интернет?
Очевидно, что прежде всего Интернет любят за то, что он не селективен или, по крайней мере, менее селективен, чем музей или традиционное издательство. Действительно, главный вопрос, который всегда волновал и настораживал художников в отношении музея, заключался в следующем: каковы критерии отбора, почему одни произведения находят дорогу в музей, а другие нет? Нам известны, так сказать, католические теории селекции, согласно которым произведения искусства заслуживают быть отобранными музеем: они должны быть добрыми, прекрасными, воодушевляющими, оригинальными, творческими, впечатляющими, экспрессивными, исторически точными — список можно исчислять сотнями такого рода критериев. Однако эти теории не выдержали проверку временем, хотя бы потому, что никто не может объяснить, почему одна работа прекраснее, оригинальнее и т.д., чем другая. Их сменили другие теории, по характеру, скорее, протестантские, даже кальвинистские. Согласно им произведения отбираются потому, что отбираются. В музее водворился принцип божественной власти, абсолютно суверенной и не требующей никакой дополнительной легитимации. Протестантская теория отбора, провозглашающая безусловную власть отборщика, спровоцировала критику самого института музея — музеи стали критиковать за то, как они использовали свою власть и как ею злоупотребляли.
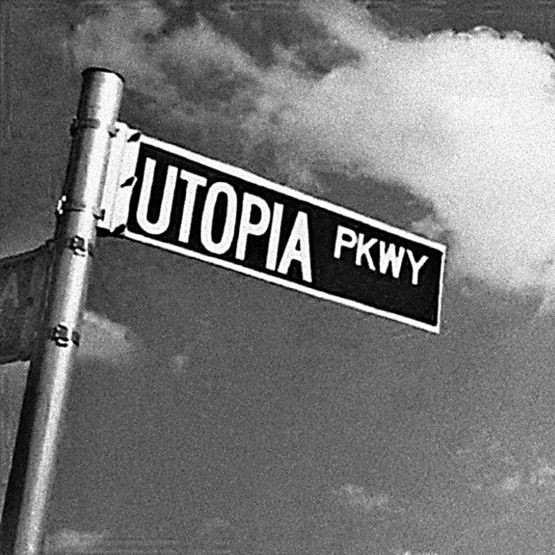
В отношении Интернета институциональная критика теряет свой смысл. Конечно, в Интернете имеются примеры политической цензуры, практикуемой в ряде стран, — но эстетическая цензура там отсутствует. Кто угодно может выложить в Интернет любой текст или визуальный материал какого угодно рода и сделать его таким образом глобально доступным. Правда, авторы часто жалуются на то, что их творения тонут в море информации, циркулирующей в Интернете. Интернет представляет собой огромную свалку, где исчезает все, не получая той степени публичного внимания, на которую автору хотелось бы рассчитывать. Но ностальгия по былым временам эстетической цензуры, когда музеи и галерейная системa надзирали за качеством искусства, его инновативностью и креативностью,— это дорога в никуда. В конечном счете люди ищут в Интернете в основном лишь сведения о том, что происходит с их друзьями и знакомыми, чем занимаются в настоящий момент известные им персонажи. Люди следят за определенными блогами, информационными сайтами, вебсайтами, центрами продаж, игнорируя все прочее. Мир искусства — только малая часть цифрового публичного пространства, а само искусство очень фрагментировано. Так что, несмотря на многочисленные жалобы о необозримости Интернета, его тотальный обзор никому не нужен: пользователи ищут особой, специальной информации и со спокойной совестью игнорируют все остальное.
Тем не менее наше отношение к Интернету определяется ощущением, что он как целое необозрим: мы склонны думать о нем в терминах бесконечного информационного потока, трансцендирующего пределы нашего индивидуального контроля. Но фактически Интернет — вовсе не место циркуляции информационного потока; это машина, которая останавливает и обращает вспять этот поток. Необозримость Интернета — миф. Материальный медуим Интернета, обеспечивающий его функционирование, — электричество. А ресурсы электричества ограничены. Так что Интернет не может поддерживать бесконечные информационные потоки. Интернет базируется на конечном числе кабелей, терминалов, компьютеров, мобильных телефонов и других единиц оборудования. Действенность Интернета базируется именно на его конечности, а следовательно — обозримости. Поисковики типа Google наглядно это демонстрируют. Сегодня много разговоров ведется о расширении зоны [несанкционированного] слежения, особенно через Интернет. Но слежка не есть нечто внешнее по отношению к Интернету или какоe-то специфическоe использованиe Интернета. Интернет по самой своей сути — машина слежения. Он разделяет поток информации на мелкие, легко находимые и трансформируемые операции и таким образом подставляет каждого пользователя под слежку — реальную или вероятную. Интернет создает поле тотальной видимости, доступности и прозрачности.

Конечно, частные лица и организации пытаются избежать тотальной прозрачности, создавая изощренные системы паролей и защиты информации. Сегодня индивидуальность становится технологическим конструктом: современный субъект определяется как обладатель набора паролей, которые он или она знает, а другие — нет. Современный субъект — это прежде всего держатель тайны. В определенном смысле это есть и вполне традиционное определение субъекта: субъект всегда определялся как знающий нечто о себе, что знает еще разве что Господь Бог, а прочим людям знать невозможно, ибо они онтологически неспособны «читать чужие мысли». Однако сегодня мы имеем дело с секретами, защищенными не онтологически, а технически. Интернет — место, где субъект изначально конструируется как транспарентный, наблюдаемый объект и только потом он становится технически защищенным, чтобы скрыть уже выявленный секрет. Но любая технически обеспеченная защита может быть взломана. Сегодня интерпретатор (hermeneutiker) превратился в хакера. Современный Интернет — место кибервойн, приз победителю в которых — разоблаченный секрет. Знать секрет — значит поставить субъект, который конституируется этим секретом, под контроль; кибервойны — это войны субъективации и десубъективации. Но эти войны возможны лишь благодаря тому, что Интернет изначально является местом прозрачности.
А теперь зададимся вопросом: что означает прозрачность для художников? Мне кажется, что действительная проблема с Интернетом состоит не в том, что Интернет — пространство дистрибуции и презентации искусства, а в том, что Интернет — это рабочее место. Во времена господства музейной системы искусство производилось в одном месте (например, в мастерской художника), а показывалось в другом, в музее. Возникновение Интернета стерло различие между производством и экспонированием искусства. Процесс производства искусства, поскольку он сегодня предполагает использование Интернета, всегда уже экспонируется — с начала и до конца. Раньше только индустриальные рабочие работали под надзором других, под неусыпным контролем, столь красноречиво описанным Мишелем Фуко. Писатели или художники работали уединенно, вне всевидящего публичного контроля. Однако, если так называемый креативный работник использует Интернет, он или она подвергается тому же или даже более пристальному слежению, что и рабочий, о котором писал Фуко. Единственное различие состоит в том, что это наблюдение в большой степени, скорее, герменевтичное, чем дисциплинарное.

Результаты наблюдения продаются корпорациями, контролирующими Интернет, поскольку они владеют средствами производства, материально-технической базой Интернета. Нельзя забывать, что Интернет — частная собственность. И доход поступает главным образом от индивидуально нацеленной рекламы. Мы имеем здесь дело с любопытным феноменом: монетаризацией герменевтики. Классическая герменевтика, которая искала автора за его произведением, его работой, критиковалась теоретиками структурализма и метода «глубокого прочтения», которые учили, что бессмысленно отыскивать онтологические секреты, недостижимые по определению. Сегодня эта старая традиционная герменевтика возрождается как средство дополнительной экономической эксплуатации субъектов, оперирующих в Интернете, где все секреты открыты изначально. Субъект здесь более не сокрыт за своим произведением. Добавленная стоимость, которую продуцирует этот субъект и которая присваивается интернет-корпорациями, — это герменевтическая стоимость: субъект не только что-то делает в Интернете, но также обнаруживает себя как человек с определенными интересами, желаниями и нуждами. Монетаризация классической герменевтики — один из интереснейших процессов, с которыми мы встретились за последние десятилетия.
На первый взгляд кажется, что для художников непрерывная автопрезентация имеет больше плюсов, чем минусов. Ресинхронизация производства искусства и его экспонирования через Интернет представляется, скорее, полезной, чем наносящей ущерб. Действительно, эта ресинхронизация означает, что художнику не нужно создавать некий окончательный продукт, вообще произведение искусства. Само документирование этого процесса уже является произведением искусства. Производство, презентация и дистрибуция совпадают. Художник становится блогером. Почти все в современном искусстве действуют как блогеры — индивидуальные художники, а также художественные институты и музеи. В этом смысле парадигматичен Ай Вэйвэй. Бальзаковский художник, который не мог выставить свой шедевр, в новых условиях не имел бы никаких проблем: документализация его усилий по созданию шедевра уже сама по себе стала бы шедевром. Так что функции Интернета близки, скорее, церкви, чем музею. Написав свою знаменитую фразу «Бог умер», Ницше продолжил: мы потеряли зрителя. Возникновение Интернета означает возвращение универсального зрителя. Так что кажется, что мы вновь обрели рай и, как святые, свершаем имматериальную работу чистого существования под божественным оком. Фактически жизнь святых можно описать как блог, читаемый Богом и пребывающий непрерываемым даже смертью святого. К чему тогда секреты? Зачем отрицать радикальную транспарентность? Ответ на эти вопросы зависит от ответа на более фундаментальный вопрос, касающийся Интернета: провоцирует ли Интернет возвращение Бога или malin génie[1] с его недобрым взглядом?
А теперь я хочу сказать, что Интернет — вовсе не рай, а ад или, если угодно, рай и ад одновременно. Еще Жан-Поль Сартр говорил, что ад — это другие, жизнь под взглядами других. (И Жак Лакан сказал потом, что глаз другого — всегда дурной глаз.) Сартр утверждал, что взгляд другого «объективирует» нас и в этом смысле отрицает возможности изменений, определяющих нашу индивидуальность. Сартр определял субъектность человека как «проект», устремленный в будущее, и этот проект — онтологически гарантированный секрет, поскольку никогда не может быть раскрыт здесь и теперь, а только — в будущем. Иными словами, Сартр понимал индивидов как борющихся против идентичности, данной им обществом. Это объясняет, почему он называл взгляд других адом: в чужих взглядах мы видим, что проиграли эту битву и остаемся пленниками нашей социально кодированной идентичности.
Таким образом, мы пытаемся на время избегать взгляда другого, чтобы обрести способность раскрыть наше «истинное «я» после определенного периода уединенности — чтобы вновь показаться публично в новом обличье, в новой форме. Состояние временного отсутствия — это конституирующий фактор для того, что мы называем творческим процессом, фактически это и есть то, что мы называем творчеством. Андре Бретон рассказывает историю о французском поэте, который, отправляясь спать, вывешивал на двери записку: пожалуйста, тише — поэт работает. Этот пример суммирует традиционное понимание творчества: творческая работа потому и творческая, что происходит вне публичного контроля, даже вне сознательного контроля самого автора. Время отсутствия может длиться дни, месяцы, годы и даже целую жизнь. Только в конце периода отсутствия можно ожидать, что автор представит свою работу (она может быть найдена в его бумагах после смерти), и тогда она будет воспринята именно как творческая, потому что возникла как бы из ничего. Иными словами, творчество — это работа, которая подразумевает десинхронизацию времени процесса и времени предъявления его результатов. Творчество происходит в параллельном времени уединения, втайне — и отсюда возникает эффект удивления, когда это параллельное время ресинхронизируется с публичным временем. Вот почему субъект художественной практики традиционно стремился к тому, чтобы сделаться невидимым, взять тайм-аут. Дело не в том, что художники совершали какие-то преступления и хотели бы скрыть какие-то грязные секреты, которые они не желали сделать достоянием чужих глаз. Взгляд других переживается нами как дурной глаз не тогда, когда желает проникнуть в наши тайны и разоблачить их (такой проникающий взгляд скорее льстит и вдохновляет), а когда отрицает то, что у нас есть свои секреты, когда он низводит нас до того, что сам видит и регистрирует.

Художественная деятельность часто понимается как индивидуальная, персональная. Но что значит индивидуальное или персональное? Индивидуальное часто понимается как отличное от других. (Например, говорят: в тоталитарном обществе все одинаковы. В демократическом, плюралистичном обществе — все разные и уважаются в силу своих отличий.) Однако смысл заключается не столько в отличии от других, сколько в отличии от самого себя, в отказе идентифицироваться в соответствии с общими критериями идентификации. В самом деле, параметры, которые определяют нашу социально кодифицированную, номинальную идентичность, нам самим совершенно чужды. Мы не выбирали свои имена, мы не осознавали своего присутствия в момент и в месте рождения, не давали имен городу или улице, где, как предполагалось, мы будем жить, мы не выбирали родителей, национальность и т.д. Все эти внешние параметры нашего существования не имеют для нас значения — они не коррелируют с субъектной очевидностью. Они указывают на то, как другие видят нас, но совершенно иррелевантны для нашей внутренней субъективной жизни.
Художники модернизма выступили против идентичностей, навязанных им другими: обществом, государством, школой, родителями и т.д., — за право суверенной самоидентификации. Модернистское искусство было поиском подлинного «я». Вопрос здесь не в том, является ли подлинное «я» реальностью или же всего лишь метафизической фикцией. Вопрос идентичности — это не вопрос истинности, а вопрос власти: кто властвует над моей идентичностью — я или общество? И в более общем плане: кто осуществляет контроль, суверенитет над социальной таксономией, социальными механизмами идентификации — государственные институты или я сам? Это означает, что борьба против моей собственной публичной персоны и номинальной идентичности ради моей суверенной персоны или суверенной идентичности имеет еще и публичное, политическое измерение, потому что направлена против доминирующих механизмов идентификации — доминирующей социальной таксономии с ее разделениями и иерархиями. Вот почему художники модернизма всегда говорили: не смотрите на меня; смотрите на то, что я делаю; это мое подлинное «я» — или, может быть, вовсе не «я», а отсутствие «я». Позднее художники в большинстве случаев прекратили поиск сокровенного подлинного «я». Они, скорее, начали использовать свои номинальные идентификации как readymades и организовывать сложную игру с ними. Но эта стратегия все же предполагает дезидентификацию от номинальных, социально кодифицированных идентичностей, чтобы обрести способность художественно переосвоить их, трансформировать и манипулировать ими.
Модернизм был временем стремления к утопии. Утопическoe ожидание означает не что иное, как надежду на успешное осуществление проекта обнаружения или конструирования своего подлинного «я», a также достижение его общественного признания. Иначе говоря, индивидуальный проект поисков подлинного «я» приобретает политическое измерение. Художественный проект становится проектом революционным, нацеленным на тотальное изменение всего общества и уничтожение существующих таксономий. Здесь подлинное «я» становится ресоциализованным — через построение истинного, утопического общества.
Музейная система в отношении утопического желания амбивалентна. С одной стороны, музей предлагает художнику возможность трансцендировать собственное время со всеми его таксономиями и номинальными идентичностями. Музей обещает ввести произведение художника в будущее — это утопическое обещание. Однако музей нарушает свое обещание в тот же самый момент, когда его выполняет. Работа художника вводится в будущее — но на него накладывается номинальная идентичность художника. В музейном каталоге мы опять читаем все тe же имя, дату и место рождения, национальность и прочее. Вот почему искусство модернизма хотело уничтожить музеи. Тем временем революционные проекты в свою очередь историзировались. Сегодня мы видим, как бывшее коммунистическое население вновь приобретает национальную принадлежность и
Во время так называемого постмодерна поиски подлинного «я» и, соответственно, подлинного общества, в котором могло бы проявиться подлинное «я», были провозглашены устаревшими. Следовательно, можно говорить о постмодерне как постутопическом времени. Но это не так. Постмодерн не прекратил борьбы против номинальной идентичности субъекта — фактически эта борьба радикализировалась. У постмодерна есть собственная утопия — утопия саморастворения субъекта в бесконечных, анонимных потоках энергии, желания или игры означающих. Вместо отмены номинального общественного «я» благодаря выявлению подлинного «я» через художественное творчество постмодернистские теории искусства инвестировали свои надежды в полную утрату идентичности через процесс репродукции: налицо другая стратегия, преследующая ту же цель. Эйфорию постмодерной утопии, порожденную в это же время понятием «репродукция», можно проиллюстрировать следующим пассажем из книги Дугласа Кримпа «На руинах музея» (1993). В этой хорошо известной книге Кримп, отсылая к Вальтеру Беньямину, пишет: «С помощью репродуктивной технологии постмодернистское искусство освобождается от ауры. Фикция творческого субъекта прокладывает дорогу откровенному заимствованию, цитированию, изъятию, собиранию и повторению уже существующих образов. Понятия «оригинальность», «аутентичность» и «присутствие», существенные для упорядоченного музейного дискурса, разрушены»[2]. Поток репродукций захлестнул музеи, и индивидуальная идентичность тонет в этом потоке. Интернет на некоторое время стал пространством, на которое проецировались эти постутопические мечты — мечты о растворении всех идентичностей в бесконечной игре означающих. Глобальная ризома заняла место коммунистического человечества.
Однако Интернет стал не местом реализации, а кладбищем постмодернистских утопий — как музей стал кладбищем модернистских утопий. Центральный аспект Интернета состоит в том, что он фундаментально меняет соотношение между оригиналом и копией по сравнению с тем, как оно было описанo Беньямином, поскольку Интернет делает анонимный процесс репродуцирования регистрируемым и персонифицированным. В Интернете каждое «плавающее» означающее получает свой адрес. Детерриториализованные потоки информации обретают свое место. Вальтер Беньямин провел различие между оригиналом, который определяется через его «здесь и теперь», и копией, которая не имеет места, то есть топологически неопределима, не имеет своего «здесь и теперь». Сегодня дигитальная репродукция отнюдь не лишена места, ее циркуляция может быть топологически определена, a не представляется в форме множественности, как это описывал Беньямин. В Интернете каждый информационный файл имеет свой адрес и, соответственно, свое место. Тот же информационный файл с другим адресом — это уже другой информационный файл. Здесь аура оригинальности не утрачивается, но, скорее, замещается другой аурой. В Интернете циркуляция дигитальной информации производит не копии, но новые оригиналы. И эта циркуляция отлично отслеживается. Индивидуальные данные никогда не детерриториализуются. Более того, каждыe изображение или текст в Интернете имеют не только свое уникальное особое место, но и уникальное время появления. Интернет регистрирует каждый момент, когда кликают определенные данные, отмечают их как понравившиеся или непонравившиеся, перемещают или изменяют. Соответственно, дигитальнoe изображение не может быть просто скопированo (как аналоговый, механически репродуцируемый образ может быть скопирован), но всегда только заново созданo или исполненo. И каждое исполнение информационного файла датировано и архивировано.
На протяжении всей эпохи механической репродуцируемости мы много слышали о конце субъективности. Мы слышали от Хайдеггера, что die Sprache spricht (язык говорит) и в гораздо меньшей степени говорит индивид, использующий этот язык. Мы слышали от Маршалла Мак-Люэна, что медиум — это послание. Позднее деконструкция Деррида и машины желания Делёза научили нас избавляться от иллюзий относительно возможности идентифицировать и стабилизировать субъективность. Однако сегодня наши «виртуальные» или «дигитальные души» вновь становятся обнаруживаемыми и видимыми. Наш опыт современности определяется не столько присутствием вещей для нас как зрителей, сколько нашим присутствием перед взглядом скрытого и неизвестного зрителя. У нас нет доступа к его или ее образу — если этот зритель вообще имеет образ. Иными словами, скрытый универсальный зритель Интернета может быть помыслен только как субъект универсального заговора. Реакция на этот универсальный заговор принимает форму антизаговора — защиты души от дурного глаза. Современная субъективность не может более полагаться на растворение в потоке означающих, поскольку этот поток становится контролируемым и регистрируемым. Таким образом, возникает новая утопическая мечта, по-настоящему современная мечта, — это мечта о нераскрываемом кодовом слове, которое сможет навсегда защитить нашу субъективность. Мы хотим сделать себя тайной, которая была бы более засекреченной, чем онтологическая тайна, — тайной, которую даже Бог не смог бы разгадать. Парадигматичный пример такой мечты можно найти в практике WikiLeaks.

Цель WikiLeaks часто усматривают в предоставлении свободы потока информации, установлении свободного доступа к государственным секретам. Но в то же время практика WikiLeaks демонстрирует, что универсальный доступ может быть обеспечен только в форме универсального заговора. В одном из своих интервью Джулиан Ассанж говорит: «Если мы с вами договоримся о некоем тайном коде, математически строгом, ни одна сверхдержава не сможет его взломать. И если государство задумает сделать что-то с индивидом, ему просто это не удастся — и в этом смысле математика и индивиды сильнее сверхдержав».
Прозрачность базируется здесь на радикальной непрозрачности. Универсальная открытость базируется на самой полной закрытости. Субъект становится сокрытым, невидимым, берет тайм-аут для оперативных действий. Невидимость современной субъективности гарантирована до тех пор, пока ее защитный код не подвергся хакерской атаке, покуда субъект остается анонимным, неопределимым. Одна только защищенная паролем невидимость гарантирует субъекту контроль над цифровыми операциями и манифестациями.
Конечно, мы здесь обсуждаем Интернет, каким мы его знаем. Но я предполагаю, что нынешнее состояние Интернета радикально изменится в результате грядущих кибервойн. Эти кибервойны уже объявлены, и они уничтожат Интернет или, по меньшей мере, серьезно повредят Интернету как средству коммуникации и доминирующему пространству рыночных операций. Современный мир очень похож на мир XIX века. Это был мир, определяемый политикой открытых рынков, растущего капитализма, культуры знаменитостей, возвращения религии, терроризма и антитеррористической деятельности. Первая мировая война разрушила этот мир и сделала невозможной политику открытых рынков. В тот момент геополитические, военные интересы отдельных национальных государств оказались гораздо сильнее, чем интересы экономические. Затем последовал долгий период войн и революций. Посмотрим, что ждет нас в ближайшем будущем.
Мне бы хотелось закончить это эссе более общим рассмотрением отношений между архивом и утопией. Как я пытался показать, утопический импульс всегда связан с желанием субъекта вырваться за пределы своей исторически определенной идентичности, покинуть свое место в исторической таксономии. В определенном смысле архив дает субъекту надежду пережить свою современность и открыть свое подлинное «я» в будущем, ибо архив обещает поддерживать произведения этого субъекта и обеспечивать доступ к ним после его или ее смерти. Утопическое или, по крайней мере, дистопическое обещание, которое дает субъекту архив, имеет важнейшее значение для способности установить дистанцию и критическое отношение к своему времени и своей непосредственной аудитории.
Архивы часто считают средством консервации прошлого — чтобы предъявлять прошлое в настоящем времени. Но фактически архивы — кроме того и даже в первую очередь — это машины транспортации настоящего в будущее. Художники всегда исполняют свою работу не только для своего времени, но и для художественных архивов — то есть для будущего, в котором произведение сохранит свое присутствие. Отсюда разница между политикой и искусством. Художники и политики разделяют общее «здесь и теперь» публичного пространства, те и другие хотят формировать будущее — это и объединяет искусство и политику. Но политика и искусство формируют будущее двумя различными способами. Политики понимают будущее как результат их деятельности, которaя имеет место здесь и сейчас. Политическая деятельность должна быть эффективной, приносить результаты, изменять общественную жизнь. Другими словами, политическая практика формирует будущее, но исчезает в этом будущем, тотально поглощается собственными результатами и последствиями. Цель политики — устареть и уступить место политике будущего.
Художники же работают не только внутри публичного пространства нашего времени, но также для гетерогенного пространства художественных архивов, где их произведения помещаются среди работ прошлого и будущего. Искусство — как оно функционировало в Новое время и все еще функционирует в наше время — не исчезает после того, как работа закончена. Скорее, произведение искусства остается присутствующим в будущем. И именно это ожидаемое присутствие искусства в будущем гарантирует его влияние на будущее, дает ему возможность формировать будущеe. Политика определяет будущее фактом своего собственного исчезновения. Искусство определяет будущее посредством своего продолжающегося присутствия в нем. Именно это создает разрыв между искусством и политикой — разрыв, который довольно часто демонстрировался трагическoй историeй отношений между левым искусством и левой политикой в XX веке.
Разумеется, наши архивы структурированы исторически. И пользование архивами все еще определяется традициями историзма XIX века. В результате мы склоняемся к тому, чтобы посмертно вписать художников в исторический контекст, из которого они на самом деле стремились бежать. В этом смысле коллекции произведений искусства, предшествующих историзму XIX века, коллекции, которые, как предполагалось, должны были быть, к примеру, собранием экземпляров чистой красоты, только на первый взгляд кажутся наивными. Они фактически больше соответствуют подлинному утопическому импульсу, чем их более изощренные, исторически информированные соперники. Сегодня, мне кажется, мы все больше становимся заинтересованными во внеисторическом подходе к прошлому. Более заинтересованными в деконтекстуализации и реконструировании событий прошлого в их отдельности, чем в их исторической реконтекстуализации. Более заинтересованными в утопических стремлениях, выводящих художников из их исторических контекстов, чем в самих этих контекстах. И мне кажется, что это хороший сценарий, поскольку он укрепляет утопический потенциал архива и ослабляет его потенциал предательства утопического обещания — потенциал, неотъемлемый от любого архива независимо от того, как он структурирован.
Примечания
[1] Malin génie (фр.) — злой демон; термин Декарта, который обычно переводится на русский как «злокозненный демон». — Прим. переводчика.
[2] Crimp Douglas. On the Museum’s Ruins. The MIT Press, 1993, p. 58.
Перевод с английского Нины Цыркун