Химеры рождения
Во сне мы становимся частью всеобщей анонимности, во сне мы оказываемся всеми живыми существами; но стоит боли разбудить нас, встряхнуть нас, как мы оказываемся один на один с нашей бедой, осаждаемые мыслями, пробужденными болью.
Эмиль Чоран

На вопрос, изъявленный нам структурой бытия — возможно предшествующий ей, возможно следующий за ней, не имеющий ни формы, по существу, ни явной локализованности в языке, паразитом вцепившийся в пустоту космического пространства, звучащий везде и отовсюду, заявляя о себе через бесконечное множество глаз, ушей и тел, переплетающихся в беспрерывно длящихся войнах, сперва утопающих в экстазах, затем в агониях, переходящих из одной точки филогенетической диспозиции в другую, — на этот вопрос знаем ли мы ответ? Не без замешательства, хотя бы какой-нибудь? И вопреки всей претенциозности того удвоенного вопроса, что согбенно звучит на этой странице, и что не собирается смолкать до самой последней строчки не только этого, но и всех бывших до и будущих после текстов, можно с уверенностью заявить, что да — ответов у нас несть конца. Но на что, спрашивается, мы постоянно отвечаем? Мы постоянно на что-то отвечаем, но, кажется, так до сих пор и не смогли конкретно уяснить, на что мы отовсюду беремся свой ответ оставить. Один прокричит "я знаю, что ничего не знаю", другой "Бог", третий "Я", четвертый "Другой"; голоса, звучащие в унисон, смешивающиеся сначала в ругань, затем в неразличимый гомон, образуют нечто стоны раненых, нечто лязг мечей, нечто какофонию, фонтанирующую означающими так, что мысль становится уже невозможной, а тишина — немыслимой. Теперь уже неясно, где пролегают границы между Богом и Я, заканчивается Другой и начинается незнание; любая строчка превращается в код, любая запятая в оператор, автор — в скриптора, мыслящий — в воспроизводящего. Так начинается философия.
Будучи ничем не лучше и не хуже того сообщества, что денно и нощно занимается воспроизводством несмолкаемого рёва машин, на выхлопе которых нагромождается бесчисленный сор зрений и сомнений, я вынужден буду зайти с обратной стороны того ответа, что отовсюду, точно защитная реакция на укус, пытается направленный в его сторону вопрос обойти, увернуться от него, оставить под ногами, отправившись сломя голову вершить семейные драмы, составлять революционные программы или погрязать в современном карнавальном истеблишменте.
109293921903218481029402920092390230
0.0000000000000000.?
0.00000001. У истоков возникновения означающего лежит стремление, чтобы Другой не знал.
0.01. Я не знаю, что знаю всё.
10.01. Если бы я не знал хоть что-нибудь из того, что потенциально знать можно, то я не знал бы это лишь постольку, поскольку о своем незнании я каким-то образом узнал.
12.0002344. Узнать собственное незнание возможно лишь благодаря тому, что я изначально знаю всё.
150.02. Я знаю, что ничего не знаю.
10000.230. Это, по существу, единственное, что я знаю — что я ничего не знаю.
4050523030194. И это по совместительству единственное, что я не знаю — что я знаю это.
32184810294029200. Это не парадокс, не противоречие, не диалектика, не софистика и не обман. Это всё вместе.
9293921903218481029402920092390. Это не просто истина, не просто правда, не просто мудрость и не просто знание. Это и всё остальное, что есть и не есть, что может быть и чего не может быть.
109293921903218481029402920092390229. Мы живем в лучшем из возможных миров.
Навечно закрытый цветок
Отчего же нам случилось угодить в рыболовные сети того странного несоответствия, внутри которого разворачиваются бесконечные ряды антагонистических отношений, образующих сейсмическую форму всеобщего антропологического учреждения? Взрослея, лелеем возвращения в колыбель, не раскрывшись — спешим избавиться от неё. Ребёнок — существо искреннее, открытое, психика его в каком-то смысле еще не стала жертвой фундаментального раскола, разделяющего мир на устоявшуюся пару оторванных друг от друга островков самости, обозримых лишь на горизонте зеркальных поверхностей, отражающих каемки небрежно рассеянных по воздуху секреций телесного происхождения; мир в его глазах не стал еще опосредованием, замкнутым в веригах слов и символов. Его отношения с бытием чисты и прозрачны, не сломлены личиной манипулятивных механизмов, агрессии, лжи и лени, он — сама невинность.
И тут всё-таки следует отступить и провести немаловажное различение: ребёнок, если таковой присутствует в топологии психического развития, которое в массе своей и занимается перераспределением телесного, — единственное доступное нам состояние, внутри которого картезианский субъект погружен в летаргический сон. Тот самый шуршащий, невнятный шёпот, беспрепятственно бродящий по закромах сознания, шёпот без смысла и пауз, исходящий из машины, известной нам по рассказу Харлана Эллисона, называемой ЯМ, в ребёнке всего лишь на стадии зародыша, во сне, пробуждение из которого заблаговременно заказано богом Истины. И это вовсе не значит, что какой-то субъект предназначен только лишь для лжи, а какой-то другой — нет: говорить — значит уже лгать, быть — первичная форма лжи; в процессе производства речи так или иначе участвует вся вселенная, и нет смысла искать здесь чего-либо иного, кроме различных оттенков одной и той же, постоянно повторяющейся лжи. Дело не в том, что ребёнок говорит только правду, а скорее в том, что он еще не знает оставлять псевдо-ложных следов — он вообще не знает, а значит ложь в его устах обретает совершенно иной окрас, нежели тот, что выдаётся нам чрез уста созревшего субъекта. Главное отличие состоит в том, что пока ребёнок живет в ложном мире, принимаемом за правду, взрослый, наоборот, — рассыпает следы истинного мира, выдавая их за ложь.
Участь взрослого — оставлять след в расчете, что его примут за ложный; речь взрослого — это правда, косящаяся под натиском тревоги, взращенной на бесплодной почве собственной достоверности. Ребёнок же, напротив, только тем и занимается, что бесперебойно лжёт — и в этом вся его правда. По тому же принципу, по которому Ницше предостерегал нас от соблазна стать жертвами Истории, склоняя занять субверсивную позу по отношению к ней и к Истине соответственно, ибо та не знает ни лжи, ни лицемерия, — по тому же принципу и ребёнок выбирает дорогу невинности, окаймленную нивами мифопоэтического становления, где ложь, агрессия и лицемерие становятся неотъемлемой частью Блага.
Здесь мы получаем закономерное положение: мир ребёнка — совершенно ложный мир, мир же взрослого, напротив, — мир истинный, но выданный им за ложь. Мир взрослого — это, иными словами, мир взрослого ребёнка, а не только взрослого; мир некоего Имени, к которому в придачу, с упорной настойчивостью, приурочено еще и Имя-Отца (отчество). Взрослый, проходя этапы собственного становления, движется всегда по направлению к утраченному — к детству, к ложному, назад, ибо патологически хромая, не знает идти как-либо иначе, кроме как задом наперед. У проблем взрослого всегда детское лицо.
Но почему детство — ложное? Только лишь потому, забегая наперед, что детства на самом-то деле и не существует. Ведь если что и становится подспорьем для той магии, бесконечным источником которой является ретроспективный взгляд на события давно минувших лет, то именно несимволизируемость этого и всех предшествующих ему сюжетов, принимающих форму постоянного сдвига и сползания, пленяющую наши чувства сонной оторопью лёгкого изумления, каждый раз настигающей нас явнее полуденного зноя. Детство лишено страданий? Отнюдь. Детство — это страдание в чистом виде; ничем не сглаженная травма, зияющая из глубин всё еще нескоординированного тела, пытающегося зацепиться за любой след, линию, разрез, литеру, мыча вслед всякому исчезающему пятну, бесконечно удаляющемуся блику, ускользающему свечению на линии горизонта незамысловатое, постылое "мама", лишь бы хоть как-то удержать органы внутри постоянно расслаивающегося, не совсем своего тела.
Ложь Яхве
Сегодня мы располагаем недюжинным объемом информации в историографической области знания, в срезе которой можно обнаружить всё то, что касается, по совместительству коррелируя с нововременной филиацией отдельного субъекта, истоков развития психического аппарата, механизмы которого в древние времена были сжаты до максимально плотных форм праксиса — несублимированных, ввиду чего и крайне радикальных. В данном случае, религиозный аспект интересует нас более всего, ибо лоно всякого дискурса — Миф. Наиболее важный случай древнеисторического праксиса, отмеченный знаменем религиозности, можно обнаружить в истории Древнего Израиля, где господствовали практики детских жертвоприношений, взваливших на христианских пророков непосильную ношу по поиску различного рода апологетических изысканий, обеляющих темную сторону возможности истолкования священного писания. Хотя совершенно очевидно, что дело здесь отнюдь не в возможностях верного истолкования (словно текст располагает особым измерением достоверности, не вовлеченным в движение имманентных составляющих самого текста), дело скорее в скольжении риторических мест записи, конфигурации пауз в тексте, аккумулирующих промежутки и зазоры, сообразно которым расширяется и диапазон социальной сублимативности.
Подобные древнеизраильским приношения происходили также и в Пунических колониях, где идентично названные обряды, включающие жертвоприношения детей, появляются в сочетании с обетами. Опробовав себя в шкуре древнего человека, прощупав тем самым синхроническое измерение мифа, мы задаемся вопросом: отчего Яхве интересуется несозревшей, ещё сырой кровью ребёнка? Почему он не просит ту, что с происшествием многого времени научилась какому-никакому движению, обороту, эргономичности? И всё-таки для Яхве было важно отобрать именно детей, к тому еще и первенцев, видевших земной свет не больше семи дней отроду: «Первенца из сыновей твоих отдавай мне (bəḵor baneḵa titten li); то же делай с волом твоим (šoreḵa) и с овцою твоею (ṣo’neḵa). Семь дней пусть они будут при матери своей, а в восьмой день отдавай их мне» (Исх. 22, 29-30).
Ребёнок, если по-пелевенски, — время, свёрнутое в пружину: все дороги открыты, жизнь вся впереди — Кронос в исступлении. Но погодите. Что предшествует понятию ребёнка? Ведь что-то должно, ибо не с него начинается и не им заканчивается казуистика наложенных друг на друга разграничений.
Всё начинается с рождения. Рождение как первопричина и переход, знаменующий появление субъекта, — событие всегда насильственное. Происхождение Другого берет свое начало в лоне негации, трещиной образующейся на бесформенной глади никем еще не расписанного полотна, уставшего от своей бесцветности и той аморфности, что повсеместно сопровождает его желание оказаться распоротым, не одиноким наконец, — там, где впервые объявляет себя точка, беспробудно вшитая в пустоту сферической протяженности, тотчас же обнажающая себя и в качестве линии, устремленной пересечь горизонт геометрической регрессивности, бесконечно искривляющейся под натиском неистового кипения сил, без которого не обходится ни один природный бестиарий, будь он доступный или недоступный нашей известности.
Размножение — это производство энергии, которую субъект больше не в силах направлять на собственный рост, вследствие чего он, в приступах разочарования, берется растрачивать её, рассыпать, разбрасывать кругом, делая это совершенно впустую, себе и другим во вред, отрекаясь от логики приобретения и накопления. Тот самый избыток, преположенный субъекту дарами солнечной энергии, больше не в состоянии бесцельно сноваться между разнородными пунктами эпифанического откровения и решает обернуться против самого себя, как бы вонзя жало дарованного ему богатства в собственное же сердце, ибо даже Солнца участь — когда-нибудь погаснуть. Родить — значит пожертвовать. Рождение уже, по существу, является величайшей жертвой — деятельное прощение мира за его сущностную убогость и безобразность.
Если со стороны Отца, принимающего участие в рождении на правах зачинателя, эдакой аморфной, неконсистентной материи, не происходит никакого волевого усилия по отношению к ваянию формы предвосхищающей себя жизни, а лишь предоставляется некоторое Требование, стрелою вперённое в самое сердце Времени, то со стороны же Матери акт рождения означает полноценную смерть, ибо всё её пространство по мере производства клеточного деления внутри своего организма постепенно теряется в целостности, становится гетерогенным, чрезмерным, чужим, ибо его носителей отныне не один, но множество. Зияющая пропасть биологии, ютящаяся в материнской утробе, не знает ничего иного, кроме как потреблять, лениво подводя источник своего наслаждения к смерти; Матерь же, в пылу саморазрушения, обретает материальную суверенность, в чреве ютя чудовище, которое не Я, но которое еще и не Бог, разветвляя мышечную массу внутри себя подобно лабиринту, в котором теряется и Я, и вместе с ним Бог, манифестируя господство телесной нестабильности, неистовства исторжения и дисгармонии.

Но что нам в этой жизни от Отца? Он так и остается гомогенным в своей негласной требовательности? В каком-то смысле, участь Отца всегда по происхождению состоит в удержании гомогенности собственного тела, сохранении и приумножении его секреций. Его задача — сделать гетерогенное, чудовищное тело ребёнка прямоходящим: вправить в него позвоночник, рассечь плоть иероглифическим письмом, сердце пропитать эпитафией — создать, в общем-то, машину. Мы не совсем знаем, откуда берётся отцовская фигура, однако откуда бы она ни бралась, одно мы сказать можем точно: она всегда приходит к нам мертворожденной. Как только появляется Отец, вместе с Ним появляется и смерть. И если Матерь — прерогатива жизни, неуловимо разветвляющихся интенсивностей, то Отец — прерогатива смерти, полномочие математической строгости, запускающей коловращение элементов означающей батареи.
«Господь пожалел, что сотворил человека на земле, и сердце Его наполнилось болью» (Быт 6:6)
Не является ли Яхве, прячущийся во мгле ночной, тем, кто по совместительству прячется и в глубине собственной раны, наслаждаясь тоской по солнцу, возделанному собственными руками, — по творению, превзошедшему своего творца? И настолько он возлюбил Солнце своё, что решил предать огню всю ту землю и ночь, в которых он веками благоденствовал, ночевал и воспевался, лишь бы восполыхала Его никем не понятая любовь. Так он оказывается на кресте, и эхо от распятия смолкать не собирается — самосожжение на вершине Голгофы обещает нам вечность своего повторения.
Яхве просит не детей, но Время — невозможное, немыслимое для себя — он просит в свое пользование небытие, чтобы сделать его бытийствующим, скрестив эти два несовместимых субстрата воедино: всё, чего он хочет для детей — это стать для них Отцом, взвесив на шеях их ярмо Слова, что есть смерть. В своей физической смерти они приобретают некое перверсивное подобие рождения — рождение в Слове. Перверсивное, ибо понятое чересчур рационально, чрезмерно надёжно: если всякая жизнь, уподобленная Слову, изначально возможна лишь как то, что тяготеет по преимуществу к смерти, ибо чрез смерть обретает свой собственный смысл — а значит и бытие, — то и смерть должна быть понята не иначе, как через жизнь. Однако жизнь в перверсивном значении хотя и берется в учет, но отнюдь не как бытие-к-смерти — что на самом деле представляло бы собою прямую противоположность смерти, сохраняя противоречие между элементами диалектического противостояния, а значит, в этом противостоянии, и самое понятие, — но как жизнь самой себя, то есть жизнь смерти. Происходит некий перверсивный поворот, ибо к чему нам, спрашивается, заботиться излишками диалектики жизни и смерти, когда вся суть доступна нам не выходя из дому, на первом шагу — в смерти? Если смысл жизни в смерти, то к чему нам теперь жизнь? Давайте же сразу ступим за необходимую черту и не будем изводить себя ненужными судорогами!
Примерно таким образом был обнаружен cogito Декарта — автономный, всепоглощающий субъект, больше не располагающий никаких преференций по отношению к жизни. И чем декартовое абсолютное Я не продолжение властных полномочий Яхве? К чему изводить себя ненужными тактами эмпиризма, если все они так или иначе сводятся к одному и тому же — к мёртвому Я, навеки застывшему посреди вечного зияния пустоты? И чем жертвоприношение древних израильтян отличается от жертвоприношений нововременных "рациональных" субъектов, кладущих человека на алтарь университетской рацеи? Яхве, ставший Христом и облачась в академическую мантию, всё по-прежнему алчет крови невинных, спасая всех тех, кто о спасении и спрашивать не просил. Спасать — Его одержимость. И нет более печального зрелища в этом мире, чем ребёнок, не знающий еще о скорби своей рожденности, напрашиваясь одним только этим своим основанием на мучительную участь быть спасенным.
Неудивительно, ибо самый могущественный Бог тот, кому отдают самое дорогое из принадлежащего Ему земного владения. И не приходилось еще ничего дороже человеческому сердцу, чем его колыбель. Ибо что может быть ценнее, чем ничто? Боги и сейчас не сумеют найти себе иного пропитания, чем того, что выжато из самой земли. Вселенная давно погрязла в бесплодии, звезды же больше не светят богам; остались только несчастные крохи человеческой трагедии, развернувшейся на невзрачном теле всюду изъеденной унижениями природы, стремящейся к той же пустынной невинности, какую в пример ей поставило бесконечно самопожертвенное, бесконечно далекое Солнце.
Империя трещит по швам, варвары наступают… Что нам оставалось делать, кроме как бежать из эпохи? Счастливые времена, когда нам было куда сбежать, когда уединенные места были доступны и гостеприимны! Мы лишились всего, даже пустыни.
"О недостатке быть рождённым"
Эмиль Чоран
О времени
В моем понимании, линейная и феноменологическая концепции времени, согласно которым разнородные временные регионы лежат на сплошной линии и следуют друг за другом — это дискурсы искусственного понимания времени, касающиеся лишь мира катарсического субъекта, уверенного в счастливой возможности обрести полноту знания, отмеченную манёвренностью в пространстве хронологического развертывания. Между прошлым и настоящим не существует никакой явной последовательности, детерминистской преположенности — нашему эмпирическому потенциалу попросту неподвластно установление крепкой каузальной связи между прошлым и будущим как между тем, что произошло "прежде", а затем "после". Ссылаясь на Юма, ответ можно усмотреть в том, как всякая каузальная последовательность между событиями "до" и "после" возникает в нашем сознании лишь по зову привычки:
"Разум никогда не может убедить нас в том, что существование одного объекта заключает в себе существование другого; поэтому, когда мы переходим от впечатления одного объекта к идее другого или к вере в этот другой, то побуждает нас к этому не разум, а привычка или принцип ассоциации"
Дэвид Юм
Исследование о человеческом познании
Фрейд же на место неустранимого зазора между причиной и следствием помещает бессознательное — более усовершенствованную форму понятия привычки. И это помещение во многом верно, ибо бессознательное никакой последовательностью не располагает — напротив, оно движимо одной только слепой динамикой непрерывных замещений. Это не избавляет время от его пространственной категориальности, к чему тщится прийти всякий, замутненный философскими психозами разум. Напротив, подобное помещение ставит своей целью помочь скорее пространству, нежели времени, — вот, что важнее всего, ибо только в таком незамысловатом ходе возможно добраться до Времени — сделать это топологически, добравшись сперва до Пространства: о тьме мы сможем узнать, лишь двигаясь по направлению к источнику света, средоточию огня и боли, где, подобно Икару, в слепящем глаз солнце мы обретем свою собственную, лишенную тепла и чувств черную дыру.
Так, всякое настоящее, будучи первичным тактом временного логического шага, не будет означать никакого такта, покуда не заместится вторичным элементом шага в рассматриваемой развертке пространственных отношений. Покуда не возникнет никакого Иного на месте распростертого Первого, не возникнет и самого Первого. О первом мы знаем лишь оттого, что нам дано нечто второе — без него это самое первое не является ни первым, ни вторым — никаким, но сущей пустотой означивания. И как только [первое] настоящее замещается новым [вторым] настоящим, так сразу мы обретаем право допускать, что ЕСТЬ некое первое — ибо теперь у нас есть и Второе, в противовес первому. И здесь мы видим: Второе всегда становится тем, что учреждает Первое, но никак и никогда не наоборот. Второе, объявляясь как второе, задним числом приписывает Первому его первичность. Всякое второе — это первое, мошенническим образом сбрасывающее с себя бремя первенства в пустоту первичного логического такта. Всякое второе — мир истинный, но выданный им за ложь.
Однако как так выходит, что Второе вообще решает объявиться, возникнуть? Откуда берётся эта необходимость? Второе возникает как первое не потому, что ему предшествует некая пустота первичной неразличенности, а наоборот, потому, что своим появлением оно обязано некоему иному второму по отношению к самому себе — третьему, для которого заблаговременно заказано его личное собственное второе, образующее своеобразную топологическую экономику не-экономичного, закручивающую пустоту в батарею бесконечного означивания. Вся эта развертка служит лишь одному — стремлению достичь некоего Первого, возникшего, по существу, САМЫМ ПОСЛЕДНИМ, но совершенно обманным образом учрежденного в качестве ПЕРВОГО.
Последнесть Первого состоит в том, что первенство принадлежит не ему, а некоей Бесконечности, которая настолько богата своей содержательностью, что уже и не ясно, сколько тактов временного логического шага внутри неё приведено в действие и сколько знаков там диссеминированно. Бесконечность не последний этап, но бесконечно предпоследний в рассматриваемом топологическом времени. Эта Бесконечность — это Единое, которое, вопреки оптимистичному прочтению, не покоится, а скорее бесконечно разветвляется, скользит, мельтешит и разрывается — это пространство виртуального бурления, где растрескиваются разного рода фрактальные объекты и где громадные плиты, множество плоскостей небрежно друг на друга напластываются. Единое, в котором заключена вечность и всесодержательность времени, является тем, что своей неуловимостью конституирует пространство чистой первичности, где необходимость в самом понятии пространства просто-напросто отпадает. Иными словами, если нам дано хоть что-то одно, значит нам дано и всё остальное — нам дано вообще ВСЁ.
К чему разрезается Единое и для чего Оно ветвится в абсолютно разные непредсказуемые стороны? Исключительно лишь ради того, чтобы выйти в покоящуюся пустоту Первого, где нет ничего, кроме него самого, застывшего посреди вечного холода космической протяженности. И чтобы картезианский субъект обрел свое дыхание, ему необходим некий обманный маневр, опирающийся на недискурсивный дискурс дробящегося Единого. Этот маневр заключается в том, чтобы перевернуть логику недетерминированного Единого, изваяв на её месте логику детерминированной Пустоты, бросив Время за решетки монотеистического деспотизма. Картезианский субъект выворачивает Единое в образ Пустоты, Второе в Первое, чтобы начать свой путь из него, всё еще внутренне содержащего ВСЁ, но уже в спрятанном, завуалированном виде, как бы манифестируя на этом месте принцип наслаждения [jouissance], что объявляется в качестве возможности времени быть ТРАНСГРЕССИВНЫМ — способным прорезать обсессивную вуаль ничтойности, попадая в место, где априорная сеть из миллиарда флуктуаций и пульсаций прядет бесконечность.
Субъект одной рукой создает то, что второй рукой сразу же и снимает: набрасывает вуаль на Единое, чтобы в этом слепящем глаз самообмане назначить себе неведение, конституирующее Время, после чего суметь обрести собственную возможность наслаждаться саморазрушением: неторопливо обнажать вуаль, наброшенную собственными же руками, сопротивляться запрету, оживотворенному собственным же голосом. Субъект объявляется вместе с наслаждением по отношению к постепенному угасанию времени, которое в картезианском обмане обретает свою конечность, так или иначе возвращаясь в бесконечное Единое, где и обречено навеки снова затеряться.
Получается, что Единое, представляя собою подлинную первичность временного логического действа, в обыденной логике обманом оказывается расположенным с краю (∞), приобретаясь через этот обман как то, что вечно становится. Всякое Первое настоящее, чтобы не конфликтовать со Вторым, учреждается, таким образом, в новом понятии — в прошлом. Первое — это то, куда возвращаются; и возвращаются всегда в прошлое. Вот только откуда? Всякое прошлое учреждается из настоящего, которым оно было: всякое прошлое поглощает настоящее, высвобождая путь для нового [второго] настоящего, составляясь тем самым как прошлое. Для собственного становления прошлое требует исключительно первого настоящего — прошлое не может учреждаться из настоящего, которым оно не было, посему оно всегда требует того настоящего, которым оно было, а именно первого настоящего. Грубо говоря, высвобождая путь для второго настоящего, время таким образом признает только его актуальность (настоящность), превращая наше обыденное настоящее в предмет прошлого. Настоящим может быть только новое [второе] настоящее, клеймя первое настоящее современным прошлому. И это отношение беспробудно, словно на застывшей плёнке: настоящее постоянно теряется в прошлом, признавая актуальность одного лишь будущего (второго настоящего). Движение происходит всегда ИЗ будущего В прошлое, ИЗ места, которое всё никак не проходит, В место, которое всё никак не приходит.
Я есть не просто Другой, как заключено в лакановской апелляции к Артюру Рембо («Je est un autre»), а еще и тот, кто хочет убить самого себя, прийти к Я, — я есть другое (третье). Очевидно, что диалектического двойственного сцепления означающих недостаточно для осуществления расширяющегося движения: если бы были только Я и Другой, то движение заключалось бы в одном лишь простом сновании взад-вперед (от Я к Другому и от Другого к Я). Но движение не происходит на подобный самозацикленный манер: когда одно переходит к другому, а другое непосредственно возвращается к первому. Всё же между ними есть нечто третье — некий средний термин или понятие, или сущность, которая постоянно передаётся. Это третье — это и есть то самое другое, объект а. Только через наличие третьего элемента можно усмотреть в пленяющем наше воображение понятии Времени спиралевидную активность: где Я передается Другому через другое; другое как бы подбрасывает Я на пути к Другому, чем располагает его всегда или выше, или ниже Другого, делает его отчужденным, неполноценным, трагедийным. Иными словами, смотря в зеркало дома, мы спокойно заключаем, что Я — это Другой, но выходя на улицу, мы сталкиваемся с третьим, к которому, впоследствии, мы и низводим Другого как Я. Я в этой диалектике совершенно утрачено (настоящее); видим лишь Другой (прошлое, забрасывающее себя в будущее) в форме другого (будущее, теряющееся в прошлом). Получается вот такая незамысловатая топологическая развертка, чем-то напоминающая скольжение по поверхности ленты Мёбиуса. Спираль, закрученная вниз.
Настоящее сосуществует с прошлым так же, как Я сосуществует с Другим — это два разных региона, которые, тем не менее, как я указывал ранее, смежны. Настоящему, по итогу, надлежит быть тем, что никогда не проходит, прошлому же надлежит быть тем, что всегда есть, что всегда у нас на руках.
Поскольку каждое прошлое современно настоящему, которым оно было, то все прошлое сосуществует с новым настоящим, по отношению к которому оно теперь прошло. Прошлое больше не находится “в” этом втором настоящем; не более, чем “после” первого. Отсюда бергсоновская идея, что каждое актуальное настоящее — лишь все прошлое целиком в самом сжатом виде. Прошлое не заставляет проходить одно из настоящих, не вызывая появления другого, но само не проходит и не приходит. Вот почему, далеко не будучи измерением времени, оно — синтез всего времени целиком, а настоящее и будущее — лишь его измерения. Нельзя сказать — прошлое было. Оно больше не существует, уже не существует, но упорствует, оно содержится — оно есть.
Жиль Делёз
Различие и Повторение
В связи с этим, неполноценным оказывается представление о том, что прошлое перестало быть, что оно истечено. Нам следовало бы несколько пересмотреть это понимание, отделав его на более складный манер: ведь если чего и не бывает в этой связке, то только настоящего, ибо его образ всегда возникает из актуальности прошлого. Настоящее являет собою чистое становление, постоянно теряющееся в прошлом. Настоящего нет, ибо оно всегда предстает перед нами как то, что стало прошлым. Таким образом, наше обыденное понимание часто не выдерживает критики собственного ретроспективного анализа: о настоящем мы, сами того не замечая, выражаемся как о том, что "было", а о прошлом — как о том, что "есть". Ведь прошлое не есть то, что помнится или забывается, прошлое — это то, что постоянно возвращается в настоящее как предначертанная неотвратимость.
Всякое стяжение экстернального есть, по существу, его семиотизмация, безостановочная предикация, экспансия дискурсивного "Я", желающего вернуть избыточность утраченного прошлого — того, что уже было. Прошлое узурпирует настоящее не столько потому, что лишь прошлое удостоилось онтологического статуса существования, сколько потому, что в своем ускользающем присутствии оно таит неизведанную подоплёку Желания, образуя через психическое пространство перспективу грядущего. Сказать, например, "я хочу стать физиком-ядерщиком", в самой меньшей мере значит то, что я хочу стать физиком-ядерщиком. В желании обрести какой-нибудь объект, очевидно, скрывается что-то помимо желанного объекта, что-то, к чему у человека нет доступа в настоящем и к чему доступ вряд ли будет утвержден в будущем, ведь всё это является выражением того, что уже некогда "было" — что происходило в Реальном прошлого.
Стягивая грядущее, субъект только то и делает, что возвращает его в прошлое. Стягивая грядущее, субъект обрекается болтыхаться в пастозном болоте прошлого, каждое поползновение из которого увязает его в нем лишь всё более глубже. Влюбленный молодой мужчина, застрявший в навязчивом повторении фантазии о некогда пережитом романтическом сценарии, лихорадочно развенчивая его образ с самых разных сторон и погрязая в болезненной персеверации мыслей и слов, желая вернуть реальность воображаемого, восполнить его, завершить фантазм и, наконец, сбросить с себя бремя избыточного желания, — в этом кипящем котловане чувств он занят не чем иным, как стягиванием грядущего, повисшего в облике прошлого и всё никак не желающего приходить. Влюбленная молодая женщина, никогда не переживавшая романтического сценария, но отовсюду наблюдавшая его, лихорадочно желая постичь этот опыт, догнать его в каком-нибудь реальном событии, занята, по существу, не чем иным, как стягиванием прошлого, повисшего в облике грядущего и всё никак не желающего проходить.
И ведь напрашивается вопрос: а что мы все пытаемся вернуть? Что, собственно, было? В том и дело, что ничего не было. Абсолютно ничего. Первое не содержит в себе ничего без того, что объявляется во Втором. И в этом нет совершенно лукавым образом скрывает себя да. Если прошлое и существует, если оно доподлинно ЕСТЬ, то только лишь потому, что в настоящем его как раз таки НЕТ; его нет в том, что БЫЛО. И коли мы признали, что настоящее — это то, что БЫЛО, мы впоследствии совершенно не слукавили, заявив, что то, что БЫЛО, становится тем, что ЕСТЬ — и есть оно как то, что было. Ибо как еще объяснить то, что прошлое как таковое есть, но внутри него — ничего нет? Внутренняя сторона прошлого, ставшая сосудом для неуловимой субстанции настоящего, всегда содержит нулевую степень бытия — в этом и проявлена сакральная природа прошлого времени. Прошлое есть, но в нем самом ничего нет. Настоящее, прячась во всяком осколке прошлого, объявляет себя всегда в качестве того, чего нет: настоящее — это всегда внутренняя сторона прошлого. Прошлое есть, и только оно есть, но того настоящего, которое в нем ищется, нет и быть не может; прошлое есть, но как тело без органов.

На вопрос "Кто ты?", даже для самих себя, мы не сможем, как бы сильно того не хотели, ответить по-хайдеггеровски: "Я здесь-бытие". Смехотворно полагать перверсивную установку экзистенциализма, утверждающую свободу настоящего, способной манифестировать вневременного субъекта, помещенного в "подлинное" отношение ко времени. В этом нет ничего, кроме фетишизации языка, поиска опьянения в нем: ведь вера и, пускай уж, актуализация принципа "я здесь-бытие" — это, в действительности, не что иное, как алкогольный экстаз, пригодный исключительно для случаев космической важности. Разве есть в этом мире что-либо более дурманное, чем звездное небо над головой? Встретившись однажды с пустотой космоса, не находишь в этом мире ничего большего, кроме оторванного от своих реперных точек Времени, выбитого из бытия и размозженного на отрезки мгновений, больше не желающих играть какие-либо роли.
Вытеснить прошлое во имя настоящего — не лекарство, но лезвие для одержимого. Человек зависим от времени. Человек и есть время, и ему не сбежать от себя. Отвечая на вопрос "кто ты?", будучи существом абсолютно логоцентричным, мы не сможем не прибегнуть к вскрытию своего хронологического порядка, являя Другому боль своего прошлого, обманным маневром манифестированного на месте, которого никогда не было, ибо оно всегда уже есть, — травму несуществующего настоящего, сокрытого по ту сторону всякого прошедшего. Человек не лекарство, но боль. Субъективация, вызванная требованием ответа со стороны Другого, — это разбивание человека на исторические осколки, своим безобразным видом оскверняющие его сущностную ничтойность. Или человек, или вневременность: усесть между — ложь. И так случилось, что одной ложью сыты.
Тебе не нужен даже ярлык с надписью «зеркало», потому что ты и так зеркало, с самого начала. Ты никогда не был ничем другим. Но это необычное зеркало. Это зеркало, которое нельзя разбить, потому что оно везде. Кроме того, его нельзя увидеть, потому что оно нигде. Оно ни из чего не сделано. Оно просто есть. Но о том, что оно есть, можно узнать только по отражениям, которые в нём появляются. Ты — это всё, что отразится. И ничего из этого.
Виктор Пелевин
Жизнь насекомых
Фантазм
Мир взрослого только из того и состоит, что из отпечатков да засечек: куда ни глянь — везде пометки да засечки, срезы пульсирующей плоти. На фундаментальном уровне мы являемся не чем иным, как антропогенным стягом рубцов, водруженным на почве времени. Человек рождается в колыбельной, колыбельная происходит из родословной, что выходит из истории; история же, в свою очередь, рождается из истерии, вымощенной шаткой плиткой из слов и символов. Или же… всё наоборот? Впрочем, это не так уж и важно — в какой последовательности история размещает указанные этапы на линии градуальности собственного развития, ведь это нисколько не умаляет той страсти, с какой мы, в нашем вожделении по отношению к Другому, подходим к своему прошлому.
И что действительно нас привлекает в прошлом, так это мистическая оживленность пространства и гемостаз времени, в котором символическая составляющая восприятия была невероятным образом исключена из ретроспекции. Вся наша жизнь отмечается одержимостью возвращением в прошлое, недостижимое после крещения в купели Языка. В моменте "сейчас", как только он дает о себе знать, вся последующая жизнь превращается в неукротимую тоску по прошлому, интерьер которого некогда был стерилизован от драматической оперетты бесконечно наползающих друг на друга зеркальных отражений.
Человек, переживая опыт отсутствия, можно сказать, опыт без-опытности, распластывает по его продольной поверхности знаки, денонсирующие себя в виде символьных засечек и разрезов, образующих место и сообразный ему опыт. Чтобы месту быть, — в принципе, быть, существовать, — оно нуждается в оречевлении, производящемся в лоне ротовой полости, которое, по существу, и само является не чем иным, как разрезом на теле первичного отсутствия — таким же образом, как и разрез глаз, ушей, ноздрей и зубов. Этот разрез, неспособный смириться с собственной уязвимостью, замечая в себе зияющую неполноценность присутствия, берется посредством еще больших разрезов восполнить её — письмом, фонетикой или сугубо мимикой, пристегивая ко рту глаза, к глазам руки, к рукам язык, к языку лёгкие, делая себе таким образом только хуже. Чем привычнее нам пространство, к которому мы как некоторая семиофизическая данность пристегнуты, совершая разрезы тут и там, тем больше это пространство становится неотделимым от структуры нашего "Я", которое уже само берется, вопреки нашему усилию, точно слизевик, расплестись на месте проживаемого опыта. Мы в каком-то смысле и сами начинаем быть этим пространством. Мы становимся этим пространством, ведь оно не знает себя иначе, как не через гомологическую соотнесенность нашему телу; оно не знает себя иначе, как не через бытие телом. Пространство — это вирус, ставший телесным сосудом для картезианского предприятия.
Однако, как только мы теряем доступ к символической составляющей места, к тому, что можно было бы назвать материнской функцией, наше невротическое "Я", образованное совершенно случайно благодаря богу Яхве, явившись в качестве Его эманации, тотчас же попадает под действие процесса распада, теряясь в бездне нехватки, перекрыть которую мы беремся, разрезая кожу на своих руках, расторопно выплескивая из её внутренностей всё то, что, как нам кажется, содержится в качестве заражения в самой крови — и это не что иное, как простая гигиеническая процедура в порядке заботы о здоровье собственного тела. И термин "место" подобран отнюдь не праздно, ведь дело именно что в утрате места, а не того, что обнаруживается вокруг него. В момент, когда это происходит, субъект, в попытках защитить и восстановить прежнюю целостность, мобилизует все свои аффектационные силы на вытеснение болезненно пульсирующей символической массы, гниющей в его гортанной полости, тошнотой своей манифестируя исключенность на месте утраченного прошлого: человек как бы отвергает свою причастность к области утраченного языка, смещая её в недра несимволизируемого, где та трансгрессирует в сны, химеры и галлюцинации, ибо то, что стало утрачено, ранее и само было не более чем сном, химерой и галлюцинацией. Человек тщится стать пустым, ибо всяко лучше пустым сбыться, нежели разорванным химерами.

Химеры нематериальны и существуют благодаря фантазму; химеры являют собою материю как таковую. Находясь в месте, мы наблюдаем перед собою не сборку материалов и интерьерных решений, а свой собственный фантазм: не мы в месте, но место в нас. Место умеет говорить своим собственным языком, сила и убедительность которого несоизмеримо превосходит силу обыденного языка. Более того, место говорит не с нами, а с самим собой через посредничество НАС. Так, например, подаренная другом детства книга, лежащая в углу комнаты на полке, покрытая пылью, немного потрепанная, будет означать для нас куда больше, нежели слепая конфигурация форм и материалов, образующая пространство в обыденном его представлении. Ибо такая книга, которая сумела задержать локус нашего внимания на себе, не может быть чем-нибудь иным, кроме как продолжением нашего собственного тела. Это интернализация, занимающаяся перераспределением телесных участков на поверхности субъекта: наше тело, как известно, ничто без спасательной силы технологической самореализованности. Человек единственное существо, которое создает автоматы, не являющиеся таковыми в полном смысле собственного слова. Эти автоматы не знают того слепого автоматизма, какой присущ всякой (не-)естественной природе; все эти автоматы есть плоть и кровь от человека, но никак не машины. Комнате достаточно одной только книги, чтобы отречься от настоящего, воспротивиться грядущему и перейти в воркующий диалог с самим собой, — со временем, оторванным от своих означающих, — с несуществующим, но оттого живым прошлым. Лишиться такой книги всё равно что лишиться руки — а подчас и жизни вовсе.
Ахматова мельком сообщила, что к одной её приятельнице после двухлетнего разрыва вернулся муж.
— Странно мне всегда это слышать, — сказала я. — Вернулся, вернулась… Я думаю, любовь так же невоскрешаема, как мертвец.
— Да, конечно… — помедлив, сказала Анна Андреевна. — Возвращаются не к человеку, не к прежней любви, а к стенам, к комнате.
(Лидия Чуковская, из воспоминаний)
Мы повсеместно сталкиваемся с непрерывным преобразованием местностей, с неумолимостью их трансформаций, однако наш фантазм имеет дело всегда только со статическими формами объектов — он имеет дело с обломками вечности. То, что некогда переживалось как вовлеченное бытие, сумеет воплотиться и обрести свое автономное существование лишь тогда, когда подберется языком. Воротясь домой сквозь многолетние скитания по чужбине, человек хотя и встречает совершенно иную конфигурацию пространства, тем не менее открывает перед собой не содержание места, но место самое по себе — прошлое, зафиксированное в символических засечках, предназначенных перекрыть доступ к Реальному прошлого, раскрывая Реальное будущего. Ибо то, что такой человек видит в прошлом — отнюдь не прошлое, но место локализованности его Желания — место, которое хочет занять положение будущего: пускай уж через перерождение или вечное возвращение, пускай через сказку или сакральное, пускай хоть через трансгрессию уже — но будущее. Отверзая эти самые засечки, в которых угнездились химеры вовлеченного бытия, человек тем самым переносится из текущего временного региона в регион безмятежного детства, которого не было, но которое через перекрытие Реального учредилось в форме будущего. Здесь человек начинает диалог со своими химерами.
Общающийся с собственными химерами, является, по существу, амнестиком, размахивающим семиотическим сачком в попытках уловить хотя б какую-нибудь реминисценцию в вакууме несуществующих воспоминаний. И то действительное, что улавливается этим сачком — не диалог с прошлым, но страдание. Такой человек наслаждается болью собственной утраты. Утраты чего? Ничего. Но именно ничто и больнее всего было терять. Эта боль вожделенна человеком, ведь без неё перестанет существовать не только подаренный ему от Яхве cogito, Смерть, но и мир в целом. То, что Лакан назовет впоследствии словом jouissance, является не чем иным, как тревогой, вызванной перверсивным ощущением затерянности в прошлом.
Хлам имеет над человеком странную власть. Выкинуть какие-нибудь треснувшие очки означает признать, что целый мир, увиденный сквозь них, навсегда остался за спиной, или, наоборот и то же самое, оказался впереди, в царстве надвигающегося небытия… Обломки прошлого становятся подобием якорей, привязывающих душу к уже не существующему, из чего видно, что нет и того, что обычно понимают под душой, потому что…
Виктор Пелевин
«Ника»
Ложь Яхве: Катарсис
Фантазм единоличен, неделим, отвращен к коллективам, хотя формально и разделяем ими под эфемерной общностью намерений и смыслов, главным основанием которых является стремление к примордиальности. Общность прошлого, на которой так настаивает коллективная логика ответственности — флёр обсессивного сознания, хитроумная подложка, вокруг которой выстраивается громадная шеренга недругов в предвкушении сладострастных образов торжественной оргии, знаменующей конец всякого времени. Ведь где еще можно найти столь же безупречный инструмент регламентации страдания, как не в коллективе? Побег от мучения своей растерзанности в абстрактную игру с сочетаниями разнородных цветов и символов на полотнище флага: кто кого закрасит, чьи цвета будут вздыматься над городами — чьё воображение окажется наиболее изощренным в стремлении ухватить максимум сознаний минимумом свободы.
Часто мы слышим мнение, сотканное и разнесенное разнородными психологическими школами, нынче обретших крупнейший авторитет в глазах общественности, что прошлое нуждается в обескровливании, чтобы из пассивно переживаемой травмы переродиться в активную внутреннюю силу. Помимо, конечно, очередному сопрелому долженствованию, взваленному на плечи и без того задолженному по всем возможным сторонам современному субъекту, следует сказать, что подобное понимание в позитивном смысле является довольно стоическим. Однако выводы, извлекаемые из этого положения, приводят в недоумение: человеку присуждают жить в "настоящем" (что бы это ни значило в разрезе психотерапевтического дискурса), фиксируя фантазмическое прошлое в качестве травматического опыта, который обязательно должен быть рамирован детерминистским дискурсом и абсорбирован как неотвратимая необходимость [fatum]. И тогда, через замочную скважину памяти, мы, вглядываясь в наше прошлое, позволим, наконец, нашему рассудку пуститься в пляс с причинно-следственными связями ретроспективно наблюдаемых событий: "воспитание такое, социополитическая ситуация в стране такая, образование такое, жизнь такая и пр." и как бы смягчить, обескровить наше будущее, нанеся марлевую повязку на разверзанную рану внутри.
Однако такой подход не просто смягчает будущее, но и вместе с тем позволяет субъектности интроецирующего прошлое "Я" вырваться из симбиотического единства с пространством, оправдав всякое произошедшее с ним непроизвольностью событийных факторов. "Я" в разрезе такой логики, как можно было подумать, не упраздняется, не исчезает, не деконструируется, что, в сущности, облегчило бы субъекту задачу с переживанием адского бремени своего бытия, а трансцендируется, изолируется, предваряя появление нового, более монструозного "Я", намеревающегося магическим воздействием отстраненного и безучастного cogito проглотить событие целиком и без остатков. Событие устремляется исчезнуть, чтобы на своем месте объявить слепую случайность, хаотическую суматоху, стерилизованную логикой необходимости, парализовав пространство и дезинфицировав его от химер, фантазмов, снов, галлюцинаций и, что самое главное, любви, означенной в логике воспроизводства Наслаждения. Однако в том и суть: парализованность пространства субъекту ничем не сулит — химер не становится меньше, сны не становятся менее кошмарными, галлюцинации не перестают пугать нас своими угрозами.
А время — оно не лечит. Оно не заштопывает раны, оно просто закрывает их сверху марлевой повязкой новых впечатлений, новых ощущений, жизненного опыта. И иногда, зацепившись за что-то, эта повязка слетает, и свежий воздух попадает в рану, даря ей новую боль… и новую жизнь… Время — плохой доктор. Заставляет забыть о боли старых ран, нанося все новые и новые… Так и ползем по жизни, как ее израненные солдаты… И с каждым годом на душе все растет и растет количество плохо наложенных повязок…
Эрих Мария Ремарк
«Триумфальная арка»

Психотерапевт навязывает субъекту несоразмерную его внутренним возможностям власть, подчиняя его логике фабричного безумия: "Ряд событий/событие произошло по необходимости, ты не виноват, ты и не можешь, не переживай, ведь событие было призвано служить тебе — служить уроком, а не господствовать над тобою; событие всецело отдельно от тебя: ты не равняешься событию." Субъект внутри такой дискурсивной матрицы конституируется эдаким вечно бодрствующим Демиургом, лепящим из мертвой материи события живую реальность своего "Я", расширяя область собственной эготической власти до масштабов целой вселенной. Но неужели мы, маленькие, заблудившиеся и постоянно дрожащие, едва как уместившиеся на маленьком островке своего собственного невежества, способны найти в этой, еще одной иллюзии то, чего не способна была дать нам целая вселенная?
И дело не в том, чтобы не делать этого, а в том, чтобы не попадаться под власть незамысловатого "ДОЛЖНО", прячущегося в предпосылках господствующей нотации. Недаром Фуко находит психотерапевтическую практику некоторым следствием пенитенциарной системы, усматривая в неистовстве этого симбиоза самое что ни на есть последовательное продолжение церковной власти, вышедшей в новое секуляризованное измерение социального. Насаждение документально задекларированных принципов, законодательно установленных и вписанных в уголовное право — принципов некоего унифицированного и единственного верного использования когитальной способности, — не может не напоминать установку церковной власти на принудительную индоктринацию общественной жизни субъекта. Нежелание субъекта соответствовать чётко прописанному шаблону набожности сопровождается заключением его в ярмо больного, грешника.
Здоровый субъект — тот, кто, подобно уверовавшему в истину божественного откровения, уверовал в религиозный абсолютизм своего "Я". Такая апофеозность "Я" лишь еще сильнее усугубляет обсессию субъекта, акцентируя внимание на парадоксальной изменчивости грядущего, его способности стать чем-то иным для самого себя. Вера в то, что будущее может быть искуплено через службу прошлому — в сущности патология, вырывающая у нас из-под ног удовлетворенность болью настоящего.
Перестать быть безумцем — значит покориться, согласиться зарабатывать на свою жизнь, отождествиться с предложенной вам биографической идентичностью, прекратить наслаждаться своей болезнью.
Мишель Фуко Психиатрическая власть
Дом
Дом — это не просто место жительства отдельного индивида, не документ и не формальность, дом — это острое ощущение нехватки настоящего.
Ребёнок — первопричина парада химерического многоголосья, разнесенного по интерьерам проживаемого субъектом пространства. Быть ребёнком — значит быть химерой. Детский возраст всегда сопряжен с величайшей открытостью к настоящему, к Реальному, не усеянному еще пайетками символов и знаков. Высокая степень открытости к миру является тем фундаментальным условием, что разводит огромное богатство оттенков, хаотично разлитых по поверхностям мест прежнего безразличия: еще не отделяя себя от природы, не имея четкого представления о своем Я, ребёнок, будучи, по сути, виртуальным образованием, расплескивает себя по сомнамбулическим видениям некоего едва различимого Внешнего, делаясь таким образом каждой веточкой на древе во дворе, каждым звоном церковных колоколов поодаль дома, каждым треском ночных сверчков за окном, каждой бегающей трещиной по стене — ребёнок проживает жизнь окружающей действительности виртуально. Актуальность этой жизни не ограничена предельностью его тела: его Я еще никем не объявлено, оттого сеть его телесных актуализаций существует не в качестве монады, но в качестве одного из бесчисленного множества агрегатов, включенных в космогоническую машинерию различий и несовпадений.
Через сито языка человек берется просеять временность своего бытия, утратив исконную свою всеобъятность, обретя свободу индивидуальности и сплетясь в объятиях с символическими решетками, внутри которых он и благоустроится прожить всю свою оставшуюся, вечную жизнь. Ибо как только событие рождения заимело свое место, так сразу же заимела свое место и смерть. И здесь важно заступиться: рождение заимело свое место только в связи с тем, что прежде него заимела свое место смерть, ибо прежде всякого рождения — смерть. Исконная всеобъятность ребёнка не первична, но доподлинно вторична по отношению к той смерти, которая заблаговременно ему заказана в Эдипе, обвивающем его в символической паутине бесконечного несоответствия, увязши в которой только и возможно обретение исконности и всеобъятности, прописанных субъекту задним числом — и пускай уж только задним, но этим уже совершенно безошибочно.
Дом не просто набор символических засечек, в которых живут химеры, Дом — это то место, где химеры всегда уже жили, но оказались выдворены, как только человек впервые наткнулся на самого себя, завидев в отражении зеркала некоего другого — слишком идеального, чтобы не завидовать ему, слишком цельного, чтобы не любить его. Дом — это та перспектива, изнутри которой рука раскрашивает Единое в глянцевые цвета радуги, образуя бесконечно складчатую шаль, по поверхностям которой субъект, сам себя в своем рождении обманув, возьмется скользить, не зная ни конца, ни меры в поисках упущенного нераскрашенного.
Химера Другого, некогда впервые завиденная в зеркале, желание, взгляд и образ которого проглотили наше тело в бездне бесконечного несоответствия — то несуществующее, но оттого не менее реальное место, единственное место, в котором мы беремся осуществлять все наши поиски и расширения. Это то место, куда нас забросили, и откуда мы тотчас же оказались выдворены: вся будущая жизнь человека, все пространства и времена соотносятся у него впоследствии с тем местом, что некогда было положено домом для него — с тем отражением в зеркале, где впервые была произнесена любовная речь о своем теле. Это опора, точка соотнесения, палитра цветов, через которую окрашивается полотно бытия.

Вспоминать о доме, понимать и чувствовать его возможно лишь при нехватке настоящего. Находясь в доме, будучи самим домом, фиксировать диахронность реальности и осознавать свою обособленность от мира невозможно. Это невозможно по одной простой причине: в проживании настоящего ребёнок не обособлен от него, но составляет его неотъемлемую часть. Проживая настоящее, ребёнок пребывает в постоянном процессе творения, ежемоменто рождаясь в качестве химеры, раскидывая себя по веткам, кухням, улицам, декорациям, картинам и человеческим взаимоотношениям. Проживая настоящее, он не существует, как не существует и настоящего.
Этих химер, заблудшихся и некогда позабытых нами в детстве, мы, ставши бесплодными и обретя эфемерную целостность, оторвав себя от мира с корнем, — этих химер мы впоследствии обречены искать всю жизнь, воззывая к их благосклонности показаться и более того простить нас, наконец. Судорожно полосовать себя лезвием, вырубать леса и храмы, поджигать дворы, города и страны, избавляться от видов и целых народов, концептами калечить улицы, у небес вырывать языки — и всё ради того, чтобы снова прочувствовать бархатное тепло в объятиях заплутавших химер.
Настоящее ребёнка не теряется в прошлом — ибо его никогда и не существовало, — и не вымещается новым грядущим, ибо то еще не успело прийти: оно бесплодно зависает в воздухе, застряв между разными формами одного и того же абсолюта, обрушающегося и растрескивающегося, дрейфующего и скользящего. И только переступая порог детства, покрывая дом символической сетью, назначая узлам решетки значения, образы и смыслы, человек впадает в недра нехватки — нехватки Реального, пустоты, — где механизм начинает свое действие: будущее захватывает настоящее и насильственно выбивает его в прошлое, которое, в свою очередь, поджигает грядущее, распространяя по нему пламя фантазмов о нехватке. Сущий уроборос. Все взаимодействия становятся чисто символическими. В этой нехватке целостности утрачивается и дом, однако тут же и обретается — через фантазм.
Чтобы обрести Дом, его обязательно следует утратить. Настоящее в этом смысле существует лишь для того, чтобы стать утраченным. Такова природа времени: лишь потеряв его, мы обретаем его по-настоящему. Дом сворачивается в тугой клубок из разноцветных нитей, который в вечных скитаниях по чужбине всюду расплетаться, засекая пути обратно, к родине — к месту, которого не существует и никогда не существовало, но которое этим своим основанием и становится тем, что намного важнее всего когда-либо существовавшего или существующего.
Здесь мы вынуждены заключить: прошлое существует лишь как то, что возникает в связи с УЖЕ несуществующим настоящим. Ибо как только возникает случай, являющийся по необходимости неотвратимым, нет ничего того, что смогло бы уберечь НАСТОЯЩЕЕ от его выпадения в пучины прошлого, которое теперь только и может быть. Его НЕ БЫЛО, но теперь оно ЕСТЬ. И вся последующая жизнь становится непрерывным диалогом с собственными химерами. Вся наша жизнь делается воспоминанием о прошедшем, об уже несбыточном, ибо никогда не бывшем.
Та фраза Хайдеггера, «В близости Бога БЫТЬ», имеет продолжение, она вовсе не означает императива вернуться или приблизиться к Богу, когда проповедники приглашают это сделать, они не ведают что говорят. Продолжение такое: «В близости Бога БЫТЬ — и будь даже эта близость отдаленнейшей далью невозможности ничего решить об исчезновении или пришествии богов, — это не поддается пересчету в терминах "счастья" или "несчастья"». Счастье это божественное присутствие, посещение Богом, БОГАТСТВО; несчастье это лишенность Бога, УБОГОСТЬ. Мимо богатства и убогости проходит бытие в БЛИЗОСТИ Бога, но — близости бога как БЕСКОНЕЧНО ДАЛЕКОГО. Здесь нет никакой диалектики, всё очень просто. Послушайте. Когда Бог придет, я сказал, Он придет и сделает всё как сделает, как надо, захватит и подхватит нас и мы очнемся другими. Но когда Бога нет, то его это НЕТ, его отсутствие, его смерть или его еще-не-пришедшесть, его медление с приходом, или оставляет нас где мы есть, в небытии богооставленности убогости, или задевает нас, подступает к нам, становится нам чем-то близким и САМЫМ БЛИЗКИМ. Т. е. ДАЛЕКОСТЬ, ОТСУТСТВИЕ БОГА МОЖЕТ НАС ЗАДЕТЬ ТАК, КАК НЕ ЗАДЕВАЕТ САМОЕ БЛИЗКОЕ, телесное.
Владимир Бибихин
«Собственность»
Смерть фантазма
Возможно, дело обстоит так, что человек призван жить свою жизнь издалека, на расстоянии, наслаждаясь видами одних только фасадов: не удостаиваясь внутренностей, не достигая цели, не переступая порог здания, внутри которого можно было бы как-нибудь тепло облагородиться, — в общем-то говоря, пребывая всегда извне по отношению ко всякому предстоящему. Всем сердцем желать узнать, что внутри, но так и не решиться открыть коробку — от одного только страха перед ясностью размолотить её при увиденьи содержимого, разрушить, навсегда утратив к ясности доступ; грезить о содержимом, но так и не приобрести его. Не словить жар-птицу, забыть родиться, потеряться в грядущем: не пресуществить прошлое. Жить внутри размолоченной картонки так, словно она до сих пор цела, содержит в себе загадку, взывает к собственному обнажению. Едва шагая, еле дыша, подступить к подножью храма, заброшенного на пустыре, слепым взглядом окинуть форму его — изнеможденное, заплатанное тело, ищущее свой конец, — и усмотреть в этом невидимый порядок и спокойствие. И пускай на месте здания давно руины распростерлись, пасть пред ним и возрадоваться тайне. Но теперь на месте нераскрытой тайны мы: роим безызвестные глубины там, где некогда была разрушена целая империя тайн. Сгнить в прошлом, дабы потеряться в предстоящем.
Пространство возможно благодаря пустотам между поверхностями вещей. Разве мы в состоянии узнать, что облагорожено внутри вещей? Я могу резать кирпич сколько мне угодно и всё также видеть одну только его поверхность. Но что внутри? Да и разве возможно знать? Если какое внутри и существует, то только как аффект перебрасывания пустого означающего, смены оператора (с минуса на плюс и наоборот), благодаря которому пространство вообще хоть сколько-нибудь фиксируемо. У вещей нет внутренностей — одна только поверхность. Такая логика пространства, очевидно, всецело антропоцентрична. Однако есть ли что-либо вне антропоцентрического взгляда? Отнюдь. Человек обречен жить издалека.
А что, если заглянуть в коробку? Зайти внутрь, да все-таки удостоиться ясности? Формула выведена, интерьер прочтен, зверь внутри опознан: человек достиг того, о чем так долго грезил. Застынет на месте? Ляжет вконец, да помрёт со спокойною душою? Если бы! Пойдет, да заглянет в чужие коробки, вломиться в чужие квартиры, сожжет чужие святыни — до того ненасытна его жажда содержимого. Он хоть сдохнет, но все равно доберется до Другого!
И как близко располагается такой человек подле благоухающего дыхания истины? Ницшеанский витализм — не оставаться у разбитого корыта: перестать верить грамматике и начать действовать. Так ли это необходимо? Хочется сказать, что не столько это необходимость, сколько неотвратимая данность. Ломать, разрушать и сжигать в поисках утраченной колыбели — не выбор, но проклятие всего живого. И даже то, что самоотносимым образом направлено на самое себя — даже если направить жало критики на себя — всё оно удостоится права на голос лишь тогда, когда субъект убедится в воззваниях из места утраченной колыбели: ведь даже самоубийство является всего лишь еще одной формой религиозного откровения — фанатизма, а не способом уйти от своего прошлого; в своем намерении самоубийца ищет способ убить свою тень, а не себя, избавиться от дискурсивной зависимости, в которой он безвылазно погряз, неспособный видеть пределы утомившей его знаковой системы. Избавиться от эго? Отнюдь, проще уж избавиться от целой вселенной.
И всё, что остается нам, так это испытывать зависть к твердым остовам неподвижного скелета, исключенного из полномочия плоти и всего вытекающего из неё: дрожи, страха, боли и тягучей подвижности. Боль — это репарация плоти за свою возможность быть. Там, где нет боли, нет и бытия. Тот фантазмический идеал, за которым всюду тянется человеческая мошка — место потерянного Отца: ушедший из семьи, бросивший нас, своих наследников, в месте бытия, лишив любовной ласки и сослав существовать, расплачиваясь за это невыносимыми спазмами по всему телу, проводя полжизни в судорогах, полжизни во сне, Он более не заинтересован в наших потугах; Он существует в полной уверенности своей недосягаемости, оттого совершенно безучастно, отрешённо, полностью уж позабыв, что такое быть, оставив на своем порочном месте один лишь вальяжно распростершийся скелет.
Долговечность этого скелета не может не поражать воображение: эта пугающая хрупкость, означенная клеймом смерти, парадоксально сопряженная с незыблемой стойкостью, не уступающей стойкости чернил, испокон века отмечающих следы исторической памяти на нетлеющей бумаге земли, воспламеняет в нас какой-то совершенно неуловимый страх, всё более разрастающийся по мере разрастания плотности образа обнаженного трупа, что своим окровавленным видом обличает наш собственный, опороченный плотью каркас.
Memento mori. Там однако смерти нет. Её и не будет. Смерть ужé здесь, чтобы быть где-то там, вдалеке, куда можно смотреть и вокруг чего можно выстраивать ориентиры, совокупляя их в различные системы власти. Её там нет так же, как и того, что скрывается за прошлым. Под этим словом скопилось слишком много мусора, чтобы оставаться хоть сколько-нибудь весомым. Это не смерть, — напротив, возвращение. Ведь даже Луна, будучи абсолютно пустой и безжизненной, является всего лишь одной из тех миллиардов форм, в которой рано или поздно воплотится Солнце, скинувши свою пламенную плоть. Пыль да обломки — результат всякого свечения.
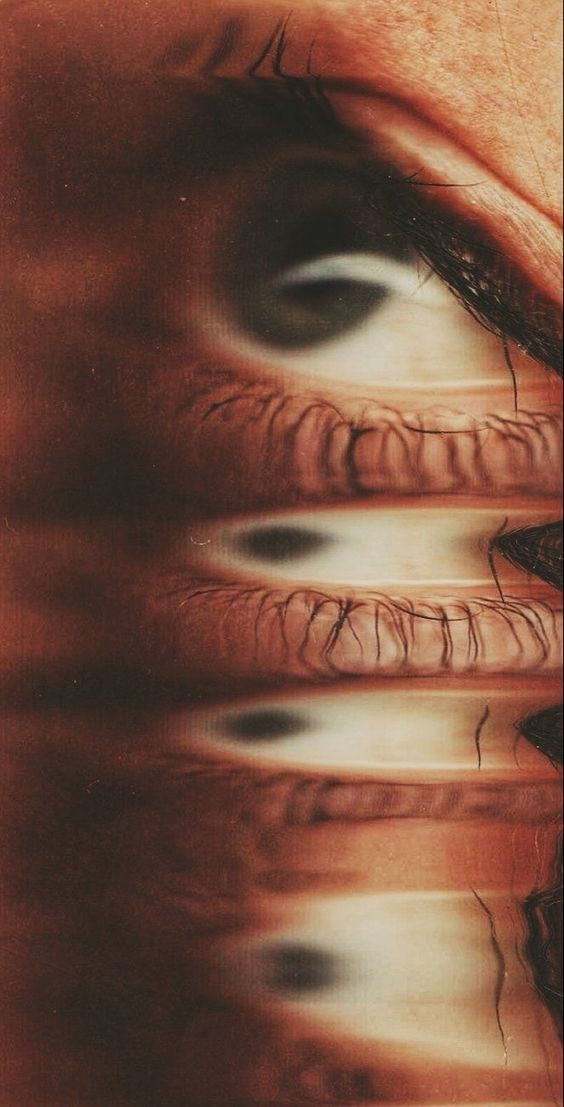
Нас удивляет, отчего же общество свернуло не туда, забыло себя, ушло в сторону: от Бога, от правды, от чести? Но удивляться здесь нечему, ведь главное достижение такого человека на пути к тотальному самоотрицанию не свобода, но возвращение достоинства своему достоинству. Бог, что оказался воплощен и обозрим, чересчур уж прост и карикатурен, чтобы сохранять суверенитет собственного всемогущества. Воплощенный, то есть в своем воплощении умертвленный фантазм — это всегда разбитая судьба, забытая мечта, заброшенная надежда. Разве был бы нам хоть сколько-нибудь интересен бог, что не обладает всемогуществом? Разве возможно сопереживать тому, что перестало носить знамя абсолюта? Всё, что было изгнано из чертогов Его всемогущества, теперь и помыслить нельзя — настолько оно ничтожным и праздным приходится для нас. И коли сам образ божий стал таковым для нас, нам не осталось ничего другого, кроме как выбросить и Его на свалку немыслимого, чтобы хоть так остаться верным его всемогуществу.
Не желая жить издалека, человек, провозглашая принцип человечности и превознося абсолют плотского, становится таким образом лишь еще дальше от плотского и человечного, о котором он так долго прежде грезил, — он превращается в объект наслаждения для собственных же богов. Подлинный богослов, а уж тем более верующий — это атеист, познавший всю полноту боли, испытанной Демиургом. И что ценного можно приобрести в том, что готово научить нас одному только гниению? Не для того ли мы ищем богов, чтобы избежать боли, забыть её, больше не возвращаться в свою тень, где танцуют химеры? Отнюдь, человек оттого только и стяжает богов, чтобы оказаться один на один с болью — тем вселенским страданием, которое вселенски определило бы его в сих бескрайне простирающихся долинах безразличия.
Было время, очень давно, когда мир казался человеку настолько исполненным смысла, что не было ВРЕМЕНИ задаться вопросами, до того поразительным было зрелище. Мир был словно театром, где стихии, леса, океаны и реки, горы и равнины, кусты и всякое растение играли свою роль, которую человек пытался понять, объяснить, которую он и объяснял. Но не в объяснениях была суть: важным, радующим во всём этом было явное присутствие богов, полнота бытия; всё в мире было славным богоявлением. Начиная с какого момента боги ушли из мира, начиная с какого момента его образы потускнели? Начиная с какого момента мир опустел, лишившись сути? Нас покинули, предоставили самим себе, нашему одиночеству, нашему страху, и тогда зародился вопрос: что такое этот мир? Что такое мы?
(Эжен Ионеско, “Présent passé, passé présent”, цит. по ст. В. Бибихина «Искусство и обновление мира»)
Полнота бытия там, где полнота боли — полнота материального. И что зазорного в том, чтобы стремиться избежать боли? Неужели сумасшедшим покажется тот, кто заподозрил нечто неладное в устройстве этого прожорливого чудовища, именующегося Вселенной? Неужели знал он, что человек до того ненасытен и одержим, что и сверх умертвленного Бога найдет сотни тому причин, чтобы оставаться голодным? И ведь так — сумасшедший он! Ум-то, откуда ни возьми, есть совершенно материальное образование, ибо есть не что иное, как плоть от плоти Демиурга. И кто без ума — тот против плоти, тот и без неё. И не знал уж сумасшедший, что Бог отнюдь не голоден — не сытости тот ищет, ибо сытость ему претит отныне. Его единственное желание — очиститься. Его единственная эмоция — разочарование. И всё, что он может делать — блевать и кровоточить, нащупывая пределы своих бесконечных возможностей.
Обетованный край
Здесь мне вспоминается притча "у врат Закона", описанная Кафкой в финале романа "Процесс", которая как нельзя лучше демонстрирует всю безнадежность и вместе с тем благостность человеческих трепыханий в намерениях настичь золотую гряду обетованного края, спрятанного в коробке. Общий смысл притчи таков: некий проситель, человек, оказавшийся у врат Закона, намеревается пройти через их порог. Однако здесь просителя останавливает привратник, говоря, что "в данный момент" врата пересекать нельзя. Привратник, останавливая любопытца, окликает его как бы невзначай, словно он здесь ни при чем, а тот волен поступать так, как ему хочется: "Если тебе так не терпится, — попытайся войти, не слушай моего запрета. Но знай: могущество мое велико. А ведь я только самый ничтожный из стражей. Там, от покоя к покою, стоят привратники, один могущественней другого". Человек упрашивает привратника пустить его к Закону, умоляет, всячески задабривая — однако всё бестолку. Так проходят дни, месяцы и годы. Когда проситель подходит ко смертному одру и начинает понимать, что ему осталось совсем уже недолго, он решается задать привратнику свой последний вопрос: "Почему лишь я один пытался пройти к Закону, когда как врата открыты для всех?" На что тот отвечает: "Эти врата были предназначены лишь для тебя одного, теперь я пойду и запру их".
В этой сюрреалистической притче содержится ключ как к пониманию всего творчества Кафки, так и к пониманию диалектики Желания, во всем опирающейся на топологическое время, представленное выше. Сам Кафка в продолжение своей притчи, через уста священника, дает нам намёк:
"Надо еще добавить, что по природе этот привратник как будто дружелюбный человек, он вовсе не всегда держится как лицо официальное. В первую же минуту он шутки ради приглашает просителя войти, хотя и намерен строго соблюдать запрет, да и потом не прогоняет его, а, как сказано, дает ему скамеечку и разрешает присесть в стороне у входа. И терпение, с которым он столько лет подряд выслушивает просьбы этого человека, и краткие расспросы, и прием подарков, и, наконец, то благородство, с каким он терпит, когда поселянин громко проклинает свою неудачу, зачем именно этого привратника поставили тут, — все это дает повод заключить, что в душе привратника шевелится сострадание. На его месте не всякий поступил бы так."
Под Законом можно понимать некоторую форму Истины, обетованный край, сверкающий златом всеобъемлющей умиротворенности. Напротив Закона же располагаемся мы — мелкие, ничтожные люди, которым еще предстоит заслужить право на переход в благостный приют Истины, покрытый тонкой вуалью предречения, непринужденно спрыснутого на нас с уст стоящего подле врат сторожа. Будь предречение навязчивым и репрессивным, проситель тотчас бы решил, что его обманывают, и без оглядки бы дал стражнику бой, безо всякого сомнения и угрызений совести оказал бы сопротивление. Но привратник не угрожает ножом или веревкой, ему в качестве орудия достаточно одного лишь слова. Он действует умнее: его задача посеять семена сомнения в сознании просителя, взрастив замешательство на месте уверенного стремления: рискнуть и зайти или все-таки дождаться разрешения, заслужить его, или, может, что-то еще? И эта вопиющая неразрешенность вопроса, его извечная открытость к человеку — главное условие его свободной ограниченности, болезненной возможности быть. Ведь свобода является свободой лишь тогда, когда она бессмысленна и абсолютно пуста: человеку — и только ему дано пересечь врата Закона, и всё же он будет скорее лелеять сие, нежели осуществлять, истрачая всю свою силу на блуждания по канцелярским лабиринтам духа, размышляя о нравственности в пустопорожних совещаниях среди окружающих его людей.
Человек — существо, желающее больше заслужить, нежели пересечь Рай. И даже если он достигнет разрешения, удостоится его, прочувствовав тем самым всю полноправность и верность своего положения, то и здесь — он скорее откажет Истине, действуя всё в тех же рамках приличия, не позволяющих ему никакого лишнего чувства, напускного самодовольства или гордости, сулящих изъятие прав на Истину, — и всё ради удержания собственного достоинства супротив фантасмагорическому счастью. Ибо Истина во всем противоречит достоинству.
…Я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост; вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, то мне лучше бы хотелось оставаться с Христом, нежели с истиной
Фёдор Достоевский
Войти во врата — значит отменить Закон. Разрешение всё равно что запрет, ведь разрешается не Закон, но его толкование. Ни одно толкование не в силах отменить Закон, ибо всякое движение супротив Него служит лишь еще большему Его упрочнению. Во врата сможет войти лишь тот, кто изначально никакими разрешениями не обременен, ибо подлинное разрешение ютится всегда в лоне запрета. Подлинная санкция на действование выдается нам всегда именно в форме запрета, катастрофы, исключающей мучительную необходимость пребывать в ситуации выбора. Ибо чего выбирать: есть враг — значит есть и средство! И кто же знал, что главной подлостью Яхве окажется именно его наставление наслаждаться.
Войдя во врата, человек тотчас же отменит Закон, убьет Истину, ведь Закон заключается в том, что Закона никакого нет, и что Закон существует лишь как то, что действует на расстоянии. Врата Закона — это то самое прошлое, внутри которого сокрыта ничтойность настоящего. Перейдя этот рубеж, проситель, превратившийся в искателя, а затем в нашедшего, вонзает в себя лезвие величайшего разочарования: ведь не знал он еще прежде, что внутри он настолько же пуст, насколько и вся вселенная вокруг. И куда благостнее тот свет, что светит издалека, нежели тот, что зияет изнутри, опаляя крылья свободы, возделанные из воска, предрекая Икару вечность бесчестной погибели.
Когда становится ясно, что нет ничего подлинно существующего, а окружающее не назовешь и «видимостью», то можно не думать о спасении, ты уже спасен и навсегда несчастен.
Эмиль Чоран

Химерическое сознание
Неужели этот текст мог бы предстать перед его автором чем-либо иным, нежели его личностной попыткой достучаться до собственных химер, давно смолчавших на своем веку? Неужели любой другой текст, любое другое слово или буква, вышедшие из-под пера всякого прочего автора, смеют целеполагать себе что-либо иное, кроме того конечного пункта, в котором читатель, разверзая вечно чаемый собою зазор, скрывающий себя среди обломков запятых и дефисов, встречает родных себе химер, бредущих и ожидающих его лишь по ту сторону страницы? Химеры слишком хорошо осведомлены о сладком привкусе крови, что стекает с мест небрежно возделанных разрезов на наших запястьях, и если вдруг они и соблаговолили терпеть общество наших бессмысленных толков, то по одной лишь той причине, что свои письма к ним мы пишем кровью, а не чернилами.
109293921903218481029402920092390231
109293921903218481029402920092390230. Этот мир невозможен
