Материализм и проблема «сознание – тело» (Пол Фейерабенд)
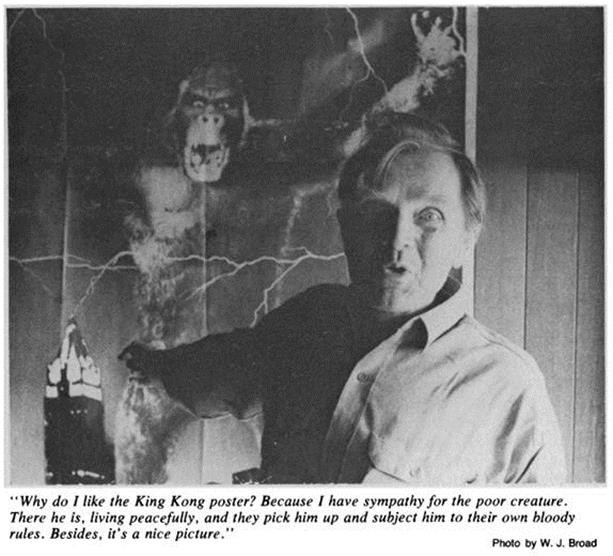
Впервые опубликовано в: The Review of Metaphysics, Vol. 17, No. 1 (Sep., 1963), pp. 49-66
Предисловие переводчика
Пол Фейерабенд известен русскоязычному читателю в первую очередь как философ и методолог науки, основавший провокационную доктрину «эпистемологического анархизма», споры вокруг которой продолжаются и в наши дни. Намного меньше известен он в СНГ как философ сознания. Впрочем, это неудивительно: фактически, проблема философии сознания была затронута им лишь в трех статьях, причем в одной из них — лишь косвенно. Позднее Фейерабенд отказался от исследований этой темы, посчитав, что так и не смог решить поставленных им проблем. Кажется, сосредоточившись на проблемах философии и методологии науки, философ не смог по праву оценить эффект, который его идеи в области сознания оказали на современную философию (и продолжают оказывать и по сей день). Предлагаемая читателю статья, без всякого сомнения, является исторической. Если книга Фейерабенда «Против метода» заложила основания для современного эпистемологического релятивизма, то статья «Материализм и проблема “сознание — тело”» дала начало влиятельному направлению в философии сознания — элиминативному материализму. Можно со смелостью утверждать, что именно она стала выходом этого направления на арену теоретических баталий. Статья стимулировала возникновение концепции «фолк-психологии как ненаучной теории сознания», заставив материалистов противопоставить ей разного рода формы научного материализма — от функционализма, требующего сохранения некоторых положений фолк-психологии, до радикальной нейрофилософии, претендующей не только на статус материалистической метатеории сознания, но и на изменения нашего обыденного языка.
Статья Фейерабенда направлена против современной ему критики материализма, но ряд ее положений актуален и спустя 53 года после ее выхода. Некоторые аргументы против теории тождества и редуктивного материализма со стороны дуализма свойств, дуализма событий и нередуктивного материализма сохраняются и сегодня: противопоставление логической возможности онтологическому основанию, аргументы со стороны обыденного языка, идеи эпифеноменализма, т.н. «картезианского материализма», аргументы от интроспекции и т.д. Ее актуальность подтверждена многочисленными обсуждениями и ссылками на нее в большом количестве иностранных книг в области философии сознания и смежных дисциплин и субдисциплин, выходивших за последние 20 лет. В этом смысле, она является стимулом для творческой интуиции отечественных исследователей, которые занимаются проблемами философии сознания, в частности — теми, которые относятся к перспективам редукционизма, легитимности здравого смысла и «общего употребления» ментального словаря в качестве элемента научной теории, а также к общим проблемам материалистической теории сознания. Я также надеюсь на то, что статья окажется полезной и тем, кто изучает историю философии сознания в ХХ веке. Это ценный исторический документ, и он заслуживает того, чтобы быть представленным читателю, незнакомому с английским языком.
Казаков М.А.
(1) У этой статьи две цели. Первая — защитить материализм от атак, которые, хоть и кажутся многим врагам материализма прописными истинами, на самом деле, бьют мимо цели. Вторая моя цель — вернуть философию на ее надлежащее место. Слишком часто попытки достичь когерентной картины мира доходят до философской грызни еще до того, как участники этой грызни успевают продемонстрировать достоинства предложенных ими теорий. Мне кажется, тем, кто проходил через это, следовало бы поменьше бояться трудностей. Им следовало бы хоть иногда просматривать аргументы, направленные против их идей. А еще им нужно научиться распознавать бесполезность этих аргументов. Переступив через бессмысленные возражения, им следовало бы приступить к более полезной задаче — к детальной разработке своей точки зрения, к проверке ее плодотворности, чтобы в итоге получить свежий взгляд, не только на общие идеи, но и на конкретизированные и детальные процессы. Вдохновить на это развитие от абстрактного к конкретному, внести свой вклад в создание новых идей — такова истинная задача философии, которая в наши дни представляет собой скорее препятствие на пути к прогрессу.
(2) В качестве позиции, которую я намерен отстаивать, будет взята наиболее «грубая» форма материализма. Если и она обойдет возражения философов, которые я намерен рассмотреть, то у более утонченной доктрины возникнет еще меньше проблем.
Согласно обсуждаемой мною форме материализма, единственными сущностями, существующими в мире, являются атомы, скопления атомов, а единственными свойствами и отношениями, существующими в мире, являются свойства этих скоплений и отношения между ними. Для нашей цели будет достаточно простого атомизма, такого как теория Демокрита. Модификации этой идеи, вроде кинетической или квантовой теории, будут оставаться за пределами нашего обсуждения. А обсуждаемый вопрос — следующий: Сможет ли такая космология предоставить адекватный взгляд на сущность человека?
(3) Как правило, отвечая на этот вопрос отрицательно, выдвигают следующую причину: человеческие существа не только материальны — они также испытывают ощущения; они мыслят; они чувствуют боль; и т.д., и т.п. Эти процессы невозможно анализировать в материалистическом ключе. Следовательно, материалистическая психология обречена на провал.
Ключевая часть этого аргумента состоит в допущении того, что ощущения, мысли и др. не являются материальными процессами. Обычно это допущение поддерживают следующим образом.
(4) Существуют высказывания о боли, мыслях и т.д., такие, которые невозможно отнести к материальным процессам; существуют, в свою очередь, высказывания, относящиеся к материальным процессам, но не имеющие отношения к боли, мыслям и т.д. Невозможность свести эти высказывания воедино связана с тем, что результаты такого отождествления будут либо ложны, либо бессмысленны.
Сперва рассмотрим бессмысленность. Наличие или отсутствие смысла в высказывании зависит от грамматических правил, которые руководят соответствующим высказыванию предложением. Аргумент «от бессмысленности» апеллирует к этим правилам. Согласно этому аргументу, материалист изначально нарушает эти правила. Обратите внимание: речь идет не о конкретных словах. Какие бы слова материалист ни использовал, утверждается, что конечная система правил будет иметь структуру, несовместимую со структурой выражения, с помощью которого мы обычно описываем боль и мысли. Эта несовместимость якобы должна опровергнуть идеи материалиста.
Очевидно, что этот аргумент неполон. Несовместимость материалистического языка и правил, присущих другому средству выражения, критична для первого лишь в случае демонстрации этим средством выражения определенных дополнительных преимуществ. Апелляция к тому, что средство выражения, которое сравнивается с материалистическим языком, находится в общем употреблении, также недостаточна. Это историческая случайность, не имеющая отношения к делу. Неужели люди верят в то, что именно яростная пропагандистская кампания, которая заставит людей говорить на материалистическом языке, превратит материализм в верную доктрину? Выбор языка, который должен стать основанием критики, должен быть подкреплен более вескими причинами.
(5) Насколько мне известно, была предложена лишь одна такая причина: это практическая успешность повседневного английского, что делает этот язык безопасной позицией для начала дискуссии. «Общий для нас всех мир слов», — пишет Дж. Л. Остин (в работе “Принесение извинений”): «воплощает собой совокупность всех тех различий, которые человек находит нужным проводить, а также связи, которые он находит нужным отмечать и накапливать с течением многих сменяющих одно другое поколений. Эти доступные нам различия и связи более многочисленны и прочны (поскольку все они проходят испытание временем, в результате которого выживают наиболее приспособившиеся) и, вместе с тем, более утонченны … нежели любые из тех, которые мы, вы или я, отмечаем во время наших вечерних кабинетных занятий» [1]. Эта причина почти идентична одной позиции, встречающейся в философии науки. Еще со времен Ньютона считалось, что теория с наиболее высокой степенью эмпирического подтверждения более предпочтительна, чем общие предположения. Считалось также (и считается сейчас), что подобные общие идеи следует отбрасывать, дабы не препятствовать ходу фактического открытия. «Если вероятность истинности гипотезы», — пишет Ньютон (в ответе на письмо П. Пардиса): «является лучшей проверкой истины и реальности вещей, я не вижу никакого способа достигнуть ясности ни в одной науке; ведь для каждой новой трудности придется постоянно изобретать многочисленные гипотезы» [2]. Я провел эту параллель лишь для того, чтобы продемонстрировать то, что философские идеи, на первый взгляд кажущиеся кому-то (особенно тем, кто плохо знаком с теорией идей) революционными открытиями, в конце концов могут оказаться ничем иным, как некритичным повторением старинных предрассудков. Впрочем, отдавая дань ученым, следует также подчеркнуть, что эта параллель заходит не слишком далеко. Научные теории создаются таким образом, что их можно проверить. Каждое практическое применение теории является в то же время и наиболее точным способом проверки ее истинности. В таком случае, существуют реальные основания доверять теории, которая успешно применялась в течение значительного времени, и, одновременно, смотреть с подозрением на новые и неясные (возможно, на первый взгляд) идеи. Отмечу, что «подозревающий», естественно, ошибается. Но, так или иначе, подозрительное отношение не кажется полной бессмыслицей. По крайней мере, на первый взгляд, крупица истины здесь присутствует.
Совсем иначе дело обстоит с так называемыми «общими средствами выражения». Во-первых, эти средства выражения в ходе их применения были адаптированы не к фактам, а к верованиям. Если эти верования имеют широкое признание; если они вплотную связаны со страхами и надеждами сообщества, в котором они используются; если они укрепляются и защищаются сильными социальными институтами; если чья-то жизнь каким-то образом построена вокруг них — в этом случае, язык, репрезентирующий их, будет считаться наиболее успешным. И в то же время очевидно, что вопрос истинности этих верований здесь даже не затрагивается.
Вторая причина, по которой успешность «общих» средств выражения далека от успеха научной теории, кроется в том, что использование подобных выражений даже в конкретных наблюдаемых ситуациях едва ли может считаться их проверкой. В отличие от науки, здесь также не предпринимается попыток достичь новых границ, расширить область исследований и проверить теорию в этой новой области. И даже на «знакомой почве» невозможно быть уверенными в том, были ли эти описательные высказывания для сравнения противопоставлены фактам, таким образом, создавая дополнительную проверку. Невозможно доказать, что эти высказывания не функционируют лишь как бессмысленный шум, сопровождающий определенный процесс. Недавние исследования, относящиеся к природе фактов, кажется, указывают именно на последний случай. Очевидно, что аргумент «от успеха» в этом случае является неприменимым.
В-третьих, представьте себе — я прекрасно понимаю, что в данный момент иду против фактов — что способ выражения, к которому я отсылал вас в предыдущем аргументе, используется в тестовом режиме, и что вышеупомянутая параллель с научным методом верна. Можно ли в этом случае отбросить материализм, отсылая к успехам нематериалистического языка?
Мой ответ НЕТ, и его причина (которую я детально разъяснил в моей статье «Объяснение, редукция и эмпиризм» [3], равно как и в статье «Проблемы эмпиризма» [4]) следующая: для обсуждения слабостей всеохватывающей системы мысли, каковой является «общее» средство выражения, недостаточно просто сравнить ее с «фактами». Многие из подобных фактов уже сформулированы в рамках средств выражения этой системы, и обладают абсолютно неоправданным «преимуществом» в свою пользу. Кроме того, существует множество фактов, которые, по эмпирическим причинам, недоступны индивиду, использующему определенное выражение, и которые становятся доступны лишь после введения других средств выражения. В таком случае, конструирование альтернативных точек зрения и альтернативных языков, которые будут разительно отличаться от точек зрения и языков, находящихся в общепринятом употреблении, не вызывает замешательства, а является необходимой частью проверки средств выражения. Это конструирование должно проводиться до того, как будет вынесен финальный вердикт. Говоря конкретнее: если вы хотите выяснить, существуют ли боль, мысли, ощущения в общем смысле употребления этих слов, тогда вы (помимо прочего) должны будете стать материалистом. Следовательно, пытаться элиминировать материализм путем отсылок к общим средствам выражения — все равно, что ставить повозку перед лошадью.
(6) Представленный аргумент имеет свойства, заслуживающие дальнейшей критики. Примем как должное то, что несовместимость с обычным (или любым другим) использованием выражения и бессмысленность, вытекающая из него, являются достаточным основанием для элиминации противоположной точки зрения. В дальнейшем все равно должно стать ясно, что, в то время как грамматика простых терминов точки зрения может быть несовместима с общепринятым употреблением, грамматика определенных (фиксированных) терминов необязательно будет столь уж несовместимой с ним. То же следует отнести к «структуре» обсуждаемых терминов: иногда утверждают, что ощущение представляет собой очень простую вещь, в то время, как совокупность атомов имеет более сложную структуру (она «разнохарактерна»). Это правда. Но существуют также свойства таких совокупностей, которые не относятся к их «структуре». Такова, например, плотность жидкости. Жидкость обладает той же «структурой», что и куча атомов. А вот плотность — нет. Понятие плотности перестает быть применимым в областях, где тонкая структура жидкости становится очевидной. Похоже, защитник традиционной точки зрения недооценивает возможности материализма. Он не учитывает того, что материализм может предоставить ему необходимые синонимы для его собственных выражений; он даже упускает то, что материалистическая доктрина может удовлетворить его (не имеющее отношения к делу) требование о, по крайней мере, частичном согласии относительно используемой грамматики.
(7) Аргумент «от бессмысленности» полностью основан на языковых проблемах. Аргумент «от ложности» не таков. Согласно ему, тот факт, что мысль не может быть материальным процессом, устанавливается путем наблюдений. Именно наблюдения помогают нам установить различие между мыслью и материальным процессом и отбросить материализм. Рассмотрим данный аргумент.
(8) Для начала, различие все же следует признать. Интроспекция самым решительным образом указывает на то, что моя нынешняя мысль об Альдебаране не находится в месте расположения самой звезды Альдебаран; на то, что у этой мысли, в отличие от Альдебарана, нет никакого цвета; на то, что эта мысль не имеет частей, в то время как Альдебаран состоит из множества частей, обладающих разными физическими свойствами. Может ли подобная интроспекция стать доказательством того, что мысли не могут быть материальны?
Ответ НЕТ, и аргумент в его пользу — прописная истина: то, что кажется нам различным, необязательно является таковым. Не отличается ли увиденный мною стол от стола, который я почувствовал, потрогав рукой? Не отличается ли услышанный звук от его механического проявления (пластины Хладни; трубка Кундта и т.д., и т.п.)? И если, несмотря на наблюдаемые различия, мы позволяем себе совершить отождествление, постулируя единый объект внешнего мира (физический стол, физический звук), почему же наблюдаемое различие между мыслью и представлением мозгового процесса должно останавливать нас от другого тождества, в данном случае — от постулирования единого объекта внутреннего (материального) мира, а именно — мозгового процесса? Бесспорно, существует вероятность того, что этот постулат в дальнейшем столкнется с трудностями и будет опровергнут путем независимых экспериментов (как в свое время, путем независимых экспериментов, было опровергнуто отождествление комет с атмосферными явлениями). Дело в том, что, на первый взгляд наблюдаемое различие между мыслями и мозговыми процессами не создаст нам подобных проблем. Верно также и то, что язык, на котором будет строиться допущение о тождестве мысли и процесса в мозгу, будет разительно отличаться от обычного английского. Но этот факт можно попытаться использовать в качестве аргумента против тождества лишь показав превосходство обычного английского перед новым языком. Кроме того, это опровержение должно быть основано на согласованном материалистическом языке, а не на обрезках и ошметках «материалистической тарабарщины», которой философы пользуются сегодня. Английскому потребовалось долгое время, чтобы достичь его нынешней сложности и изысканности. Философу-материалисту как минимум требуется чуть больше времени. Собственно говоря, ему требуется немало времени, коль скоро он собирается сформировать полностью проверяемый язык, дающий последовательное изложение наиболее привычных фактов о человеческих существах, равно как и о тысячах более неясных фактов, необнаруженных физиологами. Я также признаю, что существуют люди, для которых сама реальность внешнего мира и средства ее идентификации представляют серьезную проблему. Что ж, скажу лишь, что моя статья адресована не им, и что я надеюсь на здравый рассудок моих читателей. Смею надеяться на то, что они реалисты. Надеясь на это, я пытаюсь показать им, что их реализм не должен ограничиваться процессами за пределами их собственных тел (если, конечно, кто-то из них уже заранее не убежден в том, что вещи внутри нас слишком отличаются от того, что происходит «снаружи»). Беря все факты во внимание, я прихожу к выводу о том, что аргумент «от наблюдения» ложен.
(9) Размышлять о некоторых результатах отождествления интроспективных наблюдений с мозговыми процессами весьма занимательно. Наблюдение за микропроцессами в мозгу, как известно, дело трудное. Лишь в редких случаях удается исследовать их в живом организме. С другой стороны, результаты исследований мертвых тканей относятся к структуре, которая может серьезно отличаться от живого мозга. Для того, чтобы решить эти кажущиеся проблемы, связанные с недоступностью процессов живого мозга для наблюдений, нам следует лишь осознать, что живой мозг уже связан с наиболее чувствительным инструментом — живым человеческим организмом. Исследование реакций этого организма, включая интроспекцию, может, исходя из этого, быть намного более надежным источником информации о живом мозге, чем любой другой «более прямой» метод. Если использовать адекватную гипотезу тождества, можно даже сказать, что интроспекция приведет к прямому наблюдению весьма труднодоступного (для иных гипотез) и очень сложного процесса в мозгу.
(10) Против вышесказанного иногда звучит следующее возражение: в случае с мыслями, ощущениями, чувствами, разграничение между тем, что они есть и тем, что они кажутся, неприменимо. Ментальные процессы представляют с собой вещи, с которыми мы «знакомы напрямую». В отличие от физических объектов, структура которых должна быть раскрыта путем экспериментального исследования, и о природе которых мы можем делать только более или менее правдоподобные предположения, ментальные процессы могут быть познаны с полной достоверностью. Сущность и видимость в данном случае совпадают и, как следствие, мы уполномочены принять то, чем они кажутся, в качестве прямого указания на то, чем они являются. Это возражение требует детального рассмотрения.
(11) Чтобы подробно разобраться со всеми предрассудками, которые встречаются в этом аргументе, мы будем продвигаться к сути дела черепашьими темпами. Каковы причины защиты описанной нами доктрины? Если материализм прав, эта доктрина ложна. В таком случае, интроспективные суждения можно проверить путем физиологического исследования мозга, в случае чего отбросив их как основанные на интроспективной ошибке. Можно ли отрицать эту возможность? Согласно обсуждаемому в (10) возражению, да. И аргумент звучит приблизительно следующим образом.
Когда я испытываю боль, сомнений в ошибочности моего состояния не возникает. Эта уверенность — дело не только психологического характера. Она также не связана с моей сильной уверенностью, и не существует возможности убедить меня в обратном (в отсутствии боли — Перев.). Речь идет скорее о логической достоверности: не существует какой-либо возможности раскритиковать мое суждение о боли. Я могу не выказывать никаких физиологических симптомов, но я и не намеревался включать их в свое суждение. Я могу даже не демонстрировать «болевого поведения», но и оно не входит в мое суждение. И если бы различение сущности и видимости было применимо в случае с болью, достичь уверенности, подобной моей, было бы невозможно. Ее можно достичь лишь продемонстрированным образом. Следовательно, различие неприменимо, и постулировать общий для ментальных состояний и представлений о физиологических процессах объект невозможно.
(12) Первый вопрос, возникающий в связи с этим аргументом, касается источника уверенности в истинности суждений, касающихся ментальных процессов. Ответ очень прост: источник этой уверенности — недостаток содержания. Суждения о физических объектах имеют очень богатое содержание, и именно
(13) Второй вопрос касается того, каким образом суждения о физических объектах приобретают свое богатое содержание и наоборот — почему содержание ментальных суждений, представленных в данном аргументе, настолько беднее первых.
Довольно популярным ответом в этом случае является отсылка к «грамматике» ментальных и физических состояний. Под болями, мыслями и др. мы подразумеваем процессы, доступные лишь одному индивиду и не относящиеся к состояниям его тела. Содержания «боли» или «мыслей о Вене» бедно, поскольку «боль» и «мысль» — ментальные термины. Если бы содержание этих терминов обогатилось, став похожим на содержание термина «стол», они перестали бы функционировать так, как они фактически функционируют, и, скажем, термин «боль» в таком случае перестал бы значить нечто, утверждаемое индивидом, который, при отсутствии физиологических симптомов, соответствующего поведения, при подавленном сопротивлении источнику раздражения, продолжает утверждать, что испытывает боль. Этот суждение может быть верным, и, в контексте аргумента, будет рассматриваться в качестве верного. Но для того, чтобы победить материалиста, следует также показать, что язык с подобной структурой будет описывать мир более точно и более эффективно, чем любой язык, который может создать материалист. Доказательств подобного не существует. Поэтому, аргумент от «общего» использования, а в этом случае — и от любого рода укоренившегося использования языка, не имеет значения.
(14) Данный аргумент может иметь некоторую силу в одном пункте, и этот пункт касается использования слов: продемонстрировав, что материалистическое понятие боли и «обычное» на самом деле обозначают две разных вещи, защитник «обычной» позиции может попытаться запретить материалисту использовать слово «боль», поскольку оно по праву принадлежит средствам выражения обыденного языка. Дистанцируясь от подобной щепетильности, бесспорно «правильной», если говорить о сугубо лингвистических вопросах, скажем, что выполнить это действие невозможно. Причина этого в том, что изменения значений в языке на самом деле явление слишком частое, настолько, что каждое из изменений нелокализуемо во времени. Любая плодотворная дискуссия (а таковы все дискуссии, ведущие к новому знанию) заканчивается, когда происходит решающее изменение ключевых значений центральных терминов. И лишь в очень редких случаях можно с точностью указать на момент, в который это изменение произошло. Чаще всего, подобные попытки заканчиваются неудачей. Кроме того, необходимо разделять психологические обстоятельства создания предложения и значение суждения, которое связано с предложением. Новая теория боли не изменит саму боль; она также не изменит каузальную связь между возникновением боли и продуцированием предложения «я испытываю боль» (если изменения и произойдут, они будут минимальны). Но теория точно изменит значение самого высказывания «я испытываю боль». Теперь, как мне кажется, термины наблюдения должны коррелировать с каузальными предпосылками, а не со значениями. Каузальная связь между продуцированием «ментального» предложения и его «ментальной» предпосылкой очень сильна. Ей учат с самого детства. Она является базисом всех наблюдений, касающихся сознания. Разрыв этой связи — дело более трудоемкое, чем смена связей предложений со значениями. Этот тип связей меняется постоянно. Следовательно, намного более благоразумно установить одно-однозначную связь между терминами наблюдения и их каузальными предпосылками, чем между этими терминами и постоянно меняющимися значениями. У этой процедуры огромное количество преимуществ, и она не несет никакого вреда. Астроном, желающий определить грубую форму выходной энергии звезды (ее зависимость от частоты), глядя на нее, едва ли подумает, что слово «красный», которое он использует при объявлении своих результатов, относится к ощущениям. Языковая чувствительность действительно может иметь некоторую ценность. Но она, тем не менее, не должна превращать адекватных людей в невротиков.
(15) Другим ответом на вопрос из параграфа (13), который, на первый взгляд, кажется удовлетворительным, является то, что мы знаем довольно много о физических объектах и имеем намного меньше знаний о ментальных событиях. Мы используем это знание не в редких случаях, отвечая на вопросы, касающиеся физических объектов, но включаем в понятия, при помощи которых описываем материальные объекты: стол является объектом, который отбивает мяч, брошенный в него; на него можно ставить другие объекты; его видят другие люди; и так далее. Мы легко позволяем этому знанию стать частью нашего разговорного языка, позволяя законам и теориям, которые оно содержит, стать частью грамматических правил нашего языка. Этот ответ также поддерживается тем фактом, что объекты относительно неизвестного типа всегда влекут меньшее количество предсказаний и суждений относительно них, в связи с чем они всегда относительно безопасны для нас. Во многих подобных случаях, единственной проверкой являются отчеты других лиц — даже массовые галлюцинации могут считаться подтверждающим или опровергающим свидетельством.
Но этот вполне правдоподобный ответ не берет во внимание тот факт, что имеется огромное количество знаний о ментальных процессах, принадлежащее не только психологам или физиологам, но также обычным людям, будь они британцами, античными греками или древними египтянами. Почему же это знание не было включено в ментальные понятия? И почему они так бедны на содержание?
(16) Перед тем, как ответить на этот вопрос, мы должны его квалифицировать. Весьма некорректно заявлять о том, что относительная скудость ментальных понятий является общим свойством любого языка. Напротив, мы видим, что то, как люди всегда объективизировали ментальные понятия, похоже на то, как мы сегодня объективизируем материалистические понятия. В основном, это делалось в
(17) Обсудим еще один аргумент и попытаемся показать, почему знания, которыми мы можем обладать о ментальных событиях, не должны описываться в ментальных же терминах, и почему их содержание остается на низком уровне. Этот аргумент, по всей видимости, фактуальный, и его основная суть в том, что существует знание через непосредственное знакомство. Иными словами, что существуют вещи, которые можно знать благодаря непосредственному знакомству с ними; мы обладаем полными знаниями о наших болях, мыслях, чувствах (по крайней мере, о тех, которые воспринимаются нами непосредственно и не подавляются) и обладаем к ним прямым доступом.
Аргумент образовывает порочный круг. Если мы и обладаем знанием через непосредственное знакомство, которое относится к ментальным положениям дел, если и существует нечто «непосредственно данное», то содержание суждений, выражающих это знание, чрезвычайно бедно. Обогати мы используемые в этих суждениях понятия материалистическим (или объективно-идеалистическим) способом, как мы с легкостью могли бы сделать, мы бы не говорили о том, что знаем ментальные процессы через наше непосредственное знакомство. В этом случае, мы бы, как и в случае с материальными объектами, должны были бы отличать их реальную природу от того, чем они кажутся нам, и каждое суждение, относящееся к ментальному процессу, было бы открыто для ревизии в последующих физиологических (или бихевиориальных) исследованиях. Короче говоря, отсылка к непосредственному знакомству никак не оправдывает нежелание использовать наше знание о ментальных процессах, их причинах, о сопутствующих им физиологических обстоятельствах (содержание которых следует высказывать еще до материалистического описания ментального процесса), для обогащения наших ментальных понятий.
(18) Повторим сказанное выше. Критикуемый аргумент был следующим: существует факт знаний через непосредственное знакомство. Этот факт опровергает материализм, исключающий его. Наша критика состояла в следующем замечании: несмотря на то, что знание через непосредственное знакомство, конечно, может быть фактом (о чем было выражено сомнение в (16)), этот факт — лишь результат характерных особенностей разговорного языка, а значит — он может быть изменен. Материализм (и, коль на то пошло, объективный спиритуализм, вроде древнеегипетской теории ба или гегелевского спиритуализма) признает наличие этого факта и предполагает, что он требует изменения. Следовательно, материализм нельзя опровергнуть, просто повторяя упомянутый факт. Необходимо было бы продемонстрировать, что позиция материализма нежелательна, и что теория непосредственного знакомства всецело удовлетворительна и является подходящим объяснением.
(19) Мы раскрыли весьма занимательную природу философской аргументации. Аргумент «от непосредственного знакомства» представляется фактом природы, то есть нашим способом приобретения достоверного знания о наших собственных состояниях сознания. Мы пытались показать, что этот мнимый факт природы — всего лишь следствие того, каким образом любой вид знания (или мнения) о сознании включался (и включается) в язык описания фактов: это знание, или мнение, не используется для обогащения ментальных концептов; скорее, его используют для предсказаний в содержательно бедных концепциях и неизменных терминах. Говоря технически философским языком, это знание интерпретируется инструменталистским, а не реалистским способом. Следовательно, вышеупомянутый мнимый факт является всего лишь нашей проекцией определенных особенностей нашего способа накопления знаний во внешний мир. Почему же мы (или философы, использующие такой язык) должны продолжать действовать подобным образом?
(20) Эти философы продолжают действовать так потому, что придерживаются определенной философской теории. Исходя из этой теории — а она имеет очень длинную историю и оказывает влияние даже на самых утонченных и «прогрессивных» современных философов (за возможным исключением Поппера и Витгенштейна) — мир состоит из двух областей: области внешнего, физического мира, и области внутреннего мира, мира сознания. Внешний мир переживается нами непрямым образом. Соответственно, наше знание о внешнем мире всегда остается гипотетическим. Другое дело внутренний мир, мир сознания, переживаемый нами напрямую. Знание, полученное о нем, является полным и абсолютно достоверным. Полагаю, именно эта философская теория стоит за методом, описанным нами в (19).
И сейчас меня не заботит вопрос истинности или ложности этой теории. Не исключено, что она окажется истинной (хотя лично я в этом сомневаюсь, особенно, учитывая тот факт, что эта теория представляет собой результат субъективного решения относительно бедности или полноты содержания суждения и, как результат, решения о том, является это суждение предположением или точным отражением факта природы; в результате, эта теория спутывает юмовскую проблему невозможности перехода суждений от «должен» к «есть»). Меня же интересует то, как представлена эта теория. Она не дана нам в качестве открытой для критики гипотезы, которую можно рационально обсудить. В
Это имеет два следствия. Подобное встраивание скрывает теорию от посторонних глаз, делая ее недоступной для критики. Оно также создает иллюзию очень сильного факта в поддержку теории. Поскольку теория скрыта, философ может начать прямо с этого факта и, на его основании, создать некое подобие индуктивного аргумента в поддержку теории. Если же мы попытаемся найти независимую от языковой инкорпорации поддержку этого мнимого факта, мы обнаружим, что это не факт, но, скорее, отражение способа обработки эмпирических результатов. Мы обнаружим, что «ничего не знали о наших … действиях, в связи с чем относились к тому, что было нами создано, как к постороннему объекту» (как пишет Куно Фишер в своем исследовании теории познания Канта [5]).
Эта теория — прекрасный пример круга в философских доказательствах, даже в тех случаях, где аргументация, казалось бы, строится на том, что представляется неоспоримым фактом природы (каковым является «внутренний» мир). Этот пример — предупреждение. Мы не должны доверять эмпирическим аргументам на слово — сперва следует исследовать источник их видимого успеха. Такое исследование может обнаружить фатальный порочный круг, аннулировав силу аргумента. Очевидно, что эта логическая ошибка неустранима путем ссылок на дальнейшие эмпирические свидетельства. Но ее можно устранить, исследовав методологическую обоснованность создания и аргументации в пользу описанной теории. Попробуем вкратце описать подобное исследование.
(21) Существуют философы, которые согласны с тем, что факт непосредственного знакомства нельзя использовать как аргумент против материалистов (или других «реалистов относительно внутреннего мира»). Причины их согласия не совпадают с вышеприведенными — скорее, они просто осознают, что ни один случай, описанный любыми обыденными средствами выражения, нельзя реально знать благодаря простому знакомству с ним. Осознавая это, они начинают искать аргументы, остающиеся валидными перед лицом неблагоприятных фактов, апеллируя в итоге к нормам, а не фактам. Как правило, они предлагают конструирование идеального языка, содержащего суждения с необходимыми свойствами. В этом случае, они ведомы идеей о существовании твердого, то есть неизменного основания. Создание подобного языка часто представляют, как непомерно сложную задачу, достойную великого ума. Я же считаю, что значение этой задачи слишком переоценивают. Конечно, если эта задача подразумевает простое «открытие» уже существующих обыденных суждений, обладающих желанными свойствами (расселовское «пятно каноидного цвета» указывает на то, что он понял свою задачу именно так), тогда она невыполнима. Невозможно также рассматривать сложные перцептивные акты в терминах, описывающих простые элементы ощущений (исследования школы гештальт-психологии почти достоверно указывают на то, что подобная композиция из психологических элементов — очень сложное дело). Но зачем препятствовать попытке найти безопасный язык наблюдения путем таких несущественных ограничений? Все, чего мы хотим, — это ряд предложений наблюдения, которые ведут к знанию через непосредственное знакомство. Получить их может любой лаборант кафедры философии, взяв любое предложение наблюдения и элиминировав его предсказательное и ретродиктивное содержание, равно как и следствия, имеющие отношения к социальным событиям, которые происходят во время наблюдения. Оставшаяся последовательность слов по-прежнему будет представлять собой наблюдение, будет относиться к тому же объективному событию, что и
(22) Подобные исследования никогда не проводились с должной осмотрительностью. Обычно, имеет место следующее: некто начинает с предложения в духе: «Я испытываю боль». Затем, оно интерпретируется как суждение, которое может быть известно путем непосредственного знакомства. Исследователь упускает из виду тот факт, что подобная интерпретация ключевым образом меняет изначальное значение предложения, и таким образом, сохраняет иллюзию того, что по-прежнему имеет дело с осмысленным предложением. Ослепленный этой иллюзией, он абсолютно не понимает возражений оппонента, который подходит к «данному» серьезно, в связи с чем неспособен извлечь из результата хотя бы какой-то смысл. Исследуем дело в деталях. Испытывая боль, я говорю: «Я испытываю боль». И, естественно, у меня есть некая независимая идея боли. Столы и стулья не испытывают боли; ее можно заглушить обезболивающими; каждая боль возникает у конкретно взятого человека (следовательно, мой пес никогда не сообщает мне о том, что я испытываю боль); боль незаразна (едва ли я, испытывая боль, буду призывать окружающих держаться от меня подальше). Эту идею боли разделяют другие люди, и она дает им возможность понять меня. Но сейчас я намерен не вкладывать все эти идеи в значение нового суждения, которое будет выражено таким же предложением о непосредственно данном. Я намерен освободить это значение от всего сказанного выше, включая идею о различии между болью во сне и болью наяву. Если удалить все элементы, что я буду подразумевать при использовании этого суждения с очищенной семантической «канвой»? Я могу говорить: «Я испытываю боль», испытывая боль (обычным образом); я также могу говорить во сне, при отсутствии реальной боли, и буду равным образом убежден в том, что говорю правильно. Я могу также использовать выражение в качестве метафоры, связывая его с мыслью (в обычном смысле). Меня могли бы даже научить (в самом прямом значении понятия «обучение») произносить это выражение всегда, когда я испытываю приятные ощущения; соответственно, испытывая их, я бы говорил: «Я испытываю боль». Очевидно, что все эти виды использования теперь легитимированы и все они описывают «непосредственно данную боль». А не очевидно ли, что теперь, услышав это выражение от Герберта, я не пойму, что он имеет ввиду? Конечно, я могу относиться к его суждению как к симптому события, после происшествия которого мы обычно говорим: «Я испытываю боль». Но в этом случае, я даю свою собственную интерпретацию этому высказыванию, и она серьезно отличается от обсуждаемой нами интерпретации. Становится видно, что, согласно ей, предложение нельзя использовать для описания чего-либо конкретного. Следовательно, оно ничего не означает; никому нельзя его понять (разве что, глядя на перекошенное лицо одного человека, другой «понимает», что происходит — но его интерпретация является субъективной). И в качестве «источника знаний» или меры фактуальных значений, такая интерпретация, естественно, полностью неадекватна. Даже открытие реального значения не сможет научить нас тому, чего, по «общему» признанию, нельзя знать вообще. Если бы язык и речь существовали в рамках такой интерпретации, они были бы похожи на кошачью песню: ничего не говорится, ничего не понимается, но при этом все «выражается». К счастью, «данное» — всего лишь результат рефлексии над нашим собственным неразумием, и его можно устранить, построив более разумный язык. На этом наш спор о «знании-знакомстве» стоит окончить.
(23) Подведем итоги: мы обсудили три аргумента против материализма. Первый указывает на то, что материализм не является онтологией обыденного английского языка. Мы же указали на причины, почему этот аргумент несущественен, даже если обычный английский окажется очень успешным и проверяемым средством выражения. Второй аргумент относится к результатам наблюдения. Мы указали на то, что результаты наблюдений всегда требуют интерпретации, и что нет разумных причин на то, чтобы сбрасывать материалистическую интерпретацию со счетов. Третий аргумент относился к факту непосредственного знакомства. Мы продемонстрировали, что этот факт, во-первых, не является неизменным, а
(24) У всех этих аргументов есть одна общая черта: ими пытаются критиковать теорию, которая пока не развилась достаточно до того уровня, на котором она может продемонстрировать свою силу и продуктивность. И в основание этой критики закладывают всего лишь устоявшиеся способы мышления и выражения. Мы указали на то, что единственным способом демонстрации недостатков устоявшихся способов мышления является решительная попытка применить другой подход. Мне кажется, что задача философии, как и любого предприятия, заинтересованного в движении вперед, а не в бальзамировании знания, состоит в поощрении новых моделей подходов к решению этой проблемы, в их развитии и укреплении, вместо того, чтобы тратить время, демонстрируя очевидное. Я также надеюсь на то, что идеи философов и других сторонников прогресса отличаются от общепринятых форм мышления.
Калифорнийский университет
Миннесотский центр философии науки
Примечания
[1] — Цит. по: Остин Д. Три способа пролить чернила: Философские работы / Пер. с англ. В. Кирющенко; Вступ. статья В. Кирющенко, М. Колопотина. — СПб.: Изд-во «Алетейя»: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. — с. 207
[2] — Isaak Newton’s Papers and Letters on Natural Philosophy, ed. I.B. Cohen (Cambridge, 1958), p. 106.
[3] — Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки: Переводы с англ. И нем. А.Л. Никифоров / Общ. ред. и авт. вступ. ст. И.С. Нарский М. Прогресс, 1986. С. 29-108
[4] — Feyerabend, P. Problems of Empiricism. Pittsburgh Studies in the Philosophy of Science, Vol. II, 1963
[5] — Fischer K. Immanuel Kant und seine Lehre. Heidelberg, 1889, p. 10.
