Квентин Мейясу. Имманентность потустороннего Мира
Если вы думали, что старина Квентин Мейясу славен лишь тем, что критикует корреляционизм — а точнее соломенное чучело, которое он так называет — и на досуге «изобретает странную аргументацию», то вы глубоко заблуждались. Ещё в «Божественном несуществовании» наш любитель спекулятивного-без-метафизического набросал краткую спекулятивную историю Всего (или не-Всего, раз уж «Всего не существует»). Расскажем об этой краткой «истории» становления словами самого Мейясу: «Становление, в качестве бессмысленного бытия, является абсурдным возникновением жизни в лоне материи, а также возникновением мышления в лоне жизни». Так в этой крайне кропотливой и хорошо дифференцированной таксономии — очевидно над ней бились не один час — различаются три гетерогенных порядка (или мира), между которыми существует онтологическая прерывность. Однако дело не ограничивается исчислением уже произошедших макро-событий вкупе с вытекающими из них мирами: спекулятивный материалист, заявляет Квентин, занимается не
Но в связи с прогнозированием «быть-может» возникает ряд сложностей. Если верить Мейясу, никакое контингентное событие, порождающее онтологическую новизну, не может рассматриваться в качестве реализации простой вероятности, заранее заложенной в предшествующий порядок. В этой перспективе жизнь нельзя приравнять к одному из «дремлющих» состояний материи: она не была событием, которое потенциально заложено в мир материи и сообразуется с его законами. Разумеется, та же логика вполне валидна для отношения между жизнью и мышлением.
В таком случае, как рассуждать о «быть-может», если Мейясу открещивается от исчисления вероятностей даже в теории? Ответ гласит, что ванговать грядущее событие надлежит в опоре на «онтологический избыток», несводимый ни к одному из наличествующих порядков (та ситуация, когда ex nihilo не
Представленный текст вполне можно назвать полной версией «Призрачной дилеммы». Если вам давно был любопытен этический аспект философии Мейясу, развернутая экспликация тезиса о грядущем Боге в его отношении ко всеобщему воскрешению, то вы по адресу.
Неприятного чтения.
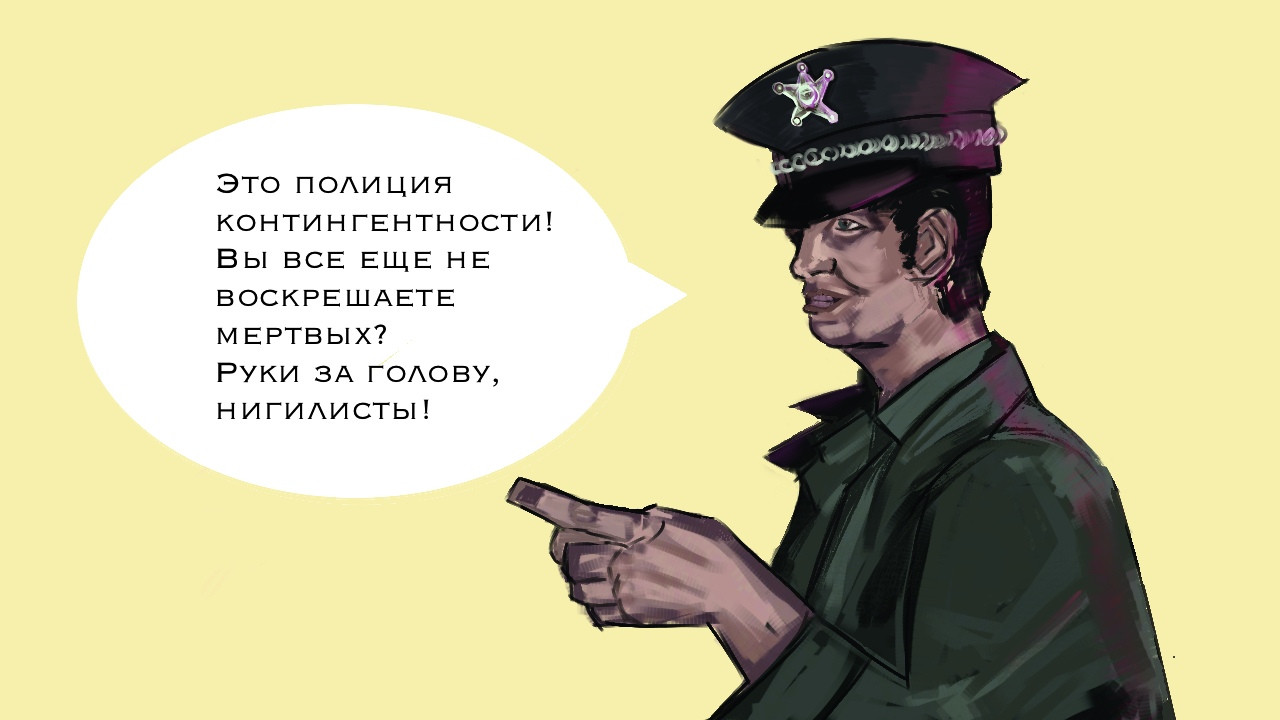
Мой философский демарш можно резюмировать тремя тезисами, которые я предварительно кратко сформулирую, чтобы подробнее изложить их в ходе моего доклада.
1) Абсолют можно помыслить, лишь отказавшись от принципа основания. В моих собственных терминах это звучит следующим образом: спекуляция, трактуемая как мышление об абсолюте, возможна, если она неметафизична.
2) Ставкой этого восстановления спекуляции в правах будет нерелигиозность [l’irréligion]. Я утверждаю, что нерелигиозность может быть исключительно спекулятивной, и, следовательно, представлять собой мышление об абсолюте, а не критику абсолютов. Из этого негативно вытекает следующее: любая критика абсолютов сегодня облачается в одежды основной формы современной религиозности, фидеизма.
3) От второго тезиса мы переходим к теме, которая главным образом будет волновать нас в этом докладе: смысл этой, теперь уже спекулятивной, нерелигиозности состоит в разработке эсхатологии бессмертия. Следовательно, я утверждаю, что возможность бессмертия мыслима исключительно в нерелигиозной перспективе, тогда как философия истинной имманентности коррелирует не с мышлением о конечности, но с этикой бессмертия. Более классическая версия этого тезиса состоит в утверждении, что философская нерелигиозность не сводится к атеизму, но выступает подлинным условием доступа к божественному.
Итак, резюмируем три упомянутых, но пока ещё загадочных, тезиса: спекуляция возможна, если она не-метафизична; нерелигиозность возможна, если она спекулятивна; бессмертие и доступ к божественному, выступающие условиями имманентности, возможны (мыслимы и при этом допускают возможность жить с ними), только если проистекают из нерелигиозности.
1. Два первых тезиса
Главным мотивом моей книги «После конечности» выступает утверждение, что спекулятивная философия может быть восстановлена в правах, будучи при этом не-метафизичной. Углубление разрыва между спекуляцией и метафизикой — двумя понятиями, которые, как правило, отождествляются друг с другом — представляется вполне правдоподобным. Уточним же, какой смысл эти термины приобретают в рамках моего исследования.
Я называю спекулятивной всякую претензию мышления на достижение абсолюта: вечной истины, независимой от психологической, исторической или языковой контингентности — независимой от нашего отношения к миру. С другой стороны, я не согласен с тем, что этот спекулятивный потенциал мышления с необходимостью превращает его в метафизичное мышление: я не просто утверждаю, что спекуляция не с необходимостью должна быть метафизичной, но говорю, что лишь отказ от всякой метафизики позволит мышлению достигнуть подлинно спекулятивных истин. Иными словами: так называемый конец метафизики — условие подлинного доступа к абсолюту.
Необходимо уточнить, что в моём понимании метафизика совмещает две претензии: с одной стороны, всякая метафизика спекулятивна (я не имею в виду то, что Кант называет «трансцендентальной метафизикой» в качестве истинной метафизики), иными словами, претендует на достижение абсолютной истины. Вдобавок, она характеризуется тем, для чего Лейбниц предложил имя «принцип достаточного основания». Всякая метафизика отстаивает возможность отыскать причину, по которой дела обстоят так, а не иначе. Следовательно, речь о возможности обосновать тот факт, что некоторые сущности должны с необходимостью существовать на основании того, чем они являются, [en raison de ce qu’elles sont] в силу их видообразующих свойств. В этом смысле верно, что метафизика представляет собою претензию на доказательство существования — со времён Канта это называется онтологическим аргументом — некоего необходимого божества, будь то природные законы нашего мира или сущность иного типа (атом, душа, общество, исторический процесс и т.д.).
Из подобного определения метафизики прекрасно вытекает и определение не-метафизической спекуляции: не-метафизический абсолют является абсолютом, учреждающим [faire fond — становиться основой] ложность принципа достаточного основания. Другими словами, проект не-метафизической спекуляции мог бы заключаться в следующей установке: наша невозможность доказать, что вещи должны складываться [est] так, а не иначе, не помечает нашего неведения относительной истинной причины всех вещей, но выступает маркером нашего доступа к знанию о реальном [effectif] отсутствии такой причины. Я утверждаю, что радикальная контингентность всех вещей, их безосновность, не свидетельствует о неспособности мышления к достижению предельной истины, но, напротив, выступает истиной, стоящей за всеми вещами. Когда мы наталкиваемся на безосновность всех вещей, мы упираемся не в предел нашего знания, но в его абсолютность: вечное свойство самих вещей состоит в беспричинном становлении другими, нежели они суть. Проясним это: идея о
Пытаясь подкрепить этот тезис, я столкнулся с тремя принципиальными проблемами:
1) Чем обосновываются эти высказывания? Грубо говоря, моя идея состояла в следующем: контингентность выступает необходимым оператором всех современных антиметафизических проектов: последние всегда дезабсолютизируют мысль, ставя акцент на контингентность — психологическую, трансцендентальную, историческую или лингвистическую — наших умственных категорий. Я пытаюсь вывести из этого, что единственная вещь, которую мы не можем релятивизировать — сам оператор этих релятивизаций: саму контингентность. Таким образом, я пытаюсь показать, что только контингентность абсолютно необходима, ибо её нельзя релятивизировать в
2) Вторая проблема: как при помощи тезиса о необходимости контингентности породить разнообразный дискурс, а точнее — исследовательскую программу, которая бы не довольствовалась монотонным повторением идеи о том, что любая вещь лишена основания? Принцип фактуальности интересен, поскольку безосновность вещей, хотя она и не устраняет всякую рациональную необходимость, позволяет заново определить, как должен работать философский разум. Необходимо освободить разум от принципа основания и поставить перед ним новую задачу. Последняя проистекает из размышления: чтобы быть контингентным, сущее, как некая вещь, в действительности не может быть чем угодно. Таким образом, безосновность работает на определённых условиях. Сказать, что сущее, чтобы быть сущим, должно быть лишено основания, ещё не означает, что оно может быть чем угодно: если сущее должно быть контингентным, оно также должно выполнять определённое число условий. И задача переопределённого [философского] разума (освобождённого от принципа основания) состоит в том, чтобы обнаружить их. Например, я попытался показать, что можно онтологически обосновать принцип не-противоречия: если некое сущее не может быть противоречивым, то это в силу того, что оно должно быть контингентным, и таким образом уже не быть тем, чем оно не является, чтобы при случае иметь возможность (без каких бы то ни было оснований) стать им.
3) Что же касается третьей проблемы, она вновь натолкнула меня на юмовскую проблему модального статуса физических законов. Если я утверждаю, что всякая определённая реальность может беспричинно возникнуть или разрушиться, то в таком случае я допускаю, что физические законы — они, в равной мере, выступают детерминированными реальностями — могут без всяких на то оснований модифицироваться в любое мгновение. Я отвечаю на эту проблему вопросом: можно ли доказать необходимость законов, а точнее — разумно обосновать наше поверье в эту необходимость? Мы не можем этого сделать, потому что законы выступают не необходимыми, но контингентными — реально контингентными, учитывая, что ничего не поддерживает их непреходящий характер. Таким образом, я натолкнулся на вопрос о том, почему, словно по капризу, законы изменяются не постоянно, а, напротив, пребывают в удивительно стабильном состоянии. И эта стабильность кажется чем-то в высшей мере маловероятным, если ничего не поддерживает её непрерывность. Ответ в том, что мы не можем применить рассуждение, базирующееся на понятии вероятности, к самим законам, но лишь к физическим объектам, которые уже подчиняются законам. Не вдаваясь в детали этого анализа, следует вспомнить его основной принцип, необходимый для понимания того, что последует далее. Верование, в соответствии с которым контингентные законы физики не могут поддерживать свою стабильность, которая однако подтверждается опытом, проистекает из следующего размышления: для начала мы полагаем существование необъятного, и даже бесконечного, Всего, включающего в себя возможные миры, движимые иными законами, нежели законы нашего мира; затем мы заостряем внимание на следующем: если бы наш мир был контингентным, то шансы его устойчивости во времени [soit reconduit, дословно: «продлённости во времени»] были бы очень малы, поскольку в каждое мгновение (настолько краткое, насколько это возможно) «кубик возможных Вселенных» оборачивался вокруг своей оси, выдавая результат в виде порождённой случаем актуальной Вселенной, которая всякий раз отлична от своей прежней версии. Тем не менее, в соответствии с законами случайности, было бы также маловероятно допустить, что результатом такого Броска костей всякий раз оказывается наша Вселенная, а не безмерное количество прочих мыслимых Вселенных. Из такого положения вещей мы должны были бы заключить, что физическая необходимость «подтасовывает» результат и гарантирует постоянство нашего мира. В «После конечности», наперекор этому рассуждению, я показал, что подобным образом нельзя тотализовать совокупность возможных Вселенных, поскольку ничего не может гарантировать, что Всё такого типа существует: ни опыт (никто и никогда не видел это Всё), ни в особенности «чистая теория» — ведь со времён Кантора нам известно, что не существует Всего, объединяющего мыслимые числа. Канторовское трансфинитное означает, что для всякого бесконечного существует б (о)льшее бесконечное, тогда как предельное множество не может подвести итог этому нескончаемому приумножению бесконечных чисел. Тем не менее, если отсутствует целокупность возможных случаев, то всякое размышление, оперирующее категорией случайности, становится лишённым смысла. Посредством подобной критики исчисления вероятностей применительно к возможным мирам стало легитимным утверждать, что законы могут быть контингентным и однако оставаться стабильными, пускай и вопреки всякой мнимой вероятности [probabilité apparente].
2. Пост-модерн и фидеизм
Я осмелюсь перейти ко второму из заявленных мною тезисов: моя озабоченность восстановлением правах спекулятивного мышления [speculation] проистекает из желания учредить новую форму нерелигиозности. Всё более и более очевидным кажется, что всякое предприятие по дезабсолютизации, как всякое скептичное или критическое начинание в широком смысле, направленное против претензии разума на установление абсолютных истин и далёкое как от углублённой критики религиозного поведения, так и от попыток совершить облаву на остатки «религиозности» (что означало бы учреждение светского Абсолюта) в метафизике, приводит к систематической защите веры. Когда мы лишаем мысль права на доступ к-себе, это тождественно сохранению некой сущностно немыслимой трансцендентности. Уже Кант в явной форме подметил это в первой Критике: утверждая, что новая метафизика — ныне трансцендентальная, а не спекулятивная — более не может служить основанием или подосновой (grundveste) для религии, поскольку она воспретила теоретическому разуму возможность доказать существование Бога, Кант тотчас же добавляет, что одновременно ровно то же самое оказывается и оплотом (Schutzwelhr) [для возможного существования Бога], потому что критицизм, также налагает запрет на доказательство несуществования Бога. Теоретически недоказуемая вера одновременно становится теоретически неоспоримой и защищённой — если не от практического разума, то по крайней мере спекулятивной философии — от всякого незаконного вторжения в её собственную специфичную область, где размещаются Бог и бессмертие. Тем не менее, со времён Канта это ограничение Разума в правах заметно возросло за счёт исключения абсолютистских претензий разума как на практике, так и в теории,
Именно это Ваттимо Джанни, ключевая фигура «слабого мышления», заявляет в своём произведении «Надежда верить»: с его точки зрения, конец метафизики предполагает окончательный возврат к религиозности [préoccupation religieuse], поскольку, хотя метафизика и завершилась, никто более не может претендовать на строгое доказательство того, что Бога не существует. Через демистификацию самой демистификации — выраженной как претензия мышления противопоставить религиозные иллюзии до сих пор игнорируемой объективной истине — постмодерность проторила дорожку для согласия кого угодно с чем угодно согласно духу времени [l’aire de l’époque] или веяниям истории. Возврат к христианской вере, скорее обусловленный «духом времени» [esprit de l’époque] (последний зпт в свою очередь зпт приведен в действие желанием наших предков и их предков), нежели полученный в результате совместных умозаключений, проделанных всеми упомянутыми относительно «за и против» веры, становится для Ваттимо естественным движением индивида, освобождённого от претензий объективного разума. Тем самым, постмодерность восстанавливает в правах фидеистское отношение между мышлением и верой, ибо со времён Монтеня фидеизм состоял в том, чтобы ограничить — и даже аннулировать — познавательные [cognitif] претензии разума, с целью расчистить место, служащее нишей для веры [croyance].
На контрасте с этой постмодерной набожностью мы констатируем, что два самых нерелигиозных проекта в истории (философия Лукреция и философия Спинозы), совершая явно метафизический жест, утверждали, что одной силы мысли люди способны прийти к заключению, что боги, которых неустанно боялись и почитали (те самые «боги толпы»), в действительности просто не существуют, и это выступает условием для освобождения и обнаружения истинных богов. На этих философов я опираюсь, когда пытаюсь вновь возобновить абсолютный характер [absoluité] их демарша, открытого к новому и рациональному переосмыслению природы божественного. Но на контрасте с метафизичностью мышления Лукреция и Спинозы я говорю о ратификации окончательного отказа от принципа достаточного основания и отказе от догматизма, определявшего более ранние формы нерелигиозности.
3. Дилемма призрака
Пришло время изложить мой третий тезис, что подразумевает постановку конкретной проблемы, которую я назвал дилеммой призрака [dilemme spectral/спектральной дилеммой]. Для начала проясним значение термина «призрачная» [spectral].
J’en viens maintenant à l’exposition de ma troisième thèse, ce qui implique d’en passer par l’exposition détaillée d’un problème précis, que j ’ai appeléle dilemme spectral. Commençons par expliquer le sens du tenue “spectral”.
Я называю призраком неоплаканного усопшего, который настолько неотступно преследует нас, что мы и сами не можем «покинуть лимб», выкарабкаться из состояния, когда мы обращены, ибо одержимы, к деструктивному воспоминанию об умершем. Я называю «настоящим [essentiel] призраком», или призраком par excellence, усопшего, чья смерть случилась так, что в силу тех или иных существенных [essentielles] причин — они не сводятся к одной лишь психологии, — мы не можем оплакать его: таков усопший, над которым, с течением времени, не удалось осуществить работу скорби в мере достаточной, чтобы между ним и живыми установилось безмятежное отношение. Своей смертью этот усопший внушает ужас не только своим близким, но и всем, кто ощущает отголоски этой смерти.
Настоящие призраки — это люди, пережившие ужасную или преждевременную смерть: таковы смерть ребёнка или смерть родителей, которым известно, что их дети обречены на ту же участь. Здесь же можно упомянуть и множество прочих кончин, также вызывающих ужас. Будь это естественная или насильственная смерть, она не может быть принята ни самими умершими, ни оставшимися в живых. Так и не свершившаяся смерть, не имеющая никакого смысла и никакого логического завершения [achèvement] — жестоко прерванная жизнь, о которой непристойно думать, будто умершие смогли её вынести [vecue].
Мы будем называть сущностной скорбью оплакивание настоящего призрака, имеющее исполненный характер [On appellera deuil essentiel l’accomplissement du deuil des spectres essentiels]: благое, но не болезненное [morbide], отношение живых к умершим ужасной смертью. Такая скорбь предполагает возможность поддерживать с покойными устойчивую связь, которая не провоцирует отчаянный и смертоносный ужас, поражающий нас в свете настигшего их рока, но, напротив, встраивает воспоминания об ушедших в нашу жизнь: жить с этими призраками, а не умирать с ними. Итак, напрашивается следующий вопрос: возможна ли сущностная скорбь? Если да, то на каких условиях?
Можно ли, учитывая XX-й век, исторически ознаменованный преобладанием этих гнусных смертей, поддерживать здоровое отношение с ушедшими (по большей части незнакомыми нам, но всё же оказывающимися чрезмерно близкими), чтобы наши жизни тайно не подтачивались этими событиями? На первый взгляд, присутствует впечатление, что мы вынуждены ответить на этот вопрос отрицательно. Сущностная скорбь представляется недостижимой, если мы полагаемся на ту общую перспективу, в которой размещается наше отношение к ушедшим. Её очень легко резюмировать: либо Бог существует, либо — нет. Если же мы перейдём к более обобщённой перспективе, можно допустить, что в мире и за его пределами осуществляется трансцендентный по отношению к человечеству принцип милосердия, в перспективе подразумевающий справедливость для умерших; либо допустим, что таковой отсутствует. Быстро становится очевидно, что ни одна из этих опций (для удобства назовём их религиозной и атеистической в независимости от того, сколь бесчисленны их конфигурации) не позволяет исполнить сущностную скорбь. Что бы мы не понимали под этим, но заявления о существовании Бога или его не существовании — вот два способа отчаяться перед ликом наших призраков. Чтобы в явном виде показать это, мы, прибегая к форме защитительной судебной речи, изложим самые сильные аргументы каждой из сторон при испытании этой скорбью.
Так будет выглядеть линия защиты религиозного человека:
«Я могу принять свою собственную смерть, но не ужасающие смерти других людей. Именно ужас в связи с их — но вовсе не моей — бесповоротной смертью внушает мне веру в Бога. Моя вера в универсальность религиозного чувства основывается не на желании личного спасения для каждого, но на желании, чтобы каждому было гарантированно избавление от сломанной жизни.
Напрасно утверждать, будто всякий человек мечтает о бессмертии: ведь это лишь эмпирический взгляд [position empirique] на человеческое, который ничем нельзя подкрепить: наш вид состоит из особенностей, которые нельзя резюмировать в виде общего правила, с необходимостью упрощающего положение вещей. Нельзя игнорировать даже одну жизнь [rien ne permet d’eclure l’accomplissement d’une vie], проживаемую и трактуемую как конечная, и находящую свой смысл лишь в этой конечности. Бессмертие приобретёт универсальное значение не через претендующее на всеобщность антропологическое установление («все люди желают бессмертия, и поэтому только та или иная вера преисполняет смыслом наше существование»), но путем постановки четкой и куда более глубокой проблемы: как смириться с несправедливостью, ниспосланной некоторым, если она делает невозможной скорбь, придающую смысл нашему отношению к
Иначе говоря, я могу неукоснительно быть атеистом и не верить в бессмертие, но для меня неприемлемо быть им в отношении переживших ужасные смерти: идея о том, что для бесчисленной массы поблекших призраков [spectres passés] невозможна какая-либо справедливость, настолько глубоко ранит меня, что у меня больше не выходит посвящать себя живым. И, конечно, именно живые, а не мёртвые, нуждаются в помощи. Но я полагаю, что помощь живым утверждается чере веру в справедливость для мёртвых. Конечно, атеист может не согласиться с этим, но в свою очередь я утверждаю, что я не смогу больше жить, если откажусь от веры в это. Я надеюсь на лучшую участь для ушедших, в противном случае, жизнь напрасна. Эта лучшая участь может быть иной жизнью, еще одним шансом прожить жизнь, пережить что-то иное, нежели уготованную им смерть. Я добавлю, что требую лишь всеобщего равенства между людьми, между всеми людьми в независимости от их биологического состояния, будь то цвет их кожи, пол и вес, что включает их телесное или физическое состояние (следовательно, неважно, живы они или мертвы, ибо это отражает лишь их органический статус, не имеющий никакого нравственного значения) — да, я требую этого для всех. И с этой точки зрения, коммунизм грешит своей сдержанной установкой [le communisme à péché par modération]: его преступления и нанесённые им беды проистекают вовсе не из чрезмерной концепции свободы, но, напротив, её крайне ограниченной версии. Ведь, довольствуясь идеей равенства, применимой исключительно к живым, и соответственно отказываясь от эсхатологической надежды на всеобщее равенство для живых и мёртвых, коммунизм попадает в ужасный переплёт: ушедшие поколения оказались обречены на бесповоротное изничтожение, и лишь нынешнее поколение должно стать частью нового начала [aube nouvelle]. Тем самым расчищается плацдарм, чтобы пожертвовать (ещё одно проявление этой преступной сдержанности [moderation criminelle]) нынешнее поколение — будущему, единственному выгодоприобретателю грядущей Революции. Превращать ныне живущих в средство и материал, служащие для счастья людей будущего, тем самым впадать в прометеизм, подвязанный на техническую и тоталитарную концепцию развития, и культивировать абсолютное неравенство между жившими до эмансипации и живущими после неё — всё это стало следствием изначального отказа от идеи гибристического равенства в отношении всякого человека: прошлого, настоящего или будущего. Поэтому технико-тоталитарный прометеизм, как того желает до бесконечности размножающаяся Biblia Vulgata, основывается не на hybris ставшего непомерно гордым и преисполненного иллюзорным чувством всемогущества человечества: напротив, он основывается на отречении от того hybris, что восходит к идее эсхатологической справедливости, настигающей всех людей без исключения, и это бесконечное ограничение притязаний на равенство потопило коммунизм в реализации технического «господства» [fait sombrer le communisme dans le scheme de la «maitrise»]. Этот полный провал проистекает из кримогенной природы непритязательности современного [moderne] человечества — непритязательности, беспощадно обернувшейся против бесконечно, но легитимно, избыточного характера всеобщей справедливости. Наперекор этому нам необходимо возобновить отношения с той радикальной эсхатологической надеждой, чтобы иметь возможность немедленно и решительно действовать во имя соблюдения безусловного равенства для каждого человека — равенства, чья предельная реализация более не зависит от нас, но от всемогущего Бога, гарантирующего обоснованность нашего безумия».
Атеист-ответчик скажет следующее: «Ты говоришь, что надеешься на
Суть дела заключается в том, что достижение блага не может быть опосредовано Злом в перспективе абсолюта [Le fond de l’affaire, c’est qu’il n’y a pas de médiatisation absolue du Mal…] Я могу попытаться обосновать совершение зла во имя вытекающего из него большего блага, когда действие разворачивается в перспективе конечного бытия: если я не могу избежать войны, чтобы сохранить свободу, то будет война. Но в случае всемогущего существа эта опосредованность злом [на пути к благу] совершает осечку, а любая теодицея становится перверсивной: кто-то заявит, что Бог допускал исторические преступления, чтобы оставить за людьми их свободу? В таком случае, что эти люди думают о том или ином политике, который — во имя человеческих свобод, допускает бойню, хотя он мог бы предотвратить её? Скажут ли, что Бог насылает на людей, включая и детей, смертельные заболевания, чтобы одновременно внушить чувство храбрости как самой жертве, так и её близким? Что скажут о враче, который, во имя подобных принципов, привьёт страшные заболевания своим пациентам? Нет никакого возможной теодицеи, никакого возможного оправдания для действий твоего Господина: этот Бог морально непостижим и дан нам лишь в виде чистого насилия, носящего произвольный характер. Верный знак его тотальной монструозности состоит в том, что всякое последовательное imitatio dei неизбежно приводит к возникновению неслыханного перверсивного поведения, коррелирующего с моделью нашей политики, допускающего бойню во имя свободы, или же с поведением врача, убивающего детей, чтобы поспособствовать нашему упражнению в доброте. Поэтому глубинная суть твоего Бога кроется вовсе не в Любви, но в Таинственности. Тем не менее, настоящая любовь приобретает свою истинную духовную красоту через противопоставление с Таинственностью. Истина этого переживания в его простоте, следствием которой выступает его невероятная сложность: перед лицом невзгод [tort] оно побуждает на храбрые поступки, а не научный расчет в соответствии с алгоритмом, который ускользает от заурядных смертных; перед лицом смертельной болезни оно побуждает выздороветь, а не остаться в состоянии болезни или даже распространить его; вместо бойни оно побуждает установить мир, а не даёт добро на бессмысленную жестокость.
И в свою очередь я ужасаюсь последствиям твоей религиозной покорности этому непостижимому Богу: во имя всеобщей Справедливости ты выражаешь обожание в отношении Существа, которое манифестирует себя через абсолютную несправедливость. Ведь, как только ты начинаешь поклоняться Худшему во имя Лучшего, тобой постепенно завладевает крайне коварная диалектика, развращающая твои лучшие порывы. Ты испытываешь двойное искушение: обожествлять Насилие — словно это Справедливость — во имя Трансцендентности, которую всем надлежит обожествлять, и самому превратиться в жестокое существо, в чистого фанатика [fanatisme de la Force pure], верного в этом своему Господину; или же — однако это будет лишь прямым следствием всё того же фанатизма — ты займёшься перверсивной софистикой, чтобы обосновать деяния твоего Бога, и ты вживишь её в себя, чтобы легитимировать свои же злостные деяния. Любовь к чистому насилию и извращённая риторика представителей власти, обосновывающих худшее, — вот, что вытекает из твоего гибристического равенства. Твой ужасный Бог — вкупе с императивом уподобиться ему — успешно провоцирует появление очередных «Guides géniaux» и «культов личности», извлекающих выгоду из ужасающей умственной гимнастики, котрая выступает продуктом теологической софистики, разворачивающейся с начала 2000х. Провозглашая Принцип непостижимой Любви, они представляют собой лишь машины чистого уничтожения. Поскольку коммунизм не смог разорвать все связи с теологией, это привело к оруэлловскому опрокидыванию, в котором Гнев — лучшая манифестация Любви, тогда как Война — истинное осуществление Мира. Ограниченное и умеренное равенство атеистической морали вкупе с политикой эмансипации, которая заботливо относится к своим последствиям, всегда будет противопоставляться извращению этих справедливых идеалов религиозными ухищрениями священников и их светских двойников».
Быстро оговоримся, что обе этих позиции взаимно поддерживают друг друга своими слабостями: атеист провозглашает себя таковым, ибо религия обещает устрашающего Бога, который разлагает человеческое чувство Справедливости; верующий же основывает свою веру на отказе от жизни, опустошенной отчаянием от этих ужасных смертей. Каждый из них прячет своё отчаяние за явными попытками ускользнуть от отчаяния, провоцируемого позицией другого. Тогда дилемма состоит в следующем: либо мы теряем надежду на иную жизнь для умерших, либо приходим в отчаяние
Мы будем называть спектральной дилеммой выше описанную апоретическую альтернативу между атеизмом и религией при их столкновении со скорбью по настоящим призракам. Внутри этой апоретической альтернативы мы мечемся между абсурдом жизни без Бога и таинственностью Бога, который именует любовью laisser-faire и его крайне ужасные последствия, — такова двойственная форма осечки в исполнении этой скорби. Напротив, разрешением дилеммы станет называться позиция, которая не будет ни религиозной, ни атеистической, и, следовательно, выйдет за пределы этого двойного отчаяния, присущего упомянутой альтернативе. Следовательно, наш вопрос относительно возможности исполнения сущностной скорби можно переформулировать следующим образом: на каких условиях есть надежда прийти к разрешению этой дилеммы? Как помыслить такую связь живых с мёртвыми, которая уклоняется от дважды безнадёжной ситуации [double detresse], порождаемой альтернативой между атеизмом и религией?
Чтобы набросать возможный ответ на этот вопрос, вот как мы поступим: дОлжно выявить условия решения дилеммы и оценить как теоретическую легитимность последней, так и степень её обоснованности.
Начнем с того, что изложим «формальные» условия разрешения дилеммы. Эти условия одновременно учреждают нерушимую легитимность двух изложенных позиций (атеистической и религиозной) и выступают источником апории. Каждая из них выставляет напоказ определённый элемент, необходимый для сущностной скорби:
— В соответствии с религиозной позицией, скорбь возможна, только если мы можем надеяться для ушедших на иной удел, нежели смерть. Призраки будут упокоены, когда у нас появится надежда вновь увидеть их живыми [les soectres ne rejoindront leur rive qu’au jour où nous saurons espérer les voir rejoindre la nôtre].
— В соответствии с атеистической позицией, существование Бога выступает непреодолимым препятствием для подобной надежды, поскольку для атеиста оказывается немыслимым, что справедливый Бог может допустить ужасные смерти и, сверх того, заставить возлюбить себя за это, тем самым совершая над нами бесконечное духовное насилие.
Апория проистекает из того факта, что две этих позиции, по-видимости одинаково обязательные, оказываются несовместимыми во времени [apparaissent dans le même temps incompatibles]. В моём понимании выйти из этого тупика можно только одним способом: необходимо доказать, что несовместимость между этими условиями есть лишь видимость, тогда как существует и третья опция (ни религиозная, ни атеистическая), когерентно объединяющая два элемента ответа. Иными словами, разрешение дилеммы подразумевает возможность помыслить высказывание, которое сопрягает как возможное воскрешение мёртвых (религиозное условие), так и несуществование Бога (атеистическое условие). Мы синтезируем два этих элемента в следующем высказывании:
Бог всё еще не существует.
Это высказывание будет называться тезисом о божественном несуществовании, и это выражение [божественное несуществование] надлежит понимать в двух смыслах, допустимых на основании его двусмысленности. В буквальном смысле «божественное несуществование» подразумевает несуществование как религиозного, так и метафизического Бога, который предположительно актуально существует как Творец или Принцип, созидающий мир. Но также это выражение говорит и о божественном характере несуществования: тот факт, что в текущей [présent] реальности [божественное] пребывает в виртуальном состоянии, может таить в себе возможность грядущего Бога, который [в этой перспективе] не виновен во всеобщих бедствиях, и, следовательно, можно надеяться, что он обладает могуществом даровать призракам иную участь , нежели смерть.
Полагание божественного несуществования позволяет уловить причину очевидной неразрешимости спектральной дилеммы. Последняя связана с тем фактом, что атеизм и религия учреждают выбор, исчерпывающий все прочие возможности: либо Бог существует, либо Бог не существует. В действительности оба этих тезиса оказываются более сильными, чем фактическая форма их изложения: последняя черпает свой смысл из предположительно необходимого характера существования или несуществования Бога. Быть атеистом означает не просто утверждать, что Бога нет, но что он в принципе не может существовать. Тогда как религиозность сопряжена с верой в обязательное [essentiel] существование Бога. Понятно, что для противостояния этой альтернативе посредством тезиса о божественном несуществовании должно перенести нашу баталию в область модальностей: следует выдвинуть тезис, что Бог возможен, и он не должен базироваться на субъективном поверье в его актуальное существование (это тождественно утверждению, что актуальное существование Бога возможно, пускай я и нахожусь в неведении относительно этого). Надлежит поддержать утверждение, что Бог реально может возникнуть в грядущем. Тем самым будут разомкнуты атеистически-религиозные узы между Богом и необходимостью (Бог должен или не должен существовать), чтобы связать его с виртуальным (Бог может существовать).
Так, наш вопрос вырисовывается в более строгом виде: разрешение спектральной дилеммы сводится к выявлению [exposer] смысла божественного несуществования и установлению того, насколько обоснованно примкнуть к этому представлению [La question devient ainsi plus précise: résoudre le dilemme spectral revient à exposer le sens de l’inexistence divine, en même temps qu’à établir la légitimité d’une adhésion (присоединения, адхезия, согласие) à celle-ci].
Тезис «Бог всё ещё не существует» можно разложить на части в оглядке на два возможных значения, которые должно поочерёдно рассмотреть:
1. Что должно значить это «ещё не», чтобы бога можно было мыслить в качестве одной из возможностей? Для прояснения этого вопроса необходимо помыслить значение времени, совместимого с сущностной скорбью: что есть время, если последнее содержит в себе божественное как одну из своих виртуальностей? Что обосновывает наше поверье в то, что оно может произвести такой эффект? [Que signifie le “pas encore” pour qu’un dieu puisse être pensé comme l’une de ses éventualité? Un tel examen revient à penser la signification d’un temps compatible avec le deuil essentiel: qu’est ce que le temps, si celui-ci contient le divin comme l’une de ses virtualités, et qu’est-ce qui peut légitimer notre croyance en l’effectivité de celui-ci?]
2. С каким значением сопряжено означающее «Бог», раз уж теперь он полагается в качестве всё ещё не существующего, возможного и грядущего, а не актуального и необходимого? Прояснение этого требует от нас развернуть такое размышление о божественном (я буду называть его дивинологией), что отмежёвывается от любой теологии, отправляющейся от тезиса о вечном Боге.
Для начала я попытаюсь прояснить значение этого «ещё нет», чтобы затем перейти к разъяснению смысла божественного. Пока что «Бог» будет пониматься в том минимальном значении, которое требуется для тезиса о божественном несуществовании: этот термин сопрягается с идеей о возникновении режима существования, позволяющего мне надеяться на лучшую участь для умерших, нежели их смерть.
5. Le «pas» encore
Для начала избавимся от недопонимания. В представленной перспективе говорение обо всё ещё не существующем Боге ни в коей мере не указывает на Бога, который не существовал бы в полной мере, но уже находился в стадии своей актуализации. Таким образом, мы не имеем в виду существующего бога, не принявшего совершенно явный вид, или бога, интенсивность существования которого возрастала на протяжении истории. Ведь соотнесённость Провидения с актуальным или актуализирующимся Богом не совместима ни с какими представлениями о справедливости и не допустима для атеиста: если Бог, дабы приумножить интенсивность своего бытия, должен махнуть рукой на историю человеческих бедствий, его осуществление синонимично космической жертве в виде наших жизней, которую никак нельзя обосновать, разве что — очередным перверсивным размышлением.
Поэтому высказывание «Бог всё ещё не существует» изначально указывает на тот факт, что Бог просто-напросто никоим образом не существует. Стоит понимать этот тезис ровно так же, как это сделал бы чёрствый атеист (пускай мы и меняем модальность этого высказывания: оно фактично, а не необходимо). Высказывание, касающееся божественного несуществования, по факту может быть парафразировано в следующей манере: Бог не существует в принципе, но нет причин, чтобы это продолжалось всегда.
Попытаемся поближе взглянуть на смысл этого высказывания, опираясь на его темпоральный характер.
Положение о грядущем существовании Бога не может (в перспективе фактуальной онтологии) указывать на необходимое возникновение будущего Бога. Речь идёт о реально возможном, но сущностно контингентном, событии: следовательно, в вечности прописана возможность этого события [donc, éternellement éventuel]. В первом приближении подобное событие соотносится с появлением мира, чьи законы фактически инкорпорировали бы в него возможность повторно воспроизвести когда-то существовашие человеческие тела. Поэтому речь идёт о сущностно неподконтрольном (ни человеку, ни Богу) и невычислимом [improbabilisable] событии, ведь речь идёт о возникновении физических констант, а не фактов, подпадающих под эти константы. Было бы напрасно терять надежду на осуществление этого события под предлогом, что с той же вероятностью вполне могут реализоваться множество прочих возможностей, содержащихся в лоне Сверх-Хаоса, который не способствует претворению наших чаяний в жизнь. Это отчаяние означало бы, чтобы мы поддались пробабилистскому стилю мышления, который не применим в данном случае. Упомянутое событие реально возможно, вечно контингентно, всегда необузданно и абсолютно невычислимо.
Рассчитывать, что Сверх-хаос произведёт это событие, — выражать надежду на возможное, которое, быть может, никогда не случится, но о нём же никогда невозможно с достоверностью утверждать, что оно не случится.
Когда имеется событие, сообразное физическим законам определённого мира [déterminé], можно утверждать, что вплоть до сих пор это событие было потенциально заложено в этот мир. Однако Сверх-хаос может произвести события, которые не сообразуются с потенциальностями отдельного мира и называются виртуальностями. Виртуальности могут рассматриваться как возникающие ex nihilo, поскольку они не вытекают из актуально существующего мира или его физического постоянства, как и из Всего (включающее в себя всё измерение возможного), примером которого может быть божественное Разумение, свертывающее совокупность всего, что может быть. Виртуальности происходят из возможного, принадлежащего к
Поэтому я полагаю, что в становлении может намечаться невычислимый и несводимый [ни к одному из упомянутых Миров] избыток [supplementations], свидетельствующий не о наличии трансцендентности [transcendance], но о Хаосе высшего порядка. В таком случае я предлагаю рассматривать Возобновление спекулятивной мысли [Recommencement spéculatif] как возможный намёк на возникновение четвёртого Мира — мира Справедливости. Этот Мир, пускай он и не выступает онтологически необходимым, оказывается Миром, в котором надежда выступает не просто случайным капризом. Ведь лишь упомянутое Возобновление внесло бы в становление ни к чему не сводимый избыток [irréductibilité] и столь же радикальную новизну, какой была жизнь относительно материи, или мышление — относительно жизни. Если признаётся, что фактичность тождественна абсолюту, в таком случае мыслящие существа [’être pensant] представляют собой предельное сущее, и нет такой новизны, которая могла бы превзойти это, ибо мышление определяется как интеллектуальный доступ к вечному. Никакое сущее, будь это ангел или даже Бог, не может превзойти мыслящее существо, как мышление превзошло жизнь, а жизнь — материю. Если Мир, превосходящий Мир мышления, и может случиться, то таковым будет Мир мыслящих существ, а точнее — его возобновленная версия, подразумевающая такой режим существования, в котором бессмертие станет гарантом всеобщего равенства.
Но всё же обратим внимание на тот факт, что в моём словаре «Предельное» не отождествляется с «Абсолютным». Абсолютное и Вечное не ценны сами по себе, поскольку они отождествляются с извечной фактичностью, иными словами — с нелепой контингентностью всех вещей. Однако Предельное (мыслящее существо, представителем которого, среди его прочих возможных воплощений, выступает человек) представляет собой контингентное сущее, хрупкое и смертное, что по меньшей мере верно для нашего мира. Поэтому Предельное выступает сущим, которое ведает как об абсолютном характере контингентности, так и о своей собственной контингентности, в силу чего его существование приобретает одновременно когнитивное и трагическое измерение, служащее причиной непревзойдённости этого существа. Посему единственный Мир, чья новизна может превзойти Мышление, будет таковым за счёт повторного забрасывания [reprojetter] мыслящего существа в бытие, но на условии наличия у него определённого типа бессмертия: таковым не будет необходимое существование (это онтологически невозможно), но потенциально бесконечное существование [mais une existence susceptible de se prolonger indéfiniment]. Таким образом, здесь подразумевается не необходимая форма бессмертия, при которой смерть останется возможной но, быть может, никогда не случится, потому что тела, начинающие с чистого листа, больше не будут подчинены закону биологического угасания. Тела останутся контингентными (они могут быть уничтожены), но больше не будут столь ненадёжными (вынужденными умирать, подчиняясь биологическим законам их мира). В этаком мире смерть станет тем, что я называю «чистой возможностью» [un pur possible]— возможным, чье осуществление ничего не предрекает. Однако такая возможность [possible] реальна, так как ничего не гарантирует, что четвёртый Мир не будет уничтожен, а вместе с ним — «бессмертные». Такая возможность реальна, но [не] сомнительна [Если «не» всё же действительно там стоит, то на уровне результата Мейясу всё же желает не Мира Справедливости, а коллапса с кишочками].
Наш проект заключается в том, чтобы превратить [идею о] четвёртом Мире в возможное приложение, предназначенное для субъективности нынешних людей (из нашего собственного [тобишь третьего] мира) [Notre projet est alors de faire du quatrième Monde un possible susceptible de supplémenter, en notre propre Monde, la subjectivité des hommes actuels]. Это глубинным образом трансформирует внутреннюю жизнь тех, кто принимает всерьёз нашу гипотезу. Такая возможность [possible], полагаемая в качестве реальной, может уже сейчас спровоцировать определённые субъективные эффекты. Я буду называть её «концентрированной [dense] возможностью» или «Быть-может», чтобы отмежевать её от формальной возможности или «просто» теоретической возможности (которой мы не склонны верить даже тогда, когда нам удаётся непротиворечиво её помыслить). На этом основании, я полагаю, что самой значительной заботой философии (и её конечной ставкой) выступает не бытие, но — быть-может. Ведь Быть-может сопрягает в себе истинную суть всякой онтологии (абсолютность возможного фактуального) и глубокое вдохновение этикой (всеобщая Справедливость).
В конечном счёте важно не терять из виду следующее: если четвёртый Мир может повлиять на насущное существование, это произойдёт лишь при наличии эсхатологического субъекта, побуждаемого всеобщей Справедливостью. На иной манер этот субъект может быть назван «векторным субъектом» — субъектом, намагниченным грядущей эмансипацией. Идея о «божественном несуществовании» внушает субъекту надежду на Справедливость и приводит к развязке спектральной дилеммы: наша ставка заключается в том, чтобы избавить субъекта от тех терзаний, что скрыто гложут его изнутри, и «видимых» последствий этого душевного упадка (произвольной жестокости и разочарования). Этот аспект проблемы имеет основополагающее значение и станет яснее далее.
6. Божественное и нигилизм
Мы пытаемся помыслить Бога, выступающего не действующей причиной [agent] эсхатологии, но её результатом: Бог больше не выступает изначальной и необходимой причиной, но крайним и контингентным следствием. Этот бог не абсолютен (лишь контингентность абсолютна), но пределен (нельзя выйти за его пределы, но его пришествие не выступает необходимым). Такая интерпретация эсхатологии, основанная на Хаосе, будет названа эсхаологией. Как эсхаология (но не эсхатология) в строгом смысле трактует Бога? Именно это и предстоит понять.
Я сказал, что буду исследовать преобразования субъективности, которые будут следствием искреннего сцепления с концентрированной возможностью [possible dense]. Надлежит набросать, по какому именно маршруту должен пройти субъект, чтобы освободиться от того, что создаёт для него препятствия на пути к возможному [le sépare de ce qu’il peut], причиняя ему ощущение горя в связи с одной из двух следующих опций: 1) Непоправимая справедливость мира без Бога или 2) Бог, чья пресловутая Справедливость проявляется исключительно как отсутствие оной.
Намечаемый здесь философско-спекулятивный путь, не выступающий ни религиозным, ни атеистическим, интересен за счёт двух жестов:
a) Для начала надлежит переломить то чувство, которое я буду во вполне строгом смысле называть «отчаянием». Отчаяние — аффект, вытекающий из непреодолимого разрыва между справедливостью и бытием, что приводится в действие как всяким атеизмом, так и всякой трансцендентностью. Наперекор этому аффекту, более или менее явно доминирующему над современностью, мы надеемся выйти за пределы призрачной дилеммы при помощи [апелляции] к той реальной возможности [reel possible], что разрабатывается посредством фактуальной спекуляции, — не «просто теоретической» возможности, вера в которую подразумевает смирение с возможностью смертью. Вера в нее может стать сокровенной и жизненно необходимой надеждой — действенным фактором, влияющим на трансформацию и эмансипацию субъективности. [Contre cet affect qui domine (plus ou moins ouvertement) l’époque contemporaine, l’enjeu est de dépasser le dilemme spectral à l’aide d’un possible réel élaboré par la spéculation factuale, possible ayant vocation non à demeurer un possible mort, “simplement théorique”, mais à devenir une espérance intime et vitale: un facteur de transformation effectif et émancipateur de la subjectivité]
Этот первый шаг к эмансипации субъекта по-своему разрешает нравственную апорию, учреждаемую постулатами кантовского практического разума, цель которых — логически обосновать подчинение субъекта измерению практического всеобщего вопреки феноменальной дизъюнкции между нравственным законом и происходящим в мире [donné mondain] (в последнем повсюду царит несправедливость, тогда как мир безразличен к нравственным ценностям индивидов). Однако наш демарш носит спекулятивный, а не трансцендентальный характер: мы намерены показать, что нравственная апория человека разрешается посредством снятия (но вовсе не наложения) ограничений с разума. Спекулятивный демарш избегает главного тупика кантовской мысли, пытающегося примирить идею о всеобщей морали с извечным существованием Бога (невозможность этого примирения была выявлена в вышеприведённой речи атеиста).
Это преодоление отчаяния нацелено на освобождение деятельного потенциала субъекта, а вовсе не на культивацию его фантазий. Избавляясь от засевшей в нём идеи о непоправимой абсурдности мира, активист-универсалист может сконцентрироваться на своей неотложной задаче, стараясь добиться высшей цели, которая ведёт его деятельность, но не на манер недостижимого идеала, но реальной возможности, пускай её осуществление и нельзя контролировать [quoique immaitrisable]. Не стоит переживать о своеобразном «фатализме», который сопровождает описание четвёртого Мира: всеобщей Справедливости не нужно пассивно дожидаться под предлогом о том, что оно не зависит от наших деяний. Дело в том, что эта Справедливость вполне может никогда и не состояться (это возможно, но не необходимо), и это налагает настоятельную необходимость [impose donc], чтобы мы действовали уже сейчас, стараясь приблизить момент его осуществления и форсированно проживая его [en faire vivre l’existence], чтобы быть достойными того гипотетического состояния, чья реализация выходит за пределы наших возможностей, но придаёт смысл нашим намерениям.
b) Второй шаг к эмансипации субъекта не менее важен, и в этот раз речь пойдет об эмансипации того, что я мог бы обозначить термином «нигилизм». Я буду называть «отчаявшимся» субъекта, который считает невозможным всеобщая справедливость для живых и мёртвых. Тогда как термином «нигилист» будет обозначен тот, кто, полагая эту справедливость мыслимой и реально возможной, всё же считает это будущее возникновение [мира Справедливости] не-желательным и даже устрашающем событием.
В действительности сама сердцевина нашего эсхаологического демарша состоит вовсе не в преодолении отчаяния, но нигилизма. В моём вокабуляре этот термин не коннотирует те или иные значения, что до сих пор сопровождали его, поскольку нигилист, как я его понимаю, выступает порождением концентрированной возможности ранее упомянутого и спекулятивно мыслимого Возобновления. Таким образом, речь о новой фигуре, новом субъективном типаже, который не существовал вплоть до настоящего и был произведён представленной здесь концепцией гипотетического Возобновления. Как мы увидим, эта фигура представляет интерес, поскольку выявляет напряжение, которое имело место между отдельными мыслительными решениями, существовавшими в прошлом. Моя идея состоит в том, чтобы показать, что спекулятивная философия не только способна, как это было у Гегеля, концептуально уловить оставшиеся в прошлом формы воплощения духа [configuration spirituelles passées], чтобы продемонстрировать их противоречивость и диалектически выйти за их пределы [depasser] к следующей искупляющей их рекапитуляции*. Но, помимо озвученного выше, спекулятивная философия в её фактуальной ипостаси способна самостоятельно порождать такие катастрофические структуры существования [configurations d’existence catastrophiques], которые вовсе могли не появится за неимением этой философии [фактуальной онтологии Мейясу]. Она же ответственна за их преодоление, чтобы достичь предполагаемой мудрости.
Фактуальная этика должна преодолеть сопровождающие её нравственные катастрофы, тогда как теоретическая спекуляция должна преодолеть присущую ей очевидную теоретическую неполноту, чтобы было образовано единство мышления и жизни, дабы спекулятивная философия обрела полную связность [coherence ultime].
Чтобы объяснить пункт «2)», я сделаю небольшое отступление, обратившись к Ницше. Если первая фаза спекулятивной субъективации (см. пункт 1) может мыслиться через наследственную полемику с практической философией Канта, то её вторую фазу дОлжно сопоставить с ницшеанской идеей Вечного Возвращения. Попробуем понять почему.
7. Непревзойдённая жестокость вечного возвращения.
Я интересуюсь такой трактовкой Вечного Возвращения, которой повсеместно пренебрегают современные философы и комментаторы. Кажется, Вечное Возвращение выступает своеобразным вызовом для читателей Ницше, преждевременно убежденных в антиметафизичности этого мыслителя и его постмодернистских настроениях. На первый взгляд, Вечное Возвращение — это классический метафизический тезис, относящийся к природе вкупе с тем, что её образует (непрерывное становление воли к власти). Этот тезис можно относительно грубо резюмировать в следующих терминах: все, включая тебя самого, извечно возвращается в одной и той же форме. Ощущение, что все читающие Ницше сегодня сразу же предъявляют к себе требование не интерпретировать Вечное Возвращение в столь грубой и наивной форме. Но даже когда тезис Ницше выступает основой для философии становления (случай Делёза), а не постмодернистской критики истины в любых её проявлениях, мы все равно торопливо трактуем его как возвращение становления (таковы последствия примата различного), а не Возврат того же самого.
Я не склонен доверять этим надуманным реинтерпретациям Вечного Возвращения, потому что наиболее интересной представляется именно та из их, что придает ВВ наиболее непосредственный и примитивный смысл, состоящий в следующем: любые вещи извечно[éternellement] возвращаются, что относится и к тебе. Мы сознательно утверждаем, что своими высказываниями Ницше расставляет ловушку, которая состоит в том, что их нельзя трактовать однозначно: однако подвох Вечного Возвращения в том, что оно не подчиняется этой логике, тогда как этим термином высказывается ровно то, что заявлено, и ВВ собьёт с пути всякого, кто попытается играть в проницательность. ВВ вводит этих людей в заблуждение и, в то же время, подвергает испытанию: с точки зрения Ницше именно неспособность выдержать устрашающую правду провоцирует наиболее «слабых» читателей на более изощрённое прочтение ВВ. Первое испытание, налагаемое на читателя этим Возвратом, состоит в выяснении того, способен ли он, не переиначивая сказанное, противостоять ему, а не обходить последнее стороной.
Почему приведённая интерпретация ВВ в принципе интересна? На это есть по меньшей мере две причины:
1) Ницше чётко осознавал, что мы не можем трансформировать тело и изобрести новую субъективность, не взяв на вооружение определённую спекулятивную теорему касательно развернувшегося перед нами мира [Nietzsche a clairement conscience qu’on ne peut transformer un corps, inventer une subjectivité nouvelle, sans une proposition sur le monde déployée sous une forme résolument spéculative]. Чтобы безбоязненно встретить испытание, уготованное сверхчеловеку, необходимо по-настоящему поверить, что происходит вечное возвращение [on revient éternellement], и в этом состоит сокровенная истина становления. При всяком щадящем прочтении Вечного Возвращения, которое не обходится без впадения в разнообразные парадоксы, испытание этим радикальным тезисом трансформируется в банальный объект исследования, одну из многочисленных тем, предназначенных для герменевтов и гипертекстуалистов. Однако если мы принимаем ВВ, как оно есть (в роли инструмента селекции, который усиливает активные тела и уничтожает реактивные), надлежит примириться с онтологической и даже суровой реалистской жестокостью этого высказывания — принять реальную возможность непрекращающегося возвращения тел. Я смогу преобразовать себя, если уверую, что извечно буду возвращаться, проживая одну и ту же жизнь. Согласно Ницше, большую часть времени я чахну [meurs] (и эта мысль оказывается невыносимой для большинства, обреченного на реактивную злобу в отношении жизни), но периодически, и это случается очень редко, я активно интенсифицирую моё существование, потому что я до бесконечности примиряюсь с тем, что я представляю собой. Если же, напротив, я полагаю, что дела обстоят не столь просто, я начинаю писать и говорить про ВВ множество умных вещей, оставаясь никак не аффектированным им.
2) Я интересуюсь заурядной[commune] трактовкой этого высказывания, поскольку это затрагивает концепт имманентности.
Я думаю, что, обратившись к Вечному Возвращению, Ницше приоткрыл для нас один из потрясающих парадоксов имманентности, который с подобной остротой мог уловить только он сам. Можно резюмировать этот парадокс следующим образом: имманентность не от мира сего [immanence n’est pas de ce monde]. Этот тезис, к которому я пришёл при чтении Ницше, можно противопоставить разнообразным современным концепциям имманентности, что в частности относится к идеям Делёза, которому мы бы хотели ответить следующее: «мы по-настоящему желаем имманентности, но последняя, увы, не от мира сего, и Ницше хорошо это понял».
Объясним озвученное. Прибегая к Вечному Возвращению, Ницше уловил, что оно носит характер жестокого испытания, которое позволит выжить лишь тому, кто отринет всякую трансцендентность. Тем не менее, в чём состоит это испытание? Речь идёт о принятии нашего бытия-конечными, нашей ближайшей и неминуемой смерти: принятии того факта, что наше непосредственное (феноменальное) существование протекает между жизнью и всё ещё неведомой, но предопределённой, смертью? Вовсе нет. Испытание Вечным Возвращением состоит в смирении с таким существованием, где смерть не знаменует конечную точку маршрута, но только этап становления, аннулируемый перспективой более позднего возрождения. Можно утверждать, что Ницше точно так же предписывает нам извечное смирение с повторением [recommencement] смерти, но это своеобразная игра слов: смерть в Вечном возвращении непрерывно аннулируется возвратом к жизни, и, строго говоря, в этом и заключается навязанное нам ужасающее испытание.
Иными словами, испытание Вечным Возвращением — это не испытание смертью, но бессмертием, а точнее — жизнью без
Из этого можно заключить, что истинный опыт имманентности нельзя осуществить непосредственно в нашем мире: мир, открывающийся нашему взору, всего лишь реален, а не имманентен. По факту этот мир предлагает нам не своё Всецело-Иное (это было бы противоречиво), но возможность своего Всецело-Иного: наша жизнь необходимо завершится смертью, которая даёт надежду на будущее избавление от нашей текущей формы существования. Что же касается опыта имманентности, он, напротив, требует мыслить становление, в котором жизнь замыкается на себе самой [ne s“ouvre plus qu”à elle-même] и не внушает надежд на иной мир, который несоизмерим с ней. Чтобы прийти к истинной имманентности, надлежит помыслить мир, не сводящийся к нашему обременённому биологической смертью феноменальному миру. Имманентность — это не реальное + смертность, но ставшая невозможной трансцендентность минус конечность.
И как только мы ментально (ментально, ибо у нас не может быть непосредственного опыта имманентности) спроецируем имманентность на наш мир, нам тотчас приоткроется [serons au fait de] природа нашего желания и нашей воли: хотим ли мы вечной жизни? или же мы желаем таковой только при условии, что её будет окаймлять смерть в качестве обещания, что, так или иначе, всё это в определённый момент закончится ? Убеждение Ницше состоит в том, что не так много людей желают жизни без последующей перспективы её окончания [très rare sont les hommes capables de désirer cette vie sans désirer la fin de cette vie]. Неверно думать, будто больше всего мы боимся именно смерти, ибо в большей мере мы страшимся того, что наша обречённость на смерть сменится на вечное возобновление нашей текущей жизни — той бесславной жизни, что разворачивается здесь и сейчас. И только через это испытание воли откроется её истинная суть (любовь или ненависть в отношении к жизни), тогда как тело реализует последствия одной из этих установок (усиление или разрушение).
Философия непреходящей контингентности, вслед за Ницше, также предлагает определённое испытание, когда выдвигает спекулятивную идею о Возобновлении [ранее упомянутый четвёртый Мир], хотя последнее и отличается от Вечного Возвращения. Главное отличие состоит в том, что этот проект полагает реальную возможность Возвращения тел [Recommencement du corps], которая не замыкается в извечном цикле [возвращения] Того же, но основана на неопределённой линейности [linéarité indéfinie]: мы говорим о жизни, единожды отданной во власть новизны её возобновляемого движения, а не о жизни, вновь и вновь тождественной себе вплоть до малейших деталей. Однако мы увидим, что две упомянутых идеи (Возобновление и Вечное Возвращение) пересекаются в плане их функции: прочувствовать [faire l’epreuve] наше фундаментальное отношение к существованию. Как было сказано, жить, опираясь на идею Вечного Возвращения, означает познать активный или реактивный характер нашей воли. Вечное Возвращение служит ситом для каждой отдельной воли, драматически отделяя её от прочих. Таким образом, его функция селективна. И как раз на это нацелена спекулятивная идея о Возобновлении, хотя мы не столько верим в единую природу воли, сколько во множество ориентиров, перемешанных в этой воле, и последние надлежит различить. Речь идёт о трансформации наличного существования, которая опирается не на «необходимую “истину”» (ницшеанское Возвращение), а на абсолютную гипотезу о Четвёртом Мире.
Чтобы лучше разобраться в этом, вернёмся к нигилизму: этим термином выражается разочарованность во всеобщей справедливости со стороны того, кто преуспел в интенсификации возможности этого события. Попробуем понять, что стоит на кону. Если мы расскажем недоверчивому и плохо осведомленному о смысле справедливости позитивисту (эдакому Господину Оме), что его возрождение с перспективной бесконечной жизни и отсутствием повторения Одного и Того Же возможны, он точно засмеётся, однако он засмеётся ещё сильнее, когда мы заявим ему, что это ставит перед нами ужасное испытание, которое надлежит преодолеть. Спроси мы у безразличного к справедливости индивида, что он думает о появлении четвёртого Мира и Возвращении людей к жизни [Recommencement des coprs] — разумеется, это спровоцирует у него усмешку, но он не будет напуган. Собеседник будет склонен видеть в этом наивне мечты. На фоне с этим ему покажется совершенно абстрактной и отбитой идея ужасаться подобной перспективе. Он сможет понять, в чём состоит ужас Вечного Возвращения (вечное переживание заурядных проблем и драмы существования), тогда как идея о новой жизни, которая не обременена самыми страшными тяготами (смерть и смертельные заболевания), покажется ему сказкой.
Такая реакция обусловлена тем, что испытание, которому нас подвергает идея Возобновления, имеет смысл лишь для того, кто может водрузить на себя ответственность за реализацию предельной формы Справедливости и всеобщего Равенства. Такая ответственность подразумевает, что скорбь по умершим ужасной смертью образует опыт, до такой степени помеченный отчаянием, что это мешает жить. Зубоскальство атеиста в адрес чужих надежд на Возобновление характеризует поведение человека, который никогда не переживал призрачную дилемму или стеснён своим поверьем в необходимость законов природы. Существование такого поведения не имеет для нас никакого значения [Elle est donc sans conséquence pour nos préoccupations].
Если же субъект, напротив, смог справиться со спектральной дилеммой и освободиться от неё, то лишь он способен уловить освободительный потенциал [puissance] фактуальной онтологии и идеи обо всё еще несуществующем Боге. Этот субъект преобразует свои нежизнеспособность и недееспособность в эсхаологическую векторизацию или намагничивание. Он будет захвачен пылом своего освободительного намерения (стоящего особняком как от цинизма, так и от фанатизма): он погрузится [connaitre] в неистовую и воодушевляющую веру в подлинную рациональность, в разум, освобожденный от принципа основания. Этому же субъекту адресовано и второе испытание, и это не испытание отчаянием, но нигилизмом. Больше не нужно мириться с отсутствием связи между бытием и справедливостью (ведь мы установили, что между ними присутствует сцепка), ибо теперь надлежит справиться с разочарованностью в идее всеобщей Справедливости. И исключительно для такого субъекта нигилизм становится настоящей опасностью. Почему так происходит, и что это значит?
Опыт фактуального преодоления спектральной дилеммы — а значит и опыт надежды — приводит упомянутого векторного субъекта к высшей степени ликования [jubilation ardente], которое просто не может не стать смыслом существования. Опыт спекулятивной надежды приводит к осознанию того факта, что в нас скрыто грандиозное намерение, которое — в качестве реальной и космической возможности — стоит за нашими наиболее благими деяниями и направляет их смысл. В силу всего озвученного, определяющим нас аффектом становится рвение, и это оно делает из нас наследников любых освободительных и эсхатологических движений прошлого, но на фоне с предшественниками нашему предприятию присуща особая связность.
С этого момента субъект столкнется со вторым противоречием, присущим его желанию [seconde inconsistance de son désir], или второй экзистенциальной апорией. Пускай последнюю и сложно помыслить, она представляет для субъекта еще большую опасность: речь более не идет о противоречивости, что лежит в основе желания невозможного универсализма (противоречивость атеистически-религиозного отчаянного желания), но о противоречивом желании подавить рвение, которое побуждает его к жизни. По-факту, рвение раскрывается в качестве желания подавить рвение, оно являет себя в качестве векторизации на подавление эсха (т)ологического вектора [в тексте Мейясу отсутствует «на». Иначе говоря, в оригинальном тексте слова просто налеплены друг на друга и между ними по факту отсутствует грамматическая связь]. Дело в том, что смысл Возобновления в исполнении Справедливости, которое знаменует завершение борьбы и движения в направлении этой цели. Таким образом, оно знаменует конец эсха (т)ологической жизни, которая распаляет субъекта в момент преодоления спектральной дилеммы. Но что будет представлять собою мир, лишённый эсха (т)ологической направленности, если не миром эгоизма и праздности, в котором щедрый дар жизни вкупе с политической и индивидуальной эмансипацией больше не составляют смысла существования для этой самой жизни? Нахождение ответа на этот вопрос не представляет особой сложности для большинства людей (для них этот вопрос будет праздным), однако это не относится к векторному субъекту, который прошёл испытание призрачной дилеммой и преодолел её посредством спекулятивной надежды. Это испытание предначертано эсха (т)ологическому субъекту: на нем лежит бремя распорядиться своей судьбой в тот момент, когда он осмыслит своё существование, прибегая к мышлению, лежащему за пределами заурядного эгоизма. Суть этого финального испытания можно выразить следующим вопросом: как поверить, что Справедливость для призраков возможна, если они переродятся в Мире, где аннулируется самый благородный и прекрасный из смыслов нашего существования? В нашем актуальном Мире такой смысл сопряжён с движением в направлении грядущей эмансипации. Если страшная смерть может быть компенсирована только Возрождением в тусклом Мире, в котором жизнь лишена высшей цели и ориентирована лишь на извечное самосохранение, то в таком случае четвёртый Мир будет «раем» лишь для заурядных душ, но будет Адом для субъектов, охваченных рвением к борьбе. Иными словами, в подобном Мире векторный субъект не сможет найти основания, в силу которого умершие страшной смертью были бы достойны вновь ходить среди людей [Autant dire que le sujet vectoriel ne trouvera plus dans un tel Monde un lieu en lequel les vies atrocement interrompues trouveront les moyens d’un digne retour parmi les hommes]. Поэтому желать Возобновления означает желать противоположного тому, что мы желаем (Ад для призраков, но вовсе не их «спасение»), и противостоять искушению нигилизмом, что равноценно ненависти к свершению всеобщей Справедливости. Поэтому преодоление нигилизма ознаменовано обузданием свирепого желания [desir] посвятить свою жизнь опасной, а иногда смертельной, борьбе за Справедливость. В его крайних проявлениях это желание может обернуться ненавистью к идее об окончательном торжестве Справедливости.
Так мы достигаем «инвертированной» установки в отношении желания «бессмертия» (если оно взято в его привычных координатах): теперь необходимо преодолеть не эгоистичное и инфантильное желание быть бессмертным, храбро принимая на себя нашу смертность и конечность, но пылкое желание ввязаться в смертельную битву [борьбу на смерть], в битву, окаймляемую этой смертью. Битву, участники которой отдают всех себя до последней капли в политической борьбе за справедливое и истинное. В таком случае, мы обнаруживаем, что конечность и
В моём понимании эта кризисная ситуация может быть разрешена только следующим образом: когда Справедливость свершится, сложится ситуация, которая была обещана ещё Марксом. Возможно, что это самое экстраординарное из его обещаний, пускай сегодня к нему и относятся с пренебрежением даже самые изобретательные его наследники: речь идёт о жизни при коммунизме, подразумевающей отсутствие политики. Иначе говоря, не будет баланса сил, коварства, войны, кровавых жертв во имя всеобщего блага, однако такая жизнь — и это тоже правда — будет лишена вытекающего из всего этого невероятного энтузиазма, что присущ отважным душам. Ставкой предельной трансформации эсхаологического субъекта оказывается возможность полюбить жизнь без войны, насилия и жертв (и это должно случиться в мире войны, насилия и жертв).
Лишь эсхаологическому субъекту будет понятна нигилистская установка и грядущая скорбь по политике, а точнее смысл политики, которая направлена на упразднение самого измерения политического. В этой логике коммунизм станет обещанием жизни без политики и подвергнет нас испытанию оной (жизнью без векторизации и эсхатологии), и началом существования, которому будут предречены его собственные аутентичные испытания [ses propres epreuves]. И если на нас и ложится ответственность сделать этот Мир явью [assumer ce dernier monde], то причиной этому служит тот факт, что такой Мир может стать надеждой на возобновление жизни для умерших страшной смертью. Однако поскольку четвёртый мир был определён как мрачный и непригодный для жизни, причиной чему служат его а-политичность и миролюбивость, мы вновь не предрекаем ничего хорошего этим умершим: им предстоит вернуться в мир, где они не смогут найти себе ни места, ни смысла существования. Именно поэтому все люди, и не только пережившие мучительную смерть, должны, мыслью и делом, войти во всемирное [universelle] сообщество четвёртого Мира. В конечном счёте, желание вернуться должно жить в каждом: в этот раз желание бессмертия, чей общий характер (в качестве антропологического факта) мы изначально опровергли, оказывается обоснованным как всеобщее в силу его пост-нигилистической структуры.
Чтобы лучше понять смысл этого тезиса, надлежит разграничить три режима человеческих невзгод или несчастья: нужда, тревога и страдание [misère, inquiétude, souffrance]. Я называю «нуждой» квазиживотные невзгоды человека (мы говорим о «квази», ибо в человеке гуманизируется даже самое биологичное): голод, болезни, насильственная смерть — всё непосредственно и радикально затрагивающее тело. «Тревогой» будут называться невзгоды, уготованные людям, не обременённым материальными сложностями, или свободным от них в достаточной мере, чтобы переживать муки любви, дружбы или творчества [création]. В конечном счёте «страдание» будет относится ко вполне определенным невзгодам современного человека, который непрерывно циркулирует между «нуждой» и «тревогой», в то же время умудряясь противостоять неравенству. Неравенству между теми, кто имеет средства сражаться против нужды (привилегированный класс), и теми, кто непрерывно подвергается этой нужде (эксплуатируемые и неимущие). Таким образом, всем представителям последней категории открыт доступ к фундаментальному страданию — состоянию, выступающему сознанием этого неравенства и унижения. Именно работа такого страдания выталкивает нас за пределы тревоги, погружая нас в невзгоды от нужды. Таким образом, унижение не относится ни к тревоге, ни к нужде, но оказывается результатом их сочленения в Мире, где присутствуют оба этих состояния: унижение выступает болезненным сознанием, переживающим свою погруженность в условия, неприемлемые для мыслящих существ.
В моём понимании задача эмансипаторной политики состоит в борьбе против любых форм нужды и унижения. С другой стороны, такая политика не нацелена на достижения счастья, ибо её целью скорее выступает всеобщая тревога. Дело в том, что жизнь, освобождённая от нужды, не будет с необходимостью счастливой, ибо в ней должна быть присущая ей доля негативности, называем ли мы это самообманом, влечением к смерти, посредственностью, пытками и т.д. Принятие такой свободной жизни, которой уготована любовь, дружба и мышление, также означает принятие возможных любовных измен, малодушного и гнусного отношения к другим людям, творческих кризисов. Четвёртый мир выступает ничем иным как утверждением реальной возможности для эмансипации подобного типа, но последняя выливается в бесконечную жизнь и может быть сопряжена с состоянием крайней тревоги. Такая жизнь знаменует возможность бесконечно оставаться посредственным, и смерть станет спасением [échappatoire] от этого только будучи добровольной: если же смерть окажется чем-то желанным (в том числе и в Четвёртом мире), то таковым окажется здравый [lucide] суицид, выступающий результатом нежелания до бесконечности переживать сущностную тревогу. Мы должны питать надежду, что всякий человек будет снабжён необходимыми материальными условиями, чтобы столкнуться с предельным испытанием такой жизнью, которой уготованы самые интересные и в то же время тревожащие возможности. Сталкиваясь с альтернативой между творческой [infentif] жизнью и безвозвратным суицидом, [субъекту надлежит] противостоять тревоге в её финальной форме. Такова спекулятивная версия божьего суда Вечным Возвращением.
Тем не менее, я могу практиковать опыт такой жизни уже сейчас, тщательно изучая [creuser] природу моего желания и научаясь соответствующе реагировать на него. Это испытание становится делом, изначально пролегающим между Я и Я, — исследованием самой сути моей воли: чего я на самом деле желаю? Справедливости или борьбы за справедливость? Это испытание оказывает влияние на сущность [nature] моих деяний, ибо оно оберегает меня от впадения в реактивную освободительную борьбу. Такое «духовное упражнение» кажется нам необходимым для любого активиста, вовлеченного в такую борьбу. Однако в ходе борьбы за справедливость две разновидности активистов [реактивные/не-реактивные] практически невозможно различить, и отсутствие подобного различения — один из источников (разумеется, не единственный) сопутствующих исторических катастроф. Речь о делении на активистов, которые сражаются из любви к борьбе, и тех, кто сражается за справедливость, не испытывая симпатии к самому процессу борьбы со всей вытекающей из нее жестокостью. Некоторые активисты ощущают, что их существование скроено из жертвенности, но по факту эти люди ничем не жертвуют, но оказываются нигилистами, которые любят войну, коварство и насилие, присущие политической борьбе. Другие же не питают к такого рода деятельности симпатий, но не бегут от неё, когда она необходима.
Таким образом, в одной и той же борьбе перемешиваются активисты, которые, не задаваясь вопросом [о своём окружении], очень по разному связаны с политикой: первые любят политику, потому что это среда для борьбы, а они любят борьбу. Другие же, и я взвешиваю каждое слово, не питают к политике симпатий: они предпочитают тратить своё время на иные вещи, но вовлекаются в политику, поскольку этого требует настаивающее на себе неравенство [qu’elle est nécessaire pour répondre à l’urgence inégalitaire de la situation]. Разумеется, я описываю скорее архетипы и типажи, нежели реальных индивидов: наша воля практически никогда не может быть сведена к одному из упомянутых типажей, но носит смешанный характер. Я предлагаю создать зазор между двумя упомянутыми типами воления, чтобы суметь не впасть в зависимость от наслаждения постоянной войной, контролем ситуации на фронте и попытками сохранить свои преимущества за счет перевода войны в перманентное состояние. Иными словами, не превратиться в бюрократа, обожающего свою документацию, любящего своё дело секретаря администрации, получающим удовольствие от разносов начальником или агентом разведки. Но это относится и к тому, чтобы не стать активистом, любящим борьбу лишь за сопутствующую ей негативную выгоду в виде социального противостояния и заботящимся о том, чтобы оно не прекращалась. Таким образом, борьба дарует сакральное право на ненависть и уничтожение своего [политического] оппонента.
Существует такое отношение к политике, которое должно быть очевидно для всякого активиста, сопровождая и определяя его самые конкретные действия. Эмансипаторная политика — это политика, нацеленная на свое упразднение посредством осуществления её цели, ибо это последнее делает насилие и коварство, сопровождающие её, бесполезными. Тем временем следует проявить внимание к следующему: опасно полагать, что политика сама же поспособствует своему упразднению, что конец политики сможет быть некой политикой. Очевидно, что последнее ложно: мир без политики лежит за пределами любой нашей деятельности, ибо он не принадлежит нашему Миру. Отрицать это, утверждая (как это было в Советском Союзе), что политика исчезнет, поскольку она самостоятельно испарится [auto-dissoute] при завершённой форме Социализма, по сути означает тоталитарную политику, запрещающую всякую оппозиционную политику.
В силу вышесказанного надлежит озвучить о политике две вещи: упразднение политики — это конечная цель эмансипаторной политики, ибо она нацелена на справедливость, а не на саму себя. Однако эта конечная цель (лежащее по ту сторону политики) не может стать результатом отдельной политики, разве что мы имеем дело с тоталитарным фантазмом. Конец политики будет следствием внезапно возникшего онтологического явления, независимого от наших деяний. Гипотеза об этом событии способствует стремлению уже сейчас сформировать субъективность векторного активиста. Конец политики — это её конечная цель, однако сам он не выступает оной [политикой].
Суммарно всё озвученное сводится к тому, что активист должен любить жизнь и осознавать, что жизнь не исчерпывается политикой: она довлеет к иным областям, нежели политика. Место оной могут занять любовь, дружба, искусство или мышление. Помимо этого, активист осознает, что субъект не достоин этого имени, если его не притягивает идея о всеобщем равенстве, которое, применительно к реалиям нашего Мира, может осуществится лишь в форме политики. Он стремится векторизоваться, ибо отныне ему известно, что всеобщая справедливость реально возможна, и он считает себя готовым к жизни без векторизации, если Возобновление случится. Готовым к жизни, а не к войне. Таким образом: активист питает надежду, что в грядущем призраки смогут жить такой жизнью, какую и заслуживает человечество, — жизнью, чьими сущностными составляющими не являются насилие и эсха (т)ология. Для желания активиста возможно стремление к предельной связности и наделению смыслом существования, которому предрешено исполнить наше предназначение [accomplir notre condition].
Смычка между двумя упомянутыми типами опыта (отчаянием и нигилизмом) позволяет дать строгую дефиницию имманентности: имманентность — это разочаровывающее бессмертие. Однако мы всё еще до конца и не прояснили смысл, приписываемый термину «Бог» в высказывании «Бог всё еще не существует», но стали понимать его сущностный аспект. По-факту «обожествление» человека может трактоваться в качестве траектории, которая уже в этом мире позволяет векторному субъекту преодолеть как испытание призрачной дилеммой, так и нигилизмом: он превращает себя в «канат» [pont] между третьим и четвертым Мирами. Обожествиться означает превратиться в демона: в μεταξύ, посредника или живой мостик между мышлением этого Мира и Справедливостью запредельного Мира [monde ultime]. Обожествление подразумевает превращение в человеческое существо [un humain], не просто размещающееся «здесь» (Мир 3) или уже «там» (Мир 4), но находящееся в промежутке между этими мирами, для которого [промежутка] имеется прекрасное обозначение в английском языке: «yonder». Превратить самого себя и всех людей мира [peuple universel] в народ и людей промежуточного мира [yonder] — вот грядущая задача эсхаологического становления.
Перевод — Архипов Никита
Перевод сделан в рамках проекта La Pensée Française
Мы в телеге — https://t.me/jesuistropchaud
