Воображаемый Запад: из книги Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось»
Книга «Это было навсегда, пока не кончилось» Алексея Юрчака — это попытка разобраться, как в действительности, на уровне повседневности, работала система социализма в последние десятилетия своего существования. Почему советская реальность, как бы к ней ни относиться, до середины 80-х годов казалась такой мощной и незыблемой, а всего через несколько лет так быстро обрушилась? Почему большинство граждан этого обвала не ожидало, но когда он произошел, оказалось парадоксальным образом к нему готово и быстро стало воспринимать его как очевидную неизбежность? Как вообще должна быть устроена социальная, политическая, культурная система, чтобы долго функционировать, как вечная и неизменная, но при определенных условиях вдруг оказаться хрупкой и уязвимой? Публикуем главу из книги «Это было навсегда, пока не кончилось» профессора Калифорнийского университета в Беркли Алексея Юрчака.
Поздний социализм. Советский субъект и неожиданность обвала системы

Воображаемый Запад. Пространства вненаходимости позднего социализма
Меня часто спрашивают: что символизирует Зона? На это возможен лишь один ответ: Зоны не существует. Ее придумал сам Сталкер. Он выдумал Зону, чтобы иметь возможность приводить сюда тех, кто несчастлив, и вселять в них уверенность в осуществлении надежд. Комната, в которой исполняются желания, — это тоже его выдумка, это еще один вызов материальному миру. Сформировавшись в голове Сталкера, этот вызов становится актом веры.
Андрей Тарковский [1]
Заграница
В 1970-х годах в Советском Союзе бытовал анекдот. Два человека беседуют друг с другом:
— Опять хочу в Париж.
— А ты что, там уже был?!
— Да нет, я уже хотел.
Анекдот строился на парадоксе, который был заключен в уникальном советском понятии заграница. «Заграница» не является точным синонимом понятия «за границей» (в котором акцент делается на конкретной границе страны и на территории, находящейся за ней) или понятия «иностранные государства» (в котором акцент делается на других, реально существующих странах). Заграница обозначает не границу и не реальную территорию, а воображаемое пространство — одновременно реальное и абстрактное, знакомое и недосягаемое, обыденное и экзотическое, находящееся и здесь, и там.
В этом парадоксальном понятии отразилось необычное сочетание интернациональности и изолированности советской культуры по отношению к остальному миру. С одной стороны, советские люди осознавали, что коммунистическая идея, представителями которой они воспринимаются большей частью внешнего мира, в основе своей является идеей интернационалистической, подразумевающей принадлежность ко всему человечеству. Этот внутренний интернационализм советской культуры отражался в том факте, что советский человек был, по выражению Виктора Кривулина, «существом глубоко историческим», не просто живущим в своей стране, но участвующим в «международном историческом процессе и переживающим события во всем мире на экзистенциальном уровне, как часть своей собственной личной жизни» [2]. Свойственный советскому самосознанию интернационализм, определенная открытость миру советской культуры подтверждались также вполне реальной многокультурностью понятия «советский» [3]. С другой стороны, советские люди также прекрасно осознавали, что столкнуться напрямую с людьми, живущими за пределами советской государственной границы (особенно за пределами нескольких социалистических стран Восточной Европы), у них не было практически никакой возможности.
Именно посредством смешения этих двух противоречивых отношений к внешнему миру — открытости и закрытости, интернациональному соучастию и невозможности испытать — и формировалось пространство заграницы. Это воображаемое пространство не было связано напрямую с реальным зарубежным миром; оно располагалось в неопределенном месте — как тогда говорили, «там», «у них». И хотя это воображаемое пространство часто упоминалось в разговорах, где именно оно находилось — было не так важно.
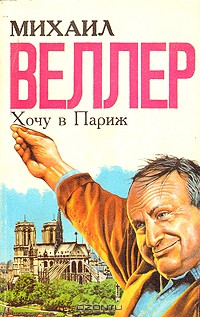
Ощущение одновременной реальности и нереальности заграницы было крайне важно и всячески обыгрывалось. В середине 1980-х клоуны театра «Лицедеи» вызывали невероятный хохот у зрителей своими рассказами о том, что в действительности никакой заграницы нет, что «иностранные туристы» на советских улицах — это переодетые актеры, а все «зарубежное кино» снимается на какой-то казахской киностудии [4]. В рассказе Михаила Веллера «Хочу в Париж» главный герой из небольшого уральского городка в течение многих лет лелеет нереальную мечту — хотя бы разок в жизни увидеть «настоящий Париж». После множества безуспешных попыток получить разрешение на поездку за рубеж он наконец, уже приближаясь к пенсионному возрасту, попадает в группу заводских рабочих, которых отправляют в турпоездку по Франции. Однако после нескольких счастливых дней, проведенных во французской столице, у него зарождается страшное подозрение:
Эйфелева башня никак не тянула на триста метров. Она была, пожалуй, не выше телевышки в их городке — метров сто сорок от силы. И на основании стальной ее лапы Кореньков увидел клеймо запорожского сталепрокатного завода. Он побрел прочь, прочь, прочь!…И остановился, уткнувшись в преграду, уходившую вдаль налево и направо, насколько хватало глаз. Это был гигантский театральный задник, натянутый на каркас крашеный холст. Дома и улочки были изображены на холсте, черепичные крыши, кроны каштанов. Он аккуратно открыл до отказа регулятор зажигалки и повел вдоль лживого пейзажа бесконечную волну плавно взлетающего белого пламени. Не было никакого Парижа на свете. Не было никогда и нет [5].
Подобные рассказы и шутки, которых в позднесоветское время было великое множество, изображали заграницу как пространство вне реальности. Архетипом заграницы был «Запад», который тоже являлся феноменом местного советского производства и мог существовать лишь до тех пор, пока реальный западный мир оставался для большинства советских людей недостижимым. «Запад» был особым воображаемым пространством, которое мы будем называть воображаемым Западом [6].
В двух предыдущих главах были проанализированы различные социальные среды и публики позднего социализма, которые существовали в отношениях вненаходимости к смысловым, временным и пространственным координатам советской системы. В настоящей главе мы продолжим этот анализ рассмотрением воображаемого Запада — пространства, занимавшего в тот период одно из центральных мест среди повседневных зон вненаходимости. Как и прежде, необходимо отметить, что это воображаемое пространство не следует сводить к пространству оппозиции Советскому государству. Большинство «несоветских» эстетических форм, материальных артефактов и языковых образов, которые способствовали формированию воображаемого Запада, появилось в советской жизни не вопреки государству, а во многом благодаря его парадоксальной идеологии и непоследовательной культурной политике.
Пространства вненаходимости
Присутствие в советской повседневности иных миров выразилось в 1960-х годах в колоссальном и быстром росте интереса к фактам, знаниям и видам деятельности, которые создавали ощущение удаленности от повседневного существования. К этим интересам и видам деятельности относились занятия иностранными языками и восточной философией, чтение средневековой поэзии и романов Хемингуэя, увлечение астрономией и научной фантастикой, слушание авангардного джаза и песен про пиратов, увлечение альпинизмом, геологическими экспедициями и туристическими походами. Пространства, которые создавались в результате этих занятий и интересов, находились в отношениях вненаходимости к идеологическому дискурсу системы (мы уже рассмотрели примеры такого отношения в прошлой главе), слагаясь в огромное единое пространство, советский воображаемый мир. Это была, по меткому выражению Вайля и Гениса, «какая-то неведомая и прекрасная Страна Дельфиния», которая могла бы быть «где угодно — в иных галактиках, как в научной фантастике, или в собственной комнате, отгороженной от окружающего мира чем-то личным, своим: обычно, по-российски, книгами» [7].

Появление этих воображаемых миров в советской жизни не прошло мимо советской литературы и кинематографа. В знаменитой научно-фантастической повести братьев Стругацких «Пикник на обочине», написанной в 1972 году (и в не менее известном фильме «Сталкер», снятом в 1979-м по мотивам этой книги Андреем Тарковским), рассказывается о таинственном пространстве под названием Зона. Действие происходит в некой безымянной стране через двадцать лет после того, как на ее территории сделал недолгую остановку инопланетный космический корабль. Пришельцы оставили после себя «мусор», вокруг которого возникла Зона. В Зоне действуют загадочные силы и таится множество опасностей. Любой, кто отважится в нее проникнуть, может погибнуть. Государство вводит запрет на посещение Зоны и выставляет вокруг нее вооруженную охрану. Но по стране ползут упорные слухи, что в центре Зоны существует некая комната, где исполняются заветные желания. Несколько храбрецов, именуемых сталкерами, за определенную плату и с риском для жизни готовы провести людей по Зоне к этой комнате.
Зону из повести Стругацких принято рассматривать как метафору огороженных охраняемых территорий, реально существовавших в Советском Союзе в те годы, — «лагерной зоны», закрытых атомных городов и даже «зоны отчуждения» вокруг Чернобыля (последняя появилась, правда, уже после написания книги). Однако, как нам кажется, Зона Стругацких является изображением не столько конкретных территорий внутри СССР, сколько воображаемого пространства, которое не имело конкретного местоположения и не было отгорожено от «нормальной» советской реальности, а, напротив, являлось ее неотъемлемой частью. Зона была как бы дополнительным измерением всего «нормального» советского пространства. Это воображаемое пространство имело парадоксальный статус — находясь повсюду, оно не проявлялось как некий изолированный объект, поскольку само по себе, в изоляции от советской реальности, существовать не могло. Зона Стругацких была именно таким воображаемым пространством — реальным и необъективированным одновременно. И таким же пространством был воображаемый Запад, существовавший одновременно внутри и за пределами советской системы, в отношениях вненаходимости к ней.
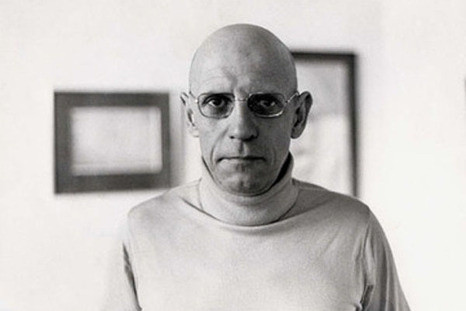
В статье 1967 года «О других пространствах. Гетеротопии» Мишель Фуко размышлял о том, что в процессе формирования и существования «суверенного субъекта» важную роль играют особые пространства, одновременно реальные и нереальные — такие, как пространство зеркала. Зеркало, пишет Фуко,
делает место, которое я занимаю в тот момент, когда я смотрю на свое отражение, одновременно в высшей степени реальным, связанным со всем окружающим пространством, и в высшей степени нереальным — ведь для восприятия этого места требуется пройти через некую виртуальную точку, которая находится там — в зазеркалье [8].
Именно посредством этого особого статуса самовосприятия — одновременно изнутри и со стороны, реального и воображаемого — формируется и постоянно воспроизводится наше суверенное субъектное «я» [9]. Пространство воображаемого Запада для многих советских граждан, особенно представителей молодых поколений, играло роль такого «пространства зеркала». Благодаря его присутствию в советской повседневности то «место», в котором находился советский субъект (то есть то расположение по отношению к окружающему миру, из которого человек осознает свое я), было «одновременно в высшей степени реальным, связанным со всем окружающим пространством, и в высшей степени нереальным», поскольку для восприятия этого места — то есть позднесоветской субъектности — требовалось «пройти через некую виртуальную точку», которая находилась там, у них, в пространстве воображаемого Запада. Именно посредством такого самовосприятия — одновременно изнутри и извне советской системы — формировался советский субъект позднего социализма. И таким же образом формировалась вся суверенная советская система позднего социализма, казавшаяся такой монолитной и неизменной, но при этом претерпевающая постоянные внутренние смещения и детерриториализации по отношению к своему собственному монолитному образу.
Генеалогия воображаемого Запада
Пространство воображаемого Запада не имело ни конкретной границы, ни четкого сформулированного описания. Современники не называли его одним именем, тем более «воображаемым Западом»; это название наше. Тем не менее в результате широкого хождения в Советском Союзе в этот период материальных артефактов, визуальных и звуковых образов, высказываний и языковых форм, имеющих отношение к «Западу» — либо рассказывающих о нем напрямую, либо имеющих «западное» происхождение, либо использующих «западные» символические и эстетические средства (язык, алфавит, визуальную эстетику, музыкальное звучание, материальную текстуру вещей и так далее), — в советской повседневности постепенно возник единый, вполне реальный и всеми узнаваемый объект — воображаемый Запад. Анализ того, как этот воображаемый объект возник, развивался и изменялся в позднесоветский период, позволит нам по-новому взглянуть на многие парадоксы и трансформации позднесоветской системы, знакомые из предыдущих глав, и выявить новые. Для этого проследим генеалогию происхождения воображаемого Запада [10].
Примером генеалогического анализа может служить исследование Мишеля Фуко, посвященное тому, как во время перехода к Новому времени постепенно возникло новое понимание феномена безумия. Если ранее, примерно до XVII века, в Европе феномен безумия рассматривался как проявления дьявольских или иных мистических сил, то начиная с XVII века он стал все больше восприниматься как «психическое заболевание», а обозначение кого-то как «сумасшедшего» стало превращаться в медицинский диагноз. Это современное понимание безумия не возникло в одночасье, никакой конкретный медицинский дискурс его не предложил, и никто конкретно его не сформулировал. Оно сформировалось постепенно и незапланированно из огромного множества разрозненных и меняющихся высказываний, идей, открытий, законов и культурных норм в самых разных областях знания (религии, медицине, законодательстве, гражданском праве, государственном управлении и так далее), которые объединял интерес к определению природы человека [11]. Подобную разнородную среду высказываний, текстов, идей, культурных норм и законодательных актов, не связанных друг с другом напрямую, но имеющих отношение к
В контексте позднего социализма самые разные высказывания по поводу той или иной связи советского человека с неким «международным» контекстом представляли собой особую распределенную дискурсивную формацию, внутри которой постепенно сформировался феномен воображаемого Запада. Эта дискурсивная формация включала в себя противоречивые высказывания, артефакты, продукты культуры, имеющие отношение к самым разным темам — капитализму, интернационализму, космополитизму, международной ситуации, шедеврам мировой культуры, западным спецслужбам, дружбе народов, обществу потребления, «всему прогрессивному человечеству», высокому искусству, «всесторонне развитой личности», буржуазному влиянию и так далее. Огромное число из этих высказываний, текстов, артефактов и символов, которые могут показаться противоречащими друг другу и принадлежащими к разным областям жизни и политическим позициям, на самом деле было объединено общей темой и едиными дискурсивными принципами. Их невозможно понять, не поставив их в контекст единого для них всех парадокса советской культуры (см. выше). Например, одни и те же примеры «культурного влияния» Запада, даже в рамках авторитетного дискурса Советского государства, могли рассматриваться и негативно (как пропаганда буржуазных ценностей), и позитивно (как пример интернационализма трудящихся всего мира), могли распространяться внутри Советского Союза и по «несанкционированным» государством каналам, и посредством самого государства, могли попадать в советскую жизнь из–за рубежа и создаваться внутри самого Советского Союза.
Космополитизм и интернационализм
Советское государство всегда в своей истории различало приемлемые и неприемлемые формы западной культуры и постоянно пыталось провести границу между ними. Однако делалось это крайне непоследовательно и противоречиво, в чем отразились не столько ошибки руководства, сколько объективные противоречия самой природы социализма. Как показано в главе 2, вмешательство Сталина в конце 1940-х годов в сферу политических, научных и эстетических дискуссий вскрыло внутреннее противоречие, существовавшее внутри советского идеологического дискурса. Например, сталинская критика советского языкознания началась с атаки на вульгарную марксистскую теорию языка, которая рассматривала язык лишь как продукт классовой борьбы. В своих критических замечаниях Сталин отметил, что советское языкознание уделяет слишком много внимания классовым законам развития языка, игнорируя при этом «объективные научные» (то есть природные) законы — законы психологии, физиологии, мышления. До сих пор не ясно, как эти законы управляют языком, заметил Сталин. Эта критика была отражением новой точки зрения Сталина, прежде стоявшего на тех позициях, которые он теперь неожиданно начал критиковать. Аналогичной была и сталинская критика других наук, в частности критика биологии Трофима Лысенко. В ней Сталин указал, что необходимо изучать «объективные научные законы» природы, а не переносить на природу марксистско-ленинский классовый анализ. Главным, и явно незапланированным, итогом этого нововведения, как мы помним (из глав 1 и 2), стало расшатывание марксистско-ленинистского «канона» истины — теперь истину было невозможно сформулировать ясным и неизменным идеологическим языком, поскольку теперь она скрывалась в законах природы, которые существовали за пределами идеологии и были пока недостаточно понятны [13].
Ранее (до конца 1940-х — начала 1950-х годов) оценка того, насколько политически верно или неверно то или иное идеологическое высказывание описывает окружающую реальность, проводилась путем его сравнения с независимым каноном истины, который был сформулирован языком марксизма-ленинизма, в свою очередь знание этого канона было исключительной прерогативой Сталина. Теперь, в последние годы жизни Сталина, делать такую оценку стало сложно, а после смерти Сталина и критики его культа личности — невозможно. Произошло разрушение позиции «внешнего редактора» идеологии (глава 2), в результате чего исчез независимый канон истины, а с ним и возможность объективно и однозначно оценивать авторитетные высказывания на предмет их идеологической верности. Более не существовало и не могло существовать субъекта, который бы обладал уникальным объективным знанием «нормы» идеологического языка. Теперь единственный способ гарантировать, что конкретное выступление на авторитетном языке того или иного партийного руководителя не воспринимается другими как отклонение от «нормы», состоял в повторении тех высказываний, которые уже были произнесены на этом языке ранее и уже воспринимались как «верные». Партийные и комсомольские секретари всех уровней начали имитировать уже существующие тексты — газетные передовицы, речи членов политбюро, выступления друг друга, что привело к процессу постепенной гипернормализации советского авторитетного дискурса.
Все это мы описали выше (глава 2) в отношении языка идеологии. Но аналогичная трансформация произошла и в области культурного производства. С исчезновением независимого канона марксистско-ленинской истины здесь тоже стало сложно с уверенностью оценивать культурные и художественные формы на предмет их идеологической верности или ложности. Эта трансформация повлияла, например, на отношение к иностранным влияниям в искусстве и культуре, проявившись в партийно-государственной кампании «против космополитизма», начавшейся в 1948 году. Феномен космополитизма определялся в партийной риторике как продукт буржуазного Запада, который, преследуя свои империалистические цели, стремился подорвать чувства национального патриотизма среди народов мира, ослабляя тем самым их национальный суверенитет [14]. Противоположностью космополитизма был не национализм — столь же опасный враг, — а интернационализм. Согласно этой риторике, космополитизм обеднял национальную культуру и искусство, а интернационализм обогащал их.
Кампания против проявлений космополитизма оказала влияние на все сферы советской культуры и искусства. Выступая на совещании деятелей советской музыки в 1948 году, секретарь ЦК ВКП (б) по идеологическим вопросам Андрей Жданов сравнил примеры интернационализма и космополитизма в советской музыке. Сначала он похвалил музыкальный интернационализм:
Интернационализм в музыке, уважение к творчеству других народов развиваются у нас на основе обогащения и развития национального музыкального искусства, на основе такого его расцвета, когда есть чем поделиться с другими народами, а не на базе обеднения национального искусства, слепого подражания чужим образцам и стирания особенностей национального характера в музыке. Все это не следует забывать, когда говорят об отношениях советской музыки к музыке иностранной [15].
Затем Жданов раскритиковал примеры космополитизма в музыке. Космополитизм загрязняет советскую жизнь буржуазной псевдоэстетикой, заявил он и привел в качестве примера работы композиторов Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Под дурным иностранным влиянием, сказал Жданов, эти композиторы начали сочинять плохую, дисгармоническую и вредную музыку — музыку, которая противоречит «основ[ам] нормального функционирования музыкального звука» и «физиологии нормального человеческого слуха» и, «несомненно, нарушает правильную психофизиологическую деятельность человека» [16]. Ждановская критика музыкальных форм строилась по тому же парадоксальному принципу, что и критика, которой Сталин чуть ранее подверг языкознание и другие науки (см. главу 2). Жданов ссылался на «объективные научные факты» о нормальной физиологии слуха, нормальном функционировании звука, нормальной психофизиологической деятельности и так далее. Но при этом он добавлял (чуть далее в тексте), что «у нас, к сожалению, недостаточно разработана та область [научной] теории, которая говорит о физиологическом влиянии музыки на человеческий организм» [17]. Тот же факт ранее (в своей критике языкознания) признал и Сталин, подчеркнувший, что объективные научные законы о связи языка и сознания остаются пока неизученными.
Общую аргументацию Жданова можно резюмировать так. Иностранные музыкальные влияния способны проявляться как в отрицательном космополитизме, так и в положительном интернационализме. Космополитизм является продуктом «слепого подражания» буржуазной культуре, а интернационализм — продуктом прогрессивного обмена культурными формами с другими народами. Первый национальную культуру обедняет, второй — обогащает. Влияние космополитизма проявляется в неестественной музыке, нарушающей законы человеческой физиологии. Влияние интернационализма, напротив, проявляется в естественном и прогрессивном реализме. Оценка иностранных влияний в музыке (и культуре вообще) на предмет их прогрессивности или неестественности должна производиться на основе объективных научных законов. Однако «та область теории», которая призвана раскрыть эти объективные научные законы, к сожалению, пока недостаточно развита.
Из этой аргументации, как и из критики Сталина в отношении языкознания и других наук, следовал парадоксальный вывод: поскольку объективный научный канон, с которым можно было бы сравнивать форму музыкального произведения, пока, к сожалению, не до конца понятен, трудно с уверенностью сказать, какой именно пример иностранного влияния в музыке является проявлением положительного интернационализма, а какой — отрицательного космополитизма. Хотя сам Жданов такую оценку давал в случае Прокофьева и Шостаковича, его мнение звучало как чисто субъективное (ведь объективные научные законы звука и слуха, как он сам признал, пока неизвестны). Насколько непредсказуемыми подчас были эти оценки, показано в эссе Владимира Тендрякова «Охота», написанном «в стол» (не для публикации) в 1971 году. В нем автор вспоминал атмосферу начала 1950-х:
Космополитизм меня интересовал чисто теоретически. Я ворошил журналы и справочники, пытался разобраться: чем, собственно, отличается интернационализм (что выше всяких похвал!) от космополитизма (что просто преступно!)? Ни журнальные статьи, ни справочники мне вразумительного ответа не давали.
Когда Тендряков спросил у малознакомого человека: «Скажите, чем отличается интернационализм от космополитизма?», тот ответил: «Должно быть, тем же, чем голова от башки» [18].
Эта неоднозначность в оценке иностранного культурного влияния открывала пространство для различных, порой противоположных, интерпретаций одних и тех же музыкальных или культурных форм. В конечном итоге это означало, что большинство культурных форм трудно было объективно отнести только к «социалистическим» или только к «буржуазным». А это, в свою очередь, означало, что для того, чтобы ощущать себя настоящим советским человеком, живущим в соответствии с верными принципами социализма, не обязательно было соглашаться с любой интерпретацией конкретных культурных форм, которые появлялись в советской печати (поскольку такие интерпретации не могли не быть частично субъективными).
В результате этого сдвига постоянное колебание между различными интерпретациями одних и тех же культурных форм и явлений, заимствованных из–за рубежа, стало неотъемлемой чертой позднего социализма [19]. Примеров таких колебаний множество. В сентябре 1961 года генеральный секретарь КПСС Никита Сергеевич Хрущев на выставке в московском парке Сокольники публично высмеял абстрактное искусство Пабло Пикассо за буржуазный антиреализм и идиотизм. Насмешливая критика Пикассо прозвучала во всех советских газетах. Однако менее чем через год, в мае 1962-го, ЦК КПСС отметил Пикассо как великого прогрессивного художника-коммуниста и удостоил его Ленинской премии мира за выдающийся интернационализм его творчества [20]. Другим примером могут служить заявления Советского государства по поводу американского джаза, которые часто менялись на протяжении всего позднего периода советской истории. Иногда джаз терпели или даже называли примером положительного культурного влияния, подчеркивая его происхождение из музыки простого рабочего люда и бесправных рабов Америки [21]. В других случаях джаз осуждался как пример буржуазного псевдоискусства, утратившего связь с реализмом народной культуры [22].
Джаз
Как известно, в результате Второй мировой войны советская жизнь подверглась большому числу зарубежных влияний. Соединенные Штаты во время войны и в первые послевоенные годы воспринимались в основном как союзник, оказывавший помощь советскому народу в рамках программы ленд-лиза [23]. А после открытия второго фронта в 1944 году и встречи советских и американских войск на Эльбе в апреле 1945-го американские фильмы и джаз стали ассоциироваться с общей победой над фашизмом. В освобожденных Кракове и Праге оркестры Красной армии, устраивая концерты для местного населения, исполняли американские джазовые мелодии «Chattanooga Choo-Choo» и «In the Mood» [24]. После окончания войны советские музыканты перенесли эту музыку из военных оркестров в танцевальные залы и рестораны советских городов. В ресторане «Крыша», на верхнем этаже ленинградской гостиницы «Европейская», оркестр Иосифа Вайнштейна исполнял американский свинг, которому музыкантов обучили союзники в конце войны [25].
Несмотря на временную открытость этим влияниям в первые послевоенные годы, они вскоре подверглись критике в ходе кампании против космополитизма. На совещании музыкальных работников в ЦК партии было высказано новое отношение к джазу — дирижер Борис Хайкин заявил, что корни джаза, когда-то восходящие к простому трудовому люду и делавшие джаз прогрессивной музыкой, сегодня утрачены, а на их место пришли «пошлые мотивчики», неспособные более ничего дать «уму и сердцу советского человека» [26].
C одной стороны, безусловно, буквальный смысл подобных заявлений заключался в критике джаза. Однако из них также следовал и другой, не менее важный вывод — джаз как форма (а значит, и другие культурные формы) может рассматриваться по-разному в разных контекстах: в одном контексте джаз является положительным продуктом творчества трудящихся, бывших рабов и всех угнетенных, в другом контексте он является отрицательным продуктом буржуазной культуры. А раз так, то смысл джаза как определенной эстетической формы невозможно определить заранее, не учитывая конкретный контекст, в котором эта форма воспроизводится и циркулирует [27]. Эта идея, хотя и не формулировалась в явной форме, подразумевалась в критических заявлениях на тему иностранного культурного влияния. Помогало ее распространению и то, что смысл высказываний на эту тему отличался в разные периоды и в разных изданиях. В результате джаз и некоторые другие «западные» культурные формы смогли пережить всевозможные критические кампании (хотя и не без потерь или изменений) и продолжали существовать, постоянно адаптируясь к новому контексту. Даже в те годы, когда джаз попадал под особо яростную критику, некоторые оркестры играли джазовые композиции, делая им аранжировки под советский стиль «легкой музыки», изменяя их названия, вставляя их между произведениями советских композиторов. В этой измененной форме джаз продолжал звучать в ресторанах и танцевальных залах, а порой даже на концертах филармонических оркестров [28].
Порой джаз можно было услышать и в исполнении любительских музыкальных коллективов на студенческих вечерах, которые устраивались комитетами комсомола вузов или профессионально-технических училищ в рамках идеологической работы с молодежью. Любительский статус таких музыкальных коллективов означал, что они не были зарегистрированы в государственных филармониях и не могли выступать в больших концертных залах и продавать билеты на свои концерты. Но зато репертуар их выступлений подвергался гораздо меньшему государственному контролю, чем в случае профессиональных оркестров (и позже вокально-инструментальных ансамблей, ВИА), зарегистрированных при филармониях. Это давало им ощутимую степень свободы, хотя и делало их более уязвимыми для разных непредсказуемых ситуаций. Владимир Фейертаг, организовавший в середине 1950-х годов студенческий джаз-банд в Ленинградском университете, вспоминает, что как-то на студенческом танцевальном вечере его оркестр повторил три раза подряд композицию оркестра Гленна Миллера «In the Mood» по просьбе комсомольцев, «абсолютно потерявших самоконтроль» [29]. Обычно партийный комитет университета смотрел на выступления джаз-банда сквозь пальцы, но на этот раз, узнав о слишком очевидном выражении комсомольцами восторга по поводу американской музыки, комитет решил осудить репертуар оркестра. Музыкантам было сделано официальное предупреждение: если они и впредь будут играть безвкусную американскую музыку, чуждую советской молодежи, их могут исключить из комсомола и отчислить из института. Однако из этого следовал и очевидный вывод: проблема заключалась не столько в музыке, которую играл оркестр, сколько в чрезмерно восторженной реакции, которую она на этот раз вызвала у студентов. Иными словами, проблема была вновь не столько в форме вообще, сколько в ее трактовке в конкретном контексте.
Кино
Неоднозначной была ситуация и с западным кино. В первые послевоенные годы многие американские и немецкие фильмы стали хитами советского проката, принеся в советское общество моду на новую музыку, одежду, язык и стиль поведения [30]. Молодых спортивных юношей стали называть на новом жаргоне «тарзанцами», по имени персонажа популярного американского фильма «Приключения Тарзана» [31]. Любители джаза начали имитировать жесты и телодвижения музыкантов из американских фильмов. Ефим Барбан, основатель Ленинградского джаз-клуба, предпочитал слушать американский джаз, положив ноги на стул, стоящий перед ним, подражая американским киноактерам. Когда ему сделали замечание за «некультурное поведение», он ответил, что американскую музыку следует слушать «так, как ее слушают в Америке» [32].
На протяжении всего позднесоветского периода западное кино то распространялось в широком прокате, то подвергалось критике, и его прокат сокращался, то оно вновь возвращалось в широкий прокат [33]. Хотя мотивами подобных перемен служили конкретные исторические события, политические кампании и международная обстановка, сама возможность постоянно менять отношение к этой форме иностранного культурного влияния была вызвана внутренним парадоксом социалистической системы, о котором писалось выше. Порой зарубежные фильмы пропагандировались в одном контексте и подвергались критике в другом. Началось это непоследовательное отношение сразу после войны. В 1947 году «Литературная газета» в статье «Долой пошлость!» выступила с критикой некоторых советских фотографов, которые, по словам автора, спекулируя на любви советских людей к кино, печатали портреты улыбающихся американских кинозвезд на тысячах открыток, которые можно было приобрести в любом газетном киоске или книжном магазине. Больше всего газета возмущалась тем, что за одну такую маленькую черно-белую фотокарточку с покупателей брали от трех до пяти рублей, в то время как большие цветные открытки с репродукциями лучших русских художников, работы которых экспонировались в Третьяковской галерее, стоили всего пятьдесят копеек [34]. Согласно этой критике, проблема заключалась не в том, что западные фильмы пользуются популярностью у советской публики, а в том, что фотографы спекулируют на этой популярности. Кроме того, хотя в этой статье американские фильмы, казалось бы, характеризовались как пример вульгарной массовой культуры, которой противопоставлялась высокая классическая культура, представленная в Третьяковской галерее, в предыдущем номере той же «Литературной газеты» газеты Илья Эренбург писал, что в действительности американский кинематограф выпускает много прекрасных фильмов, которые следует рассматривать как часть высокой мировой культуры. Америка, объяснял Эренбург, дала миру выдающихся мастеров от Чарли Чаплина, которого любят на всех пяти континентах, до фильмов братьев Маркс, полных простого доброго юмора, и мультфильмов Диснея, являющихся истинной поэзией кино [35].
Противоречивый Запад
Непоследовательность в интерпретации смысла иностранных культурных форм также проявлялась в тенденции критиковать некоторые «крайние» проявления западной культуры как буржуазные, но одновременно характеризовать «обычные» проявления этой культуры как пример положительного интернационализма. Эта тенденция проявлялась и в отношении к западной материальной культуре. Даже в сталинские времена, как показала Вера Данхэм (Vera Dunham), государство поощряло советских людей получать удовольствие от товаров личного потребления (одежды, наручных часов, губной помады), при условии, что они не использовались в эгоистических целях (как средство достижения социального престижа или карьерного успеха), а воспринимались как заслуженное вознаграждение за трудовые успехи или как отражение высокого культурного уровня советского человека [36]. Начиная с середины 1950-х государственный дискурс о том, какой способ потребления материальных и культурных благ приемлем, продолжает развиваться в том же направлении. Оказывается, что даже интерес к элементам «буржуазной роскоши» в западной жизни сам по себе не является предосудительным, при условии, что этот интерес продиктован не личным гедонизмом, а любовью к высокой эстетике и искусству, а также уважением к таланту мастеров и трудового народа, создающих эту роскошь. Именно поэтому «Литературная газета» могла с нескрываемым восхищением описывать роскошные парижские магазины знаменитого буржуазного района площади Вандом и улицы Фобур Сент-Оноре:
Вандомская площадь — сердце торговли «люкс». Подобно улице Фобур Сент-Оноре, она дает представление о том, что такое мода (в частности, на драгоценные украшения и золотые и серебряные изделия): это постоянное обновление вкусов, разгул воображения. […] Сейчас она демонстрирует мастерство парижских ремесленников — мебельных мастеров, ювелиров, а также декораторов, которые из каждой витрины создают большей частью блестяще сделанную картину, непрестанно видоизменяющуюся [37].
Советские газеты также призывали советских людей изучать языки, объясняя своим читателям, что истинно культурный человек обязан владеть хотя бы одним, а лучше несколькими иностранными языками, в первую очередь английским, немецким и французским [38]. Знание языков предполагало, что интерес к зарубежным странам и культурам вполне соответствует идеалу всесторонне образованного советского человека, при условии, конечно, что это интерес к правильной информации и что оценивается эта информация критически. Правильная информация включала в себя, например, знания из области науки и техники. Инженер одного НИИ объяснял на страницах «Литературной газеты»:
Я пришел к выводу, что знание английского, немецкого и французского языков обязательно для всякого, кто претендует на техническое творчество. И вот, овладев этими языками, регулярно просматриваю иностранные журналы, газеты, проспекты и т.д…[П]ора коренным образом улучшить метод преподавания языков в учебных заведениях, вывести это дело из стен только школ и вузов и широко распространить на предприятиях и в учреждениях [39].
Ему вторил академик: иностранные языки
…необходимы не только для делового общения, но и для расширения культурного кругозора…[C]колько волнующего наслаждения испытывает тот, кто может оценить прелесть песен Бёрнса… непосредственно в подлиннике. Сила сарказма и нежность ритмов поэзии Гейне неизбежно слабеют даже в самом лучшем переводе [40].
Подобные статьи и высказывания подогревали воображение советских читателей, постоянно напоминая им, что советский человек обязан интересоваться мировыми культурными ценностями, причем большинство из них описывалось как продукты «западных» стран. Касалось это, в принципе, самых разных видов западной литературы, музыки, кино. Хороший джаз в это понятие вполне вписывался, и поэтому большинством советских любителей джаза в тот период он не воспринимался как нечто однозначно буржуазное или абсолютно антисоветское. Таким образом, в соответствии с общим парадоксом советской культуры, критика джаза в советской прессе постоянно нейтрализовалась статьями в той же прессе об общечеловеческой ценности высокой мировой, то есть западной, культуры, а также интернациональной ценности культуры простых людей и трудящихся масс. Натан Лейтес, в начале 1960-х годов основавший ленинградский джазовый клуб «Квадрат», который был официально зарегистрирован государством, так выразил этот парадокс: в начале 1960-х годов он был большим поклонником американского джаза и, в то же время, «достаточно красным человеком, розовым. По крайней мере, я верил в социализм» [41]. По его словам, о большинстве его знакомых джазовых музыкантов и любителей джаза тех лет можно было сказать то же самое. В интервью, которое он дал уже в постсоветские годы, Лейтес подчеркивал: хотя «сейчас [в 1997 году] очень многие говорят, что они жутко давно прозрели» — то есть уже в советские годы стали активными противниками системы, — в действительности «этого не могло быть…» [42]. Американский джаз для большинства из них был сивмолом не капитализма или буржуазных ценностей, а оптимизма и веры в будущее, которые в принципе вполне укладывались в нормальные ценности социалистического общества. Другой известный энтузиаст джаза и организатор уникальных ленинградских джазовых вечеров Владимир Фейертаг считал в те годы, что, хотя на Западе многие образцы современного джаза подчас действительно отражают буржуазные вкусы общества, в советском контексте джаз был свободен от буржуазной идеологии. Встречаясь с критикой джаза, Фейертаг недоумевал: «Неужели мой личный интерес к нему [джазу] наносит непоправимый вред моей непобедимой стране?» [43] Для большинства этих молодых людей послевоенного поколения, как писал Лев Лурье, «борьба с космополитизмом и реальная поножовщина, любовь к джазу и комсомолу были соединены вместе» [44]. Аналогично парадоксальное отношение чуть позже сформировалось к
Стилизация
Особое отношение к своему внешнему виду и одежде среди некоторых слоев городской молодежи того периода тоже во многом сформировалось в контексте «западных» влияний (особенно посредством кинематографа, литературы и музыки). Причем большая часть молодежи не воспринимала интерес к моде, джазу или рок-музыке как
Примером здесь может служить отношение власти к возникшему в конце 1940-х годов знаменитому феномену стиляг — молодых людей, которых можно было отличить от большинства советских граждан по особому внешнему виду, одежде и поведению [45]. Cтиляг можно определить как «субкультуру» советского общества, воспользовавшись знаменитым определением субкультуры, которое дал Дик Хебдидж [46]. Согласно Хебдиджу, субкультуру отличает особый стиль, работающий как символ отличия некоторой группы от культурных форм, доминирующих в обществе [47]. В контексте капиталистической Великобритании, о котором писал Хебдидж, это отличие может ассоциироваться с оппозицией доминирующим культурным формам; однако такая оппозиция является не способом противопоставить себя системе как таковой, а, напротив, способом быть частью системы — именно субкультурой системы, а не ее противоположностью. Панки 1970-х годов — одна из субкультур Великобритании, о которой писал Хебдидж, — строили свой стиль на отличии от доминирующей нормы, при этом оставаясь частью системы. Они не только выпускали и продавали пластинки и давали концерты, но и быстро стали влиять на молодежный мейнстрим в одежде, языке и музыке (магазины одежды в стиле панк с самого начала были неотъемлемым элементом панк-движения).
В этом смысле стиляги тоже были субкультурой — не противоположностью социалистической системы, а, как ни парадоксально, ее частью — не столько исключением из «нормальной» культуры своего поколения, сколько наиболее ярким проявлением глубоких и не всегда заметных перемен в этой культуре. Стиляги не оспаривали авторитетный дискурс системы, а, напротив, использовали его форму (например, комсомольские вечера танцев и отдыха, советские кафе-мороженицы), но изменяли ее смысл. Для нашего анализа феномен стиляг важен не столько сам по себе (стиляги представляли довольно малочисленные и не связанные друг с другом группы молодежи), и даже не столько как явление, оказавшее влияние на других, сколько как симптом растущей важности западных культурных форм среди миллионов обычных молодых людей, большинство из которых не только не причисляло себя к стилягам, но попросту ничего о них не знало, а если знало, то относилось к ним отрицательно.

На эстетику стиляг повлияли самые разные «западные» формы. Среди них не последнюю роль играло кино, особенно американские фильмы, шедшие в советском кинопрокате после войны. В 1940-х годах ленинградский стиляга Валентин Тихоненко скопировал свой образ с главного героя американского фильма «Облава», который он несколько раз видел в советском кинотеатре [48]. Героем фильма был американский разведчик, внедрившийся во время войны в немецкое гестапо, что делало его в советском контексте однозначно положительным героем. Это был «изумительно обаятельный парень», вспоминает Тихоненко, и «я с него все срисовал сразу же». Тихоненко стал носить белые кофты, замшевую шляпу, длинное стильное пальто — все приобреталось либо в государственных комиссионных магазинах, либо «с рук» у иностранных туристов или фарцовщиков [49].

По примеру героев американских фильмов стиляги отращивали баки, тонкие усы и делали прически в стиле кок. Многие из них сами шили себе одежду — разноцветные вязаные свитера, широкие брюки, галстуки с яркими узорами — серебристой паутиной, пальмами, обезьянами или девушками в купальниках [50]. Не только молодежь Москвы и Ленинграда создавала себе подобный стиль одежды.
В конце 1950-х годов в Пензе, в пятистах километрах к
…укладывал русые кудри в кок а-ля Пресли. Длинная челка поднималась надо лбом и закреплялась. Только не лаком или муссом, которых в СССР пока не было, а… сахарным сиропом. Выходя в свет, Виталий надевал стильный пиджак цвета светлого какао с малиновыми вертикальными полосами (Франция), желтые ботинки на толстой белой подошве — «манке», с мощными пряжками (тоже французские), зеленые брюки, галстук клином — широкий, ниже пояса [51].
Некоторые из пензенских стиляг ездили летом отдыхать на черноморские курорты, где сотни тысяч молодых людей со всех концов Советского Союза проводили отпуска, увозя домой новейшие веяния моды. В контексте южных курортов и летних отпусков отношение к проявлениям западного стиля в одежде, музыке и танцах было более терпимым, чем на комсомольских вечерах в больших городах. В некоторых курортных парках можно было взять уроки твиста. Синичкин вспоминает: «В сочинском парке “Ривьера” была танцплощадка, там устроили конкурс по твисту в американском стиле — на выносливость. За 7—10 секунд нужно было, прыгая на одной ноге, другой ногой сделать 5 оригинальных движений, не похожих друг на друга». В парках и на танцплощадках, где танцевала молодежь, приехавшая из разных концов СССР, Синичкин воочию убедился в том, что не только немногочисленные стиляги, но и «вся страна болела твистом» [52].
Критикуя стиляг, советская печать изображала их немногочисленной группкой необразованных бездельников, бездумно преклоняющихся перед Западом и не имеющих никакого отношения к массе советской молодежи.
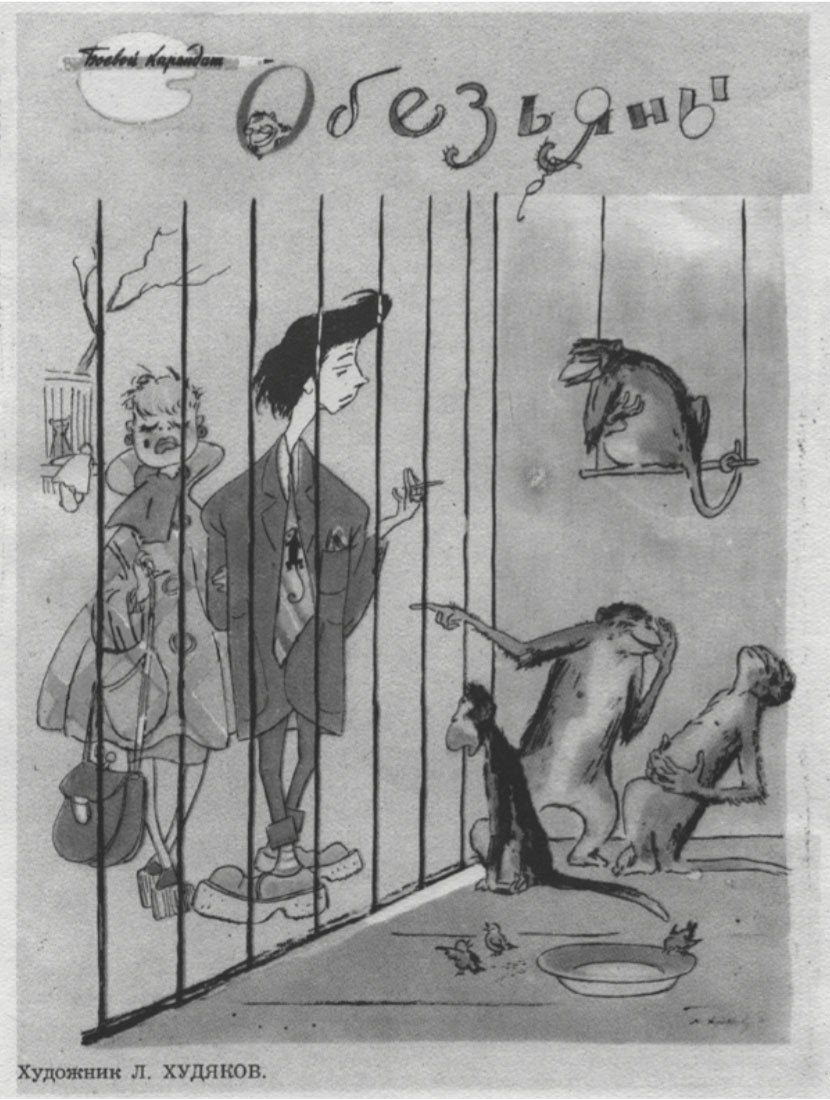
Комсомольские патрули, появившиеся в те годы на улицах больших городов для борьбы с подобными явлениями, тоже обращали внимание в первую очередь именно на молодежь с особо «вызывающим видом». Одного ленинградского стилягу задержали за то, что на нем был одет «броский» американский пиджак с большой эмблемой «Dunlop», на которой были изображены желто-красные тигры, прыгающие сквозь черные шины [53]. Другого остановили за «попугайский» вид — слишком яркую одежду и экстравагантную прическу [54]. Когда Тихоненко надел импортную шляпу с большими полями, преподаватель университета назвал ее «порнографической» [55]. В прессе внешний вид стиляг связывался с глупостью и неэтичностью; их называли «канарейками» и «обезьянами», лентяями и малообразованными людьми. Сатирический журнал «Крокодил» писал:
Стиляга знаком с модами всех стран и времен, но не знает… Грибоедова. Он детально изучил все фоксы, танго, румбы, линды, но Мичурина путает с Менделеевым и астрономию с гастрономией. Он знает наизусть все арии из «Сильвы» и «Марицы», но не знает, кто создал оперы «Иван Сусанин» и «Князь Игорь» [56].

Из этих разнообразных характеристик следовало, что стиляги — это небольшая групка отщепенцев, не имеющих ничего общего с подавляющим большинством нормальной советской молодежи и живущих не как все. Стиляги, по выражению журнала, «не живут в полном понятии этого слова, а, как бы сказать, порхают по поверхности жизни…» [57]

В результате такого представления стиляг в прессе большинство молодых людей, многие из которых тоже интересовались западной модой, джазом, рок-н-роллом и кино, но наравне с этим интересовались литературой, классической музыкой или наукой, просто не могло увидеть какую-то связь между собой и стилягами и обычно относилось к стилягам отрицательно. Владимир, студент одного из ленинградских инженерных вузов, в середине 1950-х годов часто ходил с друзьями на молодежные танцевальные вечера, где оркестр под управлением Виталия Понаровского временами исполнял темы из американских фильмов, вставляя их между более многочисленными советскими музыкальными композициями. Особой популярностью на этих вечерах пользовалась джазовая композиция «Караван» Дюка Эллингтона. Владимир вспоминает: «Как только оркестр начинал играть какую-то из этих [американских] мелодий, абсолютно все выбегали на танцплощадку. Понаровский стал культовой фигурой среди ленинградской молодежи» [58]. При этом и сам Владимир, и его молодые друзья были серьезными студентами и мечтали о научной карьере. По окончании института Владимир получил красный диплом отличника, который он с гордостью принес на праздничный вечер танцев и показал Понаровскому. В тот вечер оркестр посвятил выпускникам несколько джазовых мелодий из американских фильмов. Любовь к джазу и американским танцам сочеталась у Владимира и его друзей с интересом к науке и серьезным отношением к учебе. На этих вечерах, вспоминает он, бывали и явные стиляги, но ни Владимир, ни его институтские друзья их не знали и «не хотели иметь с ними ничего общего» [59].
Они не только не относили себя к стилягам, вспоминает Попов, но и считали себя авангардом советской молодежи, для которого 1950-е годы были временем, «наполненным счастьем», когда советские мечты о светлом будущем сочетались с литературными экспериментами, театральными постановками, американской музыкой и импортной одеждой, создавая причудливо оптимистическую смесь из советских и западных культурных форм и смыслов [61].
Другой ленинградец, будущий писатель Валерий Попов, в середине 1950-х годов тоже ходил на танцы, где временами звучали мелодии американского джаза. Он уделял много внимания своему внешнему виду и старался приобрести какую-то иностранную одежду у фарцовщиков или в комиссионных магазинах. Однако в отличие от тех, кого советская печать называла необразованными стилягами, путавшими «астрономию с гастрономией», Попов и его друзья читали серьезную литературу, писали прозу и стихи, посещали театры. Кроме того, они часто заходили в ресторан «Крыша», расположенный на верхнем этаже гостиницы «Европейская», послушать музыку, поговорить о литературе и поделиться друг с другом первыми пробами пера [60]. Они не только не относили себя к стилягам, вспоминает Попов, но и считали себя авангардом советской молодежи, для которого 1950-е годы были временем, «наполненным счастьем», когда советские мечты о светлом будущем сочетались с литературными экспериментами, театральными постановками, американской музыкой и импортной одеждой, создавая причудливо оптимистическую смесь из советских и западных культурных форм и смыслов [61].
Критика стиляг в советской прессе, которая представляла их незначительной и ненормальной группкой, способствовала не подавлению западных культурных влияний, а, напротив, их нормализации среди большинства обычной и достаточно образованной советской молодежи. Поскольку эта молодежь себя к стилягам на причисляла, она редко воспринимала критику в прессе как адресованную ей, а свой интерес к западной музыке, фильмам и стилю как противоречащий образу нормального советского человека. Таким образом, действия государства, неожиданно для него самого, часто приводили к результатам, противоречащим буквальному смыслу идеологических задач, которые государство якобы преследовало.
Коротковолновый радиоприем
Другим проявлением внутреннего противоречия советской культурной политики были попытки государства, с одной стороны, распространить новые технические средства, способствующие повышению культурного уровня граждан и интернационализма социалистической культуры, а с другой — сдержать отрицательное влияние этих технических средств по распространению буржуазных культурных форм. Ярким примером таких технологических нововведений были коротковолновые радиоприемники и магнитофоны. О магнитофонах мы поговорим позже, а пока рассмотрим радио.

Важность коротковолнового радиоприема в Советском Союзе в принципе хорошо известна, однако технологическая уникальность этого вида электронных медиа и связанная с ней уникальная роль коротковолнового радио в советском культурном производстве часто понимается довольно узко. Рассмотрим, в чем состояла эта уникальность. На Западе в период, совпадающий с советским поздним социализмом, и до недавнего времени (до стремительного развития спутникового телевидения, а затем Интернета) основными видами электронных массмедиа было радио в диапазоне FM62 (а также эфирное телевидение, на котором мы останавливаться не будем, — см. сноску [63]). Важнейшей чертой FM-радиостанций является то, что их электромагнитный сигнал распространяется на относительно небольшое расстояние. Передатчики этих радиостанций должны находиться относительно близко от приемников, то есть от аудитории — обычно на расстоянии не более 50 километров. Объясняется это тем, что электромагнитные волны FM-радио (а также похожих диапазонов УКВ-радио, принятых в СССР) распространяются по прямой, практически не огибая горизонта, и принимать их можно только в «зоне прямой видимости». Подавляющее большинство радиослушателей на Западе начиная с послевоенного периода получает информацию от местных FM-радиостанций. Эти станции могут, естественно, передавать новости и передачи, сделанные где-то далеко, но они все равно должны ретранслировать их для аудитории с местного передатчика [64].
Иначе обстоит дело с радиостанциями, которые работают в диапазонах коротких волн [65]. Электромагнитные волны коротких диапазонов распространяются гораздо дальше, чем сигнал FM-радио, поскольку, в отличие от последнего, короткие волны с легкостью огибают горизонт. Отражаясь сначала от ионосферы [66], затем от земли, затем вновь от ионосферы, и так по многу раз, они распространяются вокруг земли как по «каналу». Хотя не все коротковолновые диапазоны распространяются одинаково [67], все же факт остается фактом: короткие волны способны распространяться на сотни и даже тысячи километров вокруг Земли, а волны диапазонов FM и УКВ — лишь на десятки. Передачу, которая транслируется на коротких волнах, можно слушать, находясь на другом континенте от передатчика, а передачу в диапазоне FM или УКВ — только поблизости [68]. Это уникальное отличие коротковолнового радио от других видов радио (и телевидения) сделало его в позднесоветском контексте гораздо более важным средством «культурного производства», чем в контексте «западных» государств [69].
Передачу, которая транслируется на коротких волнах, можно слушать, находясь на другом континенте от передатчика, а передачу в диапазоне FM или УКВ — только поблизости [68]. Это уникальное отличие коротковолнового радио от других видов радио (и телевидения) сделало его в позднесоветском контексте гораздо более важным средством «культурного производства», чем в контексте «западных» государств [69].
Вопреки встречающемуся сегодня мнению, что почти все зарубежное радиовещание рассматривалось Советским государством как антисоветская пропаганда и «глушилось», действительность была куда сложнее и амбивалентнее. С одной стороны, слушание дальних станций рассматривалось государством как метод познавания мира и, значит, как важный элемент, который вписывался в государственную риторику о важности воспитания всесторонне развитой личности и
Рассмотрим несколько деталей этой противоречивой истории. Спустя десятилетие после появления в конце 1940-х первого биполярного транзистора [70] советская промышленность приступила к массовому производству переносных транзисторных радиоприемников, которые были гораздо меньше и дешевле стационарных ламповых радиол [71]. В результате коротковолновые радиоприемники стали доступны гораздо большему числу советских граждан. Причем с начала 1960-х годов до середины 1980-х производство радиоприемников в Советском Союзе постоянно нарастало (речь идет именно о коротковолновых приемниках). Рост производства частично объяснялся тем, что такие приемники позволяли слушателям во всех уголках Советского Союза, включая самые удаленные районы, принимать передачи советского радиовещания из центров страны. В этом смысле они были важной частью государственной программы по расширению доступа населения к советским средствам массовой информации.
Однако советские коротковолновые радиоприемники были разработаны не только для этого. Еще с 1950-х годов, со времен больших стационарных радиол, коротковолновое радио начало пропагандироваться в Советском Союзе как один из инструментов изучения мира, важный для образованного гражданина-интернационалиста. Такое отношение к коротковолновому радио отразилось, например, в дизайне советских радиоприемников того времени. Как и у зарубежных радиоприемников, на шкале настройки многих советских радиол, а позже и некоторых переносных «транзисторов» помещались обозначения не только диапазонов и частот, но и названия зарубежных, в том числе «западных», городов, на станции которых предлагалось настроиться, — наряду с социалистическими Прагой, Краковом и Будапештом здесь были буржуазные Париж, Стокгольм, Вена, Брюссель, Лондон, Милан, Страсбург, Кельн и так далее (Вашингтона, правда, никогда не было). Такое оформление шкалы не просто подогревало любопытство владельцев радиоприемников к зарубежному миру, особенно «Западу», но и давало понять, что приемник создан для настройки именно на такие станции и что для советского человека слушать их является вполне нормальным.

Противоречивость в отношении государства к коротковолновому радио отразилась и в технических стандартах, согласно которым было организовано производство советских радиоприемников. Например, многие советские переносные радиоприемники имели две модификации — один вариант «внутренний», для продажи в стране, а второй, «экспортный», для продажи за рубеж. Внутренний вариант приемника содержал только часть коротковолновых диапазонов, начиная с 25 метров и длиннее (31, 41 и 49 метров), но не содержал четыре наиболее коротких диапазона (11, 13, 16 и 19 метров). А экспортный вариант того же приемника содержал все диапазоны. Причина такого отличия двух модификаций лежит в пересечении физики с идеологией. Четыре наиболее коротких диапазона, которые отсутствовали в приемниках, продающихся в советских магазинах, предназначены в первую очередь для приема наиболее удаленных радиостанций в дневные часы (связано это с физикой распространения электромагнитных волн [72]). Вводя это ограничение, Советское государство облегчало себе задачу контролировать доступ слушателей к зарубежному радиовещанию: во-первых, было меньше диапазонов для приема западных станций, во-вторых, становилось легче глушить какие-то станции на оставшихся диапазонах. Однако мера эта была половинчатой: прием далеких зарубежных радиостанций на диапазонах, которые оставались доступны советским гражданам, был тоже вполне возможен. Более того, диапазоны 25 и 31 метр (которые на обычных советских приемниках имелись) являются в принципе наиболее распространенными в мире диапазонами для зарубежного радиовещания.
Попытка контролировать работу приемников в СССР с помощью этого половинчатого госстандарта вновь иллюстрирует парадоксальность советской культурной политики, с которой мы сталкивались выше в других контекстах. Коротковолновый прием в Советском Союзе не был запрещен целиком, а был лишь частично ограничен. И при этом непрерывно нарастала государственная кампания по популяризации радио. После войны значительно выросло число радиотехнических и электротехнических факультетов в советских вузах, техникумах и училищах, что привело к бурному росту числа радиоинженеров, радиотехников, специалистов-электронщиков. С одной стороны, это было связано с необходимостью развивать военные исследования и разработки в области бурно развивающейся электроники и военных средств связи. Однако профессиональным образованием и закрытыми исследовательскими институтами эта кампания не ограничивалась. Радио стремительно популяризировалось и на любительском уровне, что вело к огромному росту числа радиолюбителей. По всей стране появлялось все больше клубов радиолюбителей. Еще в 1940-х годах государство основало ежемесячный журнал «Радио», предназначенный для радиолюбителей и регулярно публиковавший статьи и технические описания, объясняющие, кроме прочего, как самому собрать коротковолновый приемник или построить антенны для дальнего приема. Пожалуй, самым важным было то, что все эти годы в стране постоянно возрастало количество коротковолновых радиоприемников, выпускаемых советской промышленностью и доступных в советских магазинах.
Во многих городах открылись специализированные государственные магазины по продаже радиодеталей, а около этих магазинов возникли неофициальные «толкучки», где можно было приобрести редкие радиодетали, элементы радиосхем, часто нелегально вынесенные с радиозаводов, и целые приемники [73]. Приобретали их не только местные радиолюбители, но и приезжие из других городов. За не слишком высокую плату радиоинженер мог обучить вас, как обойти технические спецификации, принятые государством, и расширить возможности вашего приемника — в том числе как добавить радиоприемнику недостающих диапазонов, модифицировав его с местного ограниченного стандарта на расширенный “экспортный” стандарт.
Противоречие государственной культурной политики в области радиоприема проявлялось и в хорошо известном факте «глушения» зарубежных станций — еще одной практики Советского государства, которая в литературе часто интерпретируется неточно. Государство глушило не все западные станции, которые вели радиовещание на русском языке или других языках Советского Союза и Восточной Европы. Глушились лишь те станции и передачи, которые характеризовались государством как «антисоветские» [74]. Например, в течение всего периода позднего социализма глушились передачи негосударственной радиостанции «Радио Свобода» (их глушение началось в 1955 году и закончилось в ноябре 1988-го) [75]. В отличие от «Свободы» передачи «Голоса Америки», Би-би-си и «Немецкой волны» на русском и других языках в СССР глушились не всегда, а лишь в определенные периоды (и к тому же для их глушения использовалось меньше станций глушения, чем для глушения «Свободы», что делало их прием несколько более доступным) [76]. Связано это было с их статусом официальных государственных радиостанций США, Великобритании и ФРГ. «Второстепенные» западные радиостанции, вещавшие на русском языке, — «Радио Швеция», «Международное канадское радио» и т.д. — вообще не глушились. Радиопередачи на других языках мира, не имевших прямого отношения к СССР или Восточной Европе, тоже никогда не глушились. Среди последних было множество важных радиостанций с огромной аудиторией по всему миру — таких, как «Всемирная служба Би-би-си» (BBC World Service) и «Голос Америки» (VOA), вещавшие по-английски, «Радио Франс Интернасьональ» (RFI), вещавшая по-французски, и так далее.
Имея коротковолновый приемник, можно было довольно легко слушать передачи этих станций. Они давали советским слушателям возможность интересоваться джазом, рок-музыкой, другими культурными явлениями западной жизни и, конечно, изучать иностранные языки (большинство этих станций имело даже специальные программы для изучающих язык). Тысячи советских людей, особенно молодежь, занимались именно этим, что вполне соответствовало вышеупомянутым призывам в советской прессе изучать иностранные языки для того, чтобы стать культурным человеком. Слушание коротковолнового радио стало крайне популярным занятием по всей стране, хотя определенную осторожность при таком прослушивании, безусловно, надо было соблюдать — например, не слушать зарубежные трансляции, особенно на русском языке, где попало. И все же во время летних каникул на пляжах или в парках черноморских курортов можно было услышать иностранную музыку и речь, доносившиеся из коротковолновых транзисторных приемников.
В печати время от времени появлялись критические высказывания по поводу прослушивания западных станций, но критика, как и в предыдущих примерах, акцентировалась на «крайних» проявлениях этого феномена, игнорируя куда более распространенную и менее заметную общую тенденцию. В результате, как и в случае со стилягами, мало кто из читателей ассоциировал себя с объектом этой критики. Ее примером является карикатура, напечатанная в 1970 году в журнале «Крокодил», на которой изображены три подростка, стоящие на пляже и слушающие каждый свой индивидуальный радиоприемник (выдвинутые телескопические антенны указывают на то, что они, скорее всего, слушают именно короткие волны). Ироничная и не совсем понятная подпись под рисунком: «Нашли общий язык», по-видимому, является попыткой высмеять подростков, стоящих каждый сам по себе и слушающих зарубежное буржуазное радио (с которым они нашли «общий язык»), вместо того чтобы общаться с своими друзьями на общем родном языке. Большинство советских слушателей зарубежных радиостанций вряд ли бы узнали в этом сатирическом портрете себя (как

Зарубежные радиотрансляции действительно оказали огромное влияние на развитие джаза и
Джаз оставался в ресторанах, но мы туда не ходили…Я учился во вторую смену и в первой половине дня все время слушал Би-би-си, а там постоянно крутили джаз…[Т]огда уже начинали глушить, но музыку слушать вроде было можно. Я помню, когда слышал [в западных радиопередачах] про кровавого диктатора Сталина, я не верил, думал: во, клевещут! […] В середине 50-х появился в эфире Уиллис Коновер. С 22 до 24 часов шла его программа Голоса Америки «Time for Jazz» [78]. Первый час был такой свинговый, а второй час был би-боп. Но мы тогда не знали, что это такое [79].
Джазовая программа Уиллиса Коновера (Willis Conover) на английской службе «Голоса Америки» впервые вышла в эфир в 1955 году и транслировалась без перерывов многие годы, до смерти Коновера в 1996-м. Голос у Коновера был очень низкий, легко узнаваемый, а манера говорить медленная, с длинными паузами, что делало его передачи более-менее понятными даже для людей, плохо владевших английским. Кроме того, в какой-то момент его передачи стали частью трансляций «Голоса Америки» на специальном английском (in Special English) — в передачах такого типа, ориентированных специально на изучавших английский язык иностранцев, использовались слегка замедленная речь и несколько упрощенные грамматические конструкции и словарь [80]. Все это, а также огромный интерес к американскому джазу способствовало появлению у передач Коновера многомиллионной аудитории по всему миру и, как следствие, международной популяризации джаза, американской культуры и американского варианта английского языка [81]. Владимир Фейертаг позже вспоминал: «Честно признаюсь, что первые английские слова и фразы я выучил благодаря Коноверу. Он говорил медленно и четко, какие-то обороты повторялись изо дня в день. Думаю, что Коновер был учителем английского для целого поколения любителей джаза» [82]. А другой постоянный слушатель Коновера, писатель Василий Аксёнов, ностальгически заметил: «Сколько мечтательных русских мальчиков возмужало под Садись на поезд ‘А’ Дюка Эллингтона и сладкий голос Виллиса Коновера, ‘мистера Джаз’ из ‘Голоса Америки’» [83].
Насколько популярен был Коновер у советских любителей джаза, а также насколько широко практиковался прием иностранного коротковолнового радиовещания в Советском Союзе, иллюстрирует следующий случай. В 1967 году в Советскую Эстонию из США для выступления на джазовом фестивале «Таллин 1967» приехал Джаз-квартет Чарльза Ллойда (Charles Lloyd Quartet) [84]. В турне квартет Ллойда сопровождал Уиллис Коновер. После выступления квартета в Таллине «Интурист», по просьбе музыкантов, повез их уже в качестве простых туристов посмотреть достопримечательности Ленинграда. Однако ленинградские джазовые музыканты прознали от своих таллинских друзей об этой неофициальной поездке американцев и решили провести их тайком на концерт джаз-оркестра Иосифа Вайнштейна в ленинградском Джаз-клубе. В тот вечер зал был переполнен, но никто из зрителей не подозревал, что за кулисами стоит Уиллис Коновер. Организаторы концерта попросили его объявить следующую композицию. Юрий Вдовин вспоминает:
В лицо его никто не знал, а уж голос все, кто там стояли, знали точно, и когда он подошел к микрофону и объявил следующий номер, это был ужас — толпа на него просто ринулась. Ведь на нем российская джазовая публика получала воспитание [85].
Итак, советская государственная культурная политика, в частности в области радиоприема, была крайне противоречивой. С одной стороны, она включала в себя всевозможные ограничения — критику «антисоветских голосов», глушение отдельных радиостанций, использование специальных технических стандартов, ограничивающих возможность приема зарубежных станций. Но, с другой стороны, она включала в себя и множество мер по пропаганде коротковолнового радиоприема — производство советских коротковолновых приемников постоянно нарастало, пропагандировалась идея о том, что всесторонне развитый человек должен быть интернационалистом, разбираться в мировой культуре и знать иностранные языки, глушились только некоторые станции и не всегда, создавалось все больше кружков, воспитывающих радиолюбителей, и факультетов, готовящих радиоинженеров, и т.д. Все это способствовало не только контролю за практикой прослушивания зарубежных коротковолновых радиопередач советскими гражданами, но и относительной нормализации этой практики. Неудивительно поэтому, что массы советских людей, в первую очередь молодежи, не воспринимали слушание зарубежных станций как
Радио способствовало не только росту популярности джаза, рок-музыки, западной моды и иностранных языков в Советском Союзе, но и тому, что эти интересы воспринимались как вполне нормальные и далеко не обязательно антисоветские.
Таким образом, в позднесоветский период коротковолновое радио превратилось в мощнейший инструмент культурного производства, способствовавший формированию советского феномена воображаемого Запада. Само государство принимало непосредственное участие в создании этого феномена, одновременно пытаясь его ограничить. Неудивительно, что предвидеть всевозможные результаты таких противоречивых мер государство не могло. Радио способствовало не только росту популярности джаза, рок-музыки, западной моды и иностранных языков в Советском Союзе, но и тому, что эти интересы воспринимались как вполне нормальные и далеко не обязательно антисоветские. При этом очевидно, что эти интересы и занятия способствовали распространению в советской жизни все новых способов существования по принципу вненаходимости. Советская система менялась изнутри, претерпевая нарастающую детерриториализацию, причем этот процесс пока не воспринимался как необратимый подрыв системы.
Рок на костях
Cпрос на западный джаз и
Это настоящие рентгеновские снимки — грудная клетка, позвоночник, переломы костей — с маленькой круглой дыркой посередине, слегка закругленными ножницами краями и еле заметными звуковыми бороздками. Столь экстравагантный выбор исходного материала для «гибких грампластинок» объясняется просто: рентгенограммы были самыми дешевыми доступными носителями. Их скупали сотнями за копейки в поликлиниках и больницах, после чего с помощью специальных машин — говорят, законспирированные умельцы переделывали их из старых патефонов — нарезали дорожки, копируя пластинку-оригинал или магнитофонную запись [90].
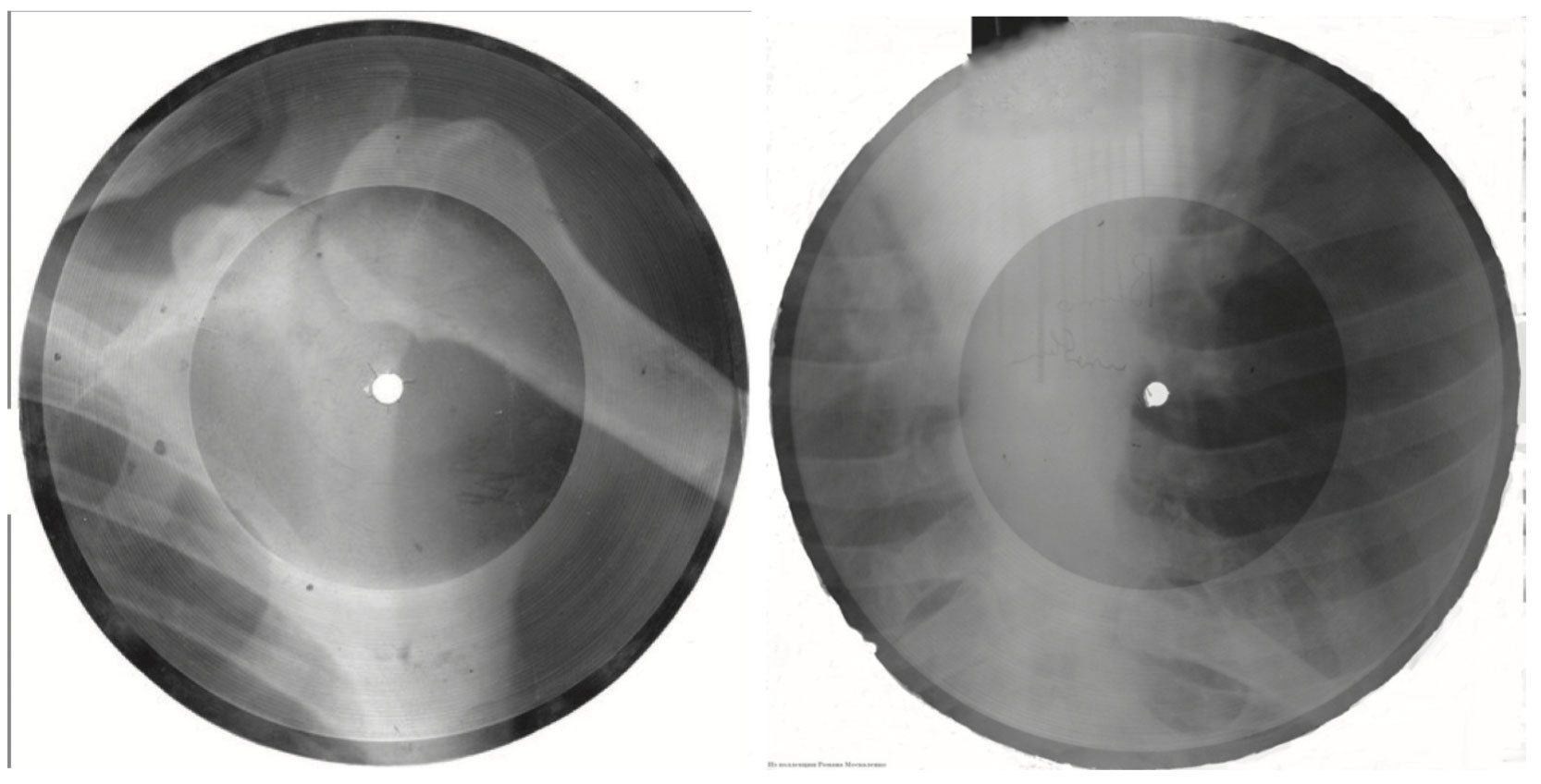
Существуют разные мнения о том, кто и где изобрел домашнюю звукозапись на рентгеновских пластинках. Скорее всего, в 1950-х годах схожие, но не идентичные способы такого копирования музыки возникли в нескольких местах страны более-менее одновременно. Произошло это, очевидно, там, где имелся доступ к оригинальным западным грампластинкам (через моряков, ходивших в заграничные плавания, или западных туристов), был широкий спрос среди местного населения на самодельные копии западной музыки и имелись технические знания и оборудование на базе радиотехнических вузов и НИИ, необходимые для изобретения нужной технологии копирования. Эти три условия ставили города типа Москвы, Ленинграда или Риги в особое положение. Рентгениздат сначала возник именно там. Такой сценарий тем более вероятен, если учесть, что прототипы подобных любительских пластинок существовали в разных странах и раньше и идеи о том, как создать нужную любительскую технологию, могли просочиться в СССР
Государственная поддержка науки и дух экспериментаторства, царивший на радиотехнических факультетах советских вузов, также были необходимыми условиями для появления подобных изобретений. Среди создателей рентгениздата в Ленинграде были студенты «корабелки» (Ленинградского кораблестроительного института). Технология, которую они разработали, включала два проигрывателя: пластинка-оригинал проигрывалась на первом проигрывателе, электрический сигнал с
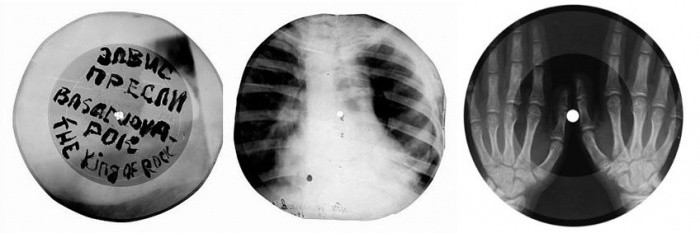
Эти пластинки были не просто носителями западной музыки, но и крайне необычными материальными объектами. От советских любителей джаза и
Магнитофикация
В конце 1950-х Советское государство ввело в советскую жизнь еще одно технологическое новшество, оказавшее огромное влияние на распространение музыкальных форм воображаемого Запада, затмив по важности и пластинки «на костях», и коротковолновое радио. Советская промышленность начала производство первых катушечных магнитофонов. К началу 1960-х годов их производство достигло массового объема. Магнитофоны, предоставлявшие гораздо более легкий, дешевый и качественный способ звукозаписи, быстро вытеснили рентгеновские пластинки. Как и в случае с радио, государство пыталось пропагандировать использование магнитофонов для прослушивания «правильной» музыки, в том числе хороших примеров иностранной и западной музыки, одновременно пытаясь ограничить нежелательные музыкальные влияния с Запада. Однако, как и в предыдущих примерах, магнитофоны привели к массовому распространению в первую очередь именно западного джаза и
Критерий, по которому та или иная музыка, записанная на магнитофон, характеризовалась государством как приемлемая или неприемлемая, был вновь сформулирован достаточно амбивалентно и непоследовательно, что открывало возможность для противоположных интерпретаций одной и той же музыки. Согласно этому амбивалентному критерию, как и прежде, хорошую зарубежную музыку связывали с культурой простого трудового народа, а плохую, с буржуазной культурой общества потребления. В 1961 году композитор П. Кантор разделил эти два типа магнитофонной музыки так:
Иногда на вечеринках молодежи можно услышать пластинки, передающие неистовые звуки, судорожные ритмы, уродливые завывания, пошлые песенки. Такая «музыка» пробуждает в человеке излишнюю развязанность или унылое безразличие. А ведь находятся люди, которым она нравится! […] Истинно легкая музыка жизнерадостна, задушевна, мелодична. […] Приятно послушать хороший джаз, когда он играет красивые народные мелодии. Мы не против хороших зарубежных песен. Но, право, не стоит увлекаться дикой музыкой рок-н-ролла и другими подобными произведениями буржуазного «искусства» [98].
Поскольку критерием разграничения музыки на хорошую и плохую вновь служила «ненормальная» форма — форма, которую составляли «неистовые звуки», «судорожные ритмы» и «уродливые завывания» — многие композиции джаза и
В 1965 году другой советский композитор, Иван Дзержинский, писал в «Литературной газете» об опасностях, которые несет с собой легкость многократного копирования магнитофонной записи. На этот раз речь шла не о западной музыке, а о песнях новых советских бардов, любительские записи которых тоже расходились по всей стране:
Барды шестидесятых годов нашего века имеют на вооружении магнитную пленку. В этом есть… известная опасность — легкость распространения…Многие из этих песен вызывают в нас чувство стыда и горькой обиды, наносят большой урон воспитанию молодежи [100].

Как и в случае со стилягами, государственная критика любителей магнитофонных записей была неточной и непоследовательной. На карикатуре середины 1970-х в журнале «Крокодил» изображена девушка, одетая по последней западной моде — в расклешенные брюки, туфли на платформе, обтягивающую футболку, с сигаретой в руке. Она слушает магнитофон, стоящий рядом на кресле. Что за музыка звучит из магнитофона — ясно по одежде девушки и фотографиям западных рок-звезд, висящих на стене ее комнаты. А ее старенькая бабушка, одетая в простую крестьянскую одежду, просит ее умоляюще: «Помогла бы, внучка, репку вытянуть…» На заднем плане мы видим деда, который безуспешно пытается вытянуть репку. Внучка отвечает с пренебрежением: «Так у вас же мышка есть!» В карикатуре обыгрывается хорошо известная народная сказка про репку, в которой дед, бабка, внучка, собака Жучка и кошка не могут вытянуть репку из земли, пока на помощь им не приходит маленькая мышка. Но в отличие от внучки в народной сказке современная внучка отказывается помогать бабушке и дедушке. Она — лентяй и тунеядец, слушающий западный рок-н-ролл. Как и в предыдущих примерах, большинство любителей магнитофонных записей не отождествляло себя или своих друзей с образом ленивых и наглых переростков, живущих на иждивении родителей, бабушек и дедушек.
Аналогично ситуации с радиоприемниками, несмотря на подобную критику производство и популяризация советских магнитофонов (сначала катушечных, а позднее кассетных) продолжали нарастать. Если в 1960 году советская промышленность выпустила 128 тысяч магнитофонов, то к 1969 году их производство выросло до 1 миллиона, а к 1985-му — до 4,7 миллиона магнитофонов в год. Всего же за двадцать пять доперестроечных лет, с 1960 по 1985 год, советская промышленность выпустила, а советские люди преобрели около 50 миллионов магнитофонов [101]. За тот же период население Советского Союза выросло с 216 миллионов (1960 год) до 280 миллионов человек (1985 год), из которых молодое население в возрасте от 15 до 34 лет — основные пользователи магнитофонов и потребители магнитофонных записей — составляло на 1985 год около 90 миллионов человек [102]. Можно с уверенностью сказать, что среди советской молодежи, взрослевшей в 1960-х — начале 1980-х годов, включая даже тех, кто не имел собственных магнитофонов, большинство регулярно слушало магнитофонные записи дома, в гостях, в летних лагерях, на танцах, днях рождения, свадьбах, дискотеках. А значит, за эти двадцать пять лет в советском обществе произошла мощная культурная трансформация, которую Вайль и Генис, перфразируя известный ленинский лозунг, метко назвали «магнитофонизацией страны» [103].
Основным результатом этого процесса стало не просто дальнейшее распространение западного джаза и рока, но и активное переосмысление этой музыки последним советским поколением в соответствии с его собственным культурным контекстом. Новый смысл, который эта музыка приобретала в Советском Союзе, подчас сильно отличался и от того, как она интерпретировалась в критических статьях советской печати, и от того, какой смысл она имела «на Западе». Для большой части советской молодежи эта музыка стала глубоко личной, своей и одновременно общей, нашей, а потому повлиявшей на эстетику и самосознание всего поколения. Как справедливо писала Татьяна Чередниченко, ощущение принадлежности к единому поколению, среди людей, выросших в 1960—1970-х годах, в отличие от предыдущих советских поколений, сформировалось не столько вокруг эпохальных достижений или трагических событий, сколько вокруг «возрастного фактора, как такового» [104] — то есть вокруг общих интересов, практик, вкусов и способов взаимодействия с авторитетным дискурсом и ритуализованными институтами системы. Магнитофонные записи зарубежных рок-групп были одним из наиболее ярких феноменов, посредством которого эти люди формировали себя и опознавали друг друга как своих.
Зарубежные виниловые пластинки попадали в СССР по различным каналам, особо важную роль в которых играли города с морскими портами — Ленинград, Рига, Одесса, Владивосток и другие. Советские моряки торговых судов и круизных лайнеров для иностранных туристов привозили пластинки значительными партиями из зарубежных плаваний и перепродавали их коллекционерам и посредникам музыкального черного рынка. Далее пластинки расходились по большим городам и копировались на магнитофонах. Магнитофонные записи переписывались вновь и вновь, расходясь все шире. Качество звука при многоразовой перезаписи хромало, но зато определенный набор западного рока распространялся десятками и сотнями тысяч копий по всей стране.
Довольно широкий выбор записей не ограничивался лишь большими городами. В большинстве небольших городов СССР имелись свои коллекционеры и распространялся широкий набор западных альбомов. Виктор М., 1959 года рождения, родился и вырос в Смоленске. Здесь, в возрасте 13 лет, в 1972 году, он увлекся западным роком. Каждое воскресенье, вспоминает Виктор,
я брал свой катушечный магнитофон «Комета» и шел через весь город к одному взрослому парню, у которого всегда были новые пластинки. У него я записывал Блэк Саббат [Black Sabbath], Элиса Купера [Alice Cooper], Брайана Ферри [Bryan Ferry] и так далее. За запись одной пластинки я платил ему два с половиной рубля. В то время все были помешаны на Битлз, но мне они были неинтересны. Разве можно было сравнивать их с Оззи?! [105]
Упоминание знаменитого Оззи Осборна (Ozzy Osbourne) из группы «Black Sabath», интерес к которому Виктор уже тогда противопоставлял стандартному увлечению большинства его сверстников группой «Битлз», говорит о разделении вкусов по отношению к западной рок- и
Большинство пластинок попадало в Смоленск из Риги, куда их привозили советские моряки и западные туристы. В 1974 году, в возрасте 15 лет, Виктор сам начал ездить в Ригу за пластинками:
Дорога от Смоленска до Риги занимала один день на поезде. В Риге я сразу шел на музыкальный «толчок». Первой пластинкой, которую я там купил, был новенький альбом группы «Криденс» [Creedence Clearwater Revival], за который я заплатил пятьдесят рублей [106].
Привозя пластинки в Смоленск, Виктор сначала делал с них высоко- качественную магнитофонную копию для себя [107], а затем перепродавал их коллекционерам — обычно по той же цене, что и покупал, иногда чуть дороже или чуть дешевле. Главной целью, объясняет он, было не заработать деньги, а «постараться их не потерять, чтобы можно было и дальше привозить новые пластинки» [108].
Толчки, на которых можно было приобрести западные пластинки, включая совершенно новые пластинки в запечатанных конвертах, существовали во всех более-менее крупных городах. Хотя в государственной риторике эти «черные рынки» и критиковались, кампании по их ликвидации, за исключением редких всплесков, были довольно вялыми, что позволяло рынкам существовать в той или иной форме, иногда меняя места, в течение всего позднесоветского периода. Как вспоминает Виктор, в Смоленске «милиция теоретически пыталась пресечь деятельность по
Кроме того, как и в случае государственной критики коротковолнового радиоприема или стиляг, критика системы распространения рок-музыки тоже представляла реально существующее явление в искаженном свете и поэтому была неэффективной. Ее примером служит очередная карикатура в «Крокодиле», на которой изображен делец, торгующий западными пластинками «

Хотя западные пластинки, особенно новые, стоили на черном рынке достаточно дорого, делать с них магнитофонные копии было недорого. Цена новой запечатанной пластинки, покупаемой «с рук», колебалась от 50 до 100 рублей, а цена магнитофонной записи с нее — от ноля до 5 рублей, причем чаще всего она не стоила ничего. Делать магнитофонную копию бесплатно с другой магнитофонной копии знакомых и друзей было наиболее распространенным видом копирования этой музыки. Таким образом, хотя рыночные отношения и были необходимой частью системы распространения западной поп-музыки, они были лишь очень небольшой ее частью, с которой большинство любителей этой музыки напрямую вообще не сталкивалось. По этим причинам карикатура «Крокодила», которую мы только что видели, попросту не могла восприниматься большинством любителей западной музыки как критика, направленная на них.
Итак, попытки запретить или ограничить распространение западной музыки в пределах СССР были крайне непоследовательными; критика этого феномена была сформулирована неясно и чаще была направлена на нелегальную практику купли-продажи, а не на саму музыкальную эстетику западного рока (более того, как мы увидим ниже, подчас государство само способствовало популяризации этой эстетики). В результате распространение этой музыки по всей стране не только не сокращалось, но, напротив, постоянно нарастало, и, что еще важнее, само увлечение этой музыкой стало восприниматься большинством советских граждан, особенно молодым поколением, как вполне нормальное и не имеющее непосредственного отношения к таким понятиям государственной критики, как спекуляция, черный рынок, преклонение перед буржуазными ценностями, тунеядец. Как показывают примеры, приведенные ниже, многими это увлечение даже могло восприниматься как часть образа вполне сознательного советского человека.
Переписка
Молодые любители западной музыки со всех уголков страны не только копировали друг у друга записи западной рок-музыки, но и обменивались информацией о ней, переснятыми множество раз фотографиями групп, переводами текстов (реальными и вымышленными) и так далее. Друзья из разных городов переписывались, обсуждая рок-музыку, и даже посылали друг другу по почте кассеты с записями. Происходило это не только в больших городах западной части СССР, а абсолютно по всей стране. Например, в далеком сибирском Якутске в середине 1970-х годов существовала активная система обмена пластинками и записями, хотя пластинки сюда могли попадать только самолетом или посылаться авиапочтой из других городов страны. Естественно, появлялись они здесь с опозданием — через несколько месяцев, а чаще — лет после их выхода на Западе, но не намного позже, чем они появлялись в Москве и Ленинграде. Как и в других городах страны, в Якутске были свои знатоки западного рока, которые гонялись за самыми свежими альбомами, с пренебрежением относясь к старым и уже хорошо знакомым группам и записям. 11 марта 1975 года шестнадцатилетний студент училища из Якутска, Леонид, в письме своему ленинградскому другу рассказал, какую музыку слушают он и его якутские сверстники. Леонид писал (курсив мой):
Получили деньги за практику, по 128 рублей, отлично! Купил второй магнитофон «Юпитер 1201», ничего штука, пашет отлично! Насчет записей, я ими увлекаюсь, правда, недавно. Но
Этот отрывок из письма, написанного в начале 1975 года, интересно проанализировать подробно. Обратим внимание, что в далеком Якутске в 1975 году по рукам ходят магнитофонные записи множества альбомов английских и американских групп, включая альбомы, которые только что поступили в продажу на Западе в том же 1975 году. Вначале упоминается альбом Элиса Купера 1975 года [116]. Далее, видимо, содержится ошибка — в 1974 году Элис Купер альбомов не выпускал, а имеется в виду его пластинка 1973 года, Billion Dollar Babies, которая была крайне популярна среди советских любителей рока. Подобные ошибки были не редкостью — ведь магнитофонные записи делались в основном с других магнитофонных записей (для этого Леонид и купил себе второй магнитофон), а оригинальных конвертов с пластинками большинство коллекционеров этой музыки не видело и информацию, содержащуюся на них, прочесть не могло. В письме упоминаются также и не самые новые альбомы — например, альбом группы Deep Purple Made in Japan, 1972 года, видимо, их знаменитая песня «Smoke on the Water» (неверно переведенная здесь как «Бегущие по волнам»), тоже 1972 года (с альбома Machine Head) и песня «Child in Time» 1970 года (с альбома Deep Purple in Rock). Однако наряду с этими не самыми новыми композициями и альбомами упоминается и только что вышедший в 1975 году альбом этой группы 24 карата [117]. Более того, песни и альбомы, вышедшие всего несколькими годами ранее, согласно автору письма, уже считаются в Якутске стариной. Из последних двух предложений видно, что в Ленинграде новых записей было больше и появлялись они быстрее и что любители из провинциальных городов получали новые записи в том числе и по почте от своих ленинградских, московских, рижских друзей.
Обратим также внимание, с какой легкостью в тот период адаптируются к русскому контексту английские названия песен, альбомов и групп — их можно писать по-английски (Bee Gees, Deep Purple, The Beatles), можно транслитерировать или транскрибировать кириллицей (Элис Купер, Джулай Монинг, Криденс), а можно переводить на русский (Сделано в Японии, Дитя во времени, 24 карата). Все эти названия, написания и переводы были неотъемлемыми элементами дискурса воображаемого Запада, хорошо знакомыми последнему советскому поколению.
Интересно также и то, что молодых любителей рок-музыки из Якутска и Ленинграда привлекали не только англо-американские группы 1960—1970-х годов, но и классическая органная музыка Иоганна Себастьяна Баха, которую они слушали на пластинках советской фирмы «Мелодия». Для сверстников Николая и Леонида органная музыка Баха, с ее сугубо европейским религиозным звучанием, была таким же элементом воображаемого Запада, как и западный рок [118]. К тому же она воспринималась ими, вполне справедливо, как музыкальная база, на которой основывались сложные электронно-органные композиции многих рок-групп 1970-х годов (включая упомянутых здесь Deep Purple). В СССР музыка Баха рассматривалась как важнейшая часть высокой культуры, о чем эти молодые люди, безусловно, были прекрасно осведомлены. Им было бы трудно принять на свой счет критические нападки на поклонников западной рок-музыки как на необразованных лентяев, не имеющих представления о высокой культуре.
Перевод
Несмотря на то что государство время от времени критиковало западную рок-музыку за вредное буржуазное влияние, своими действиями оно обеспечивало довольно широкий доступ к этой музыке, а иногда само участвовало в ее распространении. Государственная звукозаписывающая компания «Мелодия» выпускала отдельные песни западных рок и
Кроме изменения названия и авторства на таких музыкальных сборниках часто менялась и общая характеристика композиции. Легче всего на советской пластинке было выпустить «песню протеста» [123]. Подобная манипуляция названиями и характеристиками музыкальных композиций, продиктованная политическими соображениями, не была уникальна для СССР. Примером служит знаменитая композиция Мерла Трэвиса «Шестнадцать тонн» («Sixteen Tons»), которую «Мелодия» выпустила как «песню протеста» и которая стала безумно популярна на советских танцплощадках. В данном случае понятие «песни протеста» было в
Буквальный смысл зарубежных песен был не только непонятен, но и не особенно важен и в более поздний период. Наоборот, в том факте, что слова песен были непонятны, а исполнение звучало по-иностранному, был особый смысл. Это давало возможность советским слушателям населять иностранные композиции своими собственными воображаемыми мирами и героями. Музыка была непонятной, но далеко не бессмысленной. Такое отношение к зарубежным записям существовало во всех уголках огромной страны. В небольшом городе Фергана, в Узбекистане, где в 1970-х годах было ничуть не меньше поклонников «Битлз», чем в других городах страны, будущий киноактер Александр Абдулов и его школьные друзья в начале 1970-х создавали свою собственную подробную интерпретацию песен ливерпульской четверки. Через многие годы, в постсоветские 1990-е, когда в магазинах появились опубликованные русские переводы песен «Битлз», Абдулов с удивлением обнаружил, что в них пелось о
В 1970-х годах тысячи молодых людей по всей стране занимались подобной интерпретацией песен западных рок-групп. Принимая участие в этом творческом процессе культурного перевода представители последнего советского поколения делали западную музыку своей [128]. «Битлз», «Дип Перпл», «Пинк Флойд» преобразовывались в элемент местного контекста, а местный контекст в этом процессе преобразовывался в нечто новое, одновременно советское и несоветское, существовавшее в отношениях вненаходимости к авторитетному дискурсу партии. Когда художник Дмитрий Шагин [129] задумал изобразить коллективный образ этого поколения, он нарисовал картину, на которой изображены всего два слова — шутливая русская транслитерация названия группы, ТХЕ БЕАТЛЕЗ. Такое написание, в отличие от The Beatles или «Битлз», подчеркивает именно местную специфику феномена западной рок-музыки, которая играла огромную роль в производстве культурных смыслов, важных для последнего советского поколения, — смыслов, которые отличались от оригинальных и о которых британская группа, естественно, не могла и догадываться.
Процесс культурного перевода и присвоения западной рок-музыки был настолько мощным и повсеместным, что он, как и следовало ожидать, оказал огромное влияние на развитие рок-музыки в СССР. В конце 1960-х и на протяжении 1970-х годов по всей стране стали появляться рок-группы — в школах, местных клубах, Дворцах пионеров, летних лагерях, училищах и институтах. У всех этих групп был статус «любительских» — то есть они не являлись официально зарегистрированными музыкальными коллективами, а значит, в отличие от профессиональных коллективов и оркестров при государственных филармониях и
в Москве не было ни одной школы, института или завода, в которых бы не существовало хотя бы одной рок-группы; то есть их общее число достигало нескольких тысяч. А значит, в сфере популярной культуры действовало и несколько тысяч частных и независимых продюсеров [130].
Хотя с последним утверждением вряд ли можно согласиться — большинство подобных групп не нуждалось в «продюсерах» или «администраторах», поскольку экономическая сторона деятельности почти полностью отсутствовала, — Старр, безусловно, прав в том, что любительских групп (самого разного, в основном довольно низкого музыкального уровня) в тот период было невероятное множество. Причем не только в Москве, о которой он пишет, но и по всей стране. Виктор М., любитель рок-музыки из Смоленска, которого мы встречали выше, в начале 1970-х годов начал играть на гитаре в подобном рок-ансамбле в своей смоленской школе. Наиболее серьезные из таких групп, не имея возможности записываться в профессиональных студиях, начали записывать свои собственные «кассетные альбомы» на катушечных магнитофонах, некоторые из которых несколько позже стали расходиться по стране в магнитофонных копиях. Позже технологию этого производства назовут магнитиздатом [131].
Итак, постоянная пропаганда государством всесторонне развитого и образованного советского человека-интернационалиста, интересующегося культурой, наукой, историей и иностранными языками, а также наращивание государством производства радиоприемников и магнитофонов способствовали возникновению новых творческих увлечений в среде советской молодежи, которые государство предвидеть не могло и объективно оценить было не в состоянии. Парадоксальность политики государства в отношении музыки и других форм культурного производства, заимствованных с Запада, была отражением более широкого парадокса государственного социализма, видевшего своей целью полное освобождение культуры путем полного контроля над ней. В области рок-музыки этот парадокс проявился, например, в создании в 1981 году Ленинградского рок-клуба — ассоциации «любительских» рок-групп под официальной эгидой комсомола и негласным патронажем и надзором КГБ [132]. Как с иронией заметил один музыкальный критик, эта ситуация «была выгодна для всех» — как для музыкантов-любителей, «получавших относительную свободу (например, возможность издавать некоторые печатные материалы, устраивать выставки, концерты, иметь место встреч)», так и для государства, получавшего возможность наблюдать за растущим сообществом рок-музыкантов и любителей рок-музыки [133]. Большинству музыкантов рок-клуба о курировании со стороны КГБ и партийных органов было известно, но они также прекрасно осознавали, что этот контроль не был полным и до некоторой степени его можно было обходить. Например, хотя тексты песен, исполняемых группами — членами рок-клуба, должны были проходить предварительное утверждение («литование») у официально назначенного цензора, на практике этот вид контроля обычно обходился несколькими способами. Согласно одному из них в ранее утвержденные тексты песен вносились изменения прямо по ходу выступления (при условии, что на нем не присутствовало официальных лиц) [134]. Сергей Паращук, лидер группы «НЭП», состоявшей в ленинградском рок-клубе, вспоминает ситуацию начала 1980-х:
Воздействия КГБ я не испытывал. Единственное — надо было литовать тексты, но наиболее часто мы обманывали: давали тексты, которые не исполняли, и на них нам ставили штампы. Ты ехал с этой литовкой на концерт, а пел абсолютно другое [135].
Существовали и другие методы. Например, поскольку слова песен большинства рок-групп в тот доперестроечный период (в отличие от периода поздней перестройки) были сильно завуалированы и не относились к откровенной политической критике (см. главу 4), можно было выдумать самые разные толкования использованных образов и метафор в беседе с цензором. Некоторые песни даже «литовались» как песни, якобы являющиеся критикой политики буржуазных стран. Через пару лет после открытия рок-клуба у него появился свой собственный штатный цензор, Нина Барановская, которая была ненамного старше музыкантов и относилась к их творчеству с интересом и сочувствием. Она вспоминает:
Один из способов литовки мне невольно подсказал Костя Кинчев [136], он принес текст «Мое поколение», на котором был эпиграф, что [она] посвящается каким-то событиям в
Бессменный президент рок-клуба и один из его создателей, Николай Михайлов, тоже вспоминает, что «под разными предлогами [Нина] литовала практически все. Какую-то майковскую песню [138] описывала как “посвящение агрессии США в Никарагуа”. Это все нам здорово помогало…» [139].
Таким образом, статус группы, зарегистрированной в
В условиях частичного государственного контроля в этой среде выработалось слегка насмешливое отношение абсолютно ко всему, включая не только абсурдные стороны советской системы, но и слишком активную критику этой системы [140]. Дмитрий, студент филологического факультета Ленинградского университета, родом из Запорожья (1962 г. р.), в начале 1980-х постоянно ходил на концерты рок-клуба. Он вспоминает, что они проходили в «странной атмосфере скоморошества», ярким примером которого были выступления группы «Странные игры»: «Они иронизировали по поводу абсолютно всего. Для меня до сих пор остается загадкой, как им вообще разрешали выходить на сцену. Я слышал, что у них иногда бывали проблемы, но, тем не менее, они продолжали давать концерты» [141].
Имена и другие «пустые» символы
Знаки воображаемого Запада широко распространились и в языке — в частности, в придумывании всевозможных жаргонных имен. Вспомним, что в 1950-х годах стиляги Москвы и Ленинграда именовали центральные части улицы Горького в Москве и Невского проспекта в Ленинграде Бродвей, или Брод [142]. Свои Бродвеи и Броды существовали во многих городах СССР [143]. Друг друга стиляги тоже чаще называли английскими (и реже французскими) именами — Джон, Джим, Мэри, Жак, Поль [144]. Позднее, в 1970—1980-х годах, в разговорной речи школьников и студентов стало обычным заменять русские имена на английские и реже французские эквиваленты: Михаил получал имя Майк или Мишель, Алексей — Алекс, Андрей — Энди или Андре, Борис — Боб, Елена — Мадлен, Маргарита — Марго [145]. Хотя этими именами детей «официально» никто не называл, они не были совсем чужими и незнакомыми в советском контексте, поскольку многие из них часто встречались в литературе, западных радиопередачах, песнях; это были имена западных рок-музыкантов и киноактеров, а поэтому они с легкостью входили в разговорную речь. Многие любительские рок-группы 1960—1970-х годов тоже брали себе английские названия. Вот лишь три примера из тысяч: известная московская группа «Машина времени» возникла из ансамбля с англоязычным названием The Kids, который Андрей Макаревич организовал в своей школе в середине 1960-х [146]; коллекционер западных пластинок Виктор М. из Смоленска, о котором шла речь выше, в середине 1970-х годов в своей смоленской школе играл в группе Mad Dogs; в ленинградской школе № 238, у Новой Голландии, в середине 1970-х существовал ансамбль Mad Lorry [147].
К 1970-м годам советское городское и социальное пространство было усеяно «западными» жаргонными названиями, указывающими на повсеместное присутствие в них воображаемого Запада. Как известно, частных кафе в тот период не было — все кафе были государственные, и названия, которые они могли носить, были ограничены небольшим набором. Чаще всего встречалось просто название «Кафе», а чуть реже нейтрально-положительные имена, не привязанные ни к какому пространству и времени («Улыбка»,«Сказка»,«Радуга») или отсылающие к общеизвестным советским понятиям, достопримечательностям, топонимам — «Белые ночи», «Москва», «Украина», «Летний сад». Но на сленге многие ленинградские кафе были известны под другими названиями — «Сайгон», «Ольстер», «Ливерпуль», «Лондон», «Рим», «Вена», «Тель-Авив» (см. главу 4) [148]. В основном это были названия зарубежных городов, часто упоминавшихся в советской печати в связи с теми или иными культурно-политическими новостями, явлениями или просто местами — от войны во Вьетнаме, конфликта в Северной Ирландии и противостояния на Ближнем Востоке («Сайгон», «Ольстер», «Тель-Авив») до музыки Beatles и известных западных столиц. Однако, несмотря на, казалось бы, политическое происхождение многих из этих имен, они функционировали на сленге не как отражения каких-то политических позиций, а как отсылки к пространству воображаемого Запада вообще. Их постоянные упоминания в советских СМИ делали эти имена удобными, легко узнаваемыми символами. Однако смысл их в разговорной речи менялся — они становились индексами воображаемого Запада, потерявшими оттенок критического дискурса.
В те годы стены комнат студенческих общежитий по всей стране были увешаны фотографиями, среди которых тоже постоянно попадались отсылки к воображаемому Западу — фотографии зарубежных вещей, городов, музыкальных групп, машин, а также географические карты и, как вспоминает студент ЛГУ Дмитрий (см. выше), «плакаты с живописью западных авангардных художников, не представленных в советских музеях» [149]. Американская студентка Андреа Ли, прожившая год в общежитии Московского университета на Ленинских горах осенью 1978-го — весной 1979-го, писала в своем дневнике, позже опубликованном в США, о том, как ее удивило обилие западной символики на стенах советских студенческих комнат. Даже в комнате секретаря комсомольской организации Григория стены были не просто «увешаны, а почти целиком заклеены рекламой напитков и автомобилей, аккуратно вырезанной из американских журналов, которые Григорий получал в подарок от своих иностранных знакомых» [150].

В те годы во всех уголках страны подростки использовали пустые бутылки

Символическая пустота была важной чертой не только иностранных товаров потребления, но и «культурных продуктов», включая музыкальные композиции и языковые высказывания. Слова песен иностранных рок-групп тоже могли функционировать как относительно «пустой» символический материал, который с легкостью наполнялся новым содержанием. Кроме того, незнакомые, искаженные или даже выдуманные «английские» слова (например, произносимые с имитацией английского призношения) прекрасно выполняли функцию индекса, отсылающего к воображаемому Западу, независимо от того, известен ли был буквальный смысл этих слов и выражений и имели ли они такой смысл вообще. В начале 1980-х годов многие студенты советских вузов ходили на занятия с иностранными пластиковыми пакетами, купленными с рук. На поверхности этих пакетов, в которых лежали тетради и учебники, были нанесены рисунки и фотографии, а иногда только иностранные слова, значение которых в данном контексте заключалось не в их дословном смысле, а в том, что они были написаны латинским шрифтом, с необычным дизайном и потому однозначно отсылали к воображаемому Западу. Михаил, студент Ленинградского университета, в конце 1970-х годов ходил на лекции с пластиковым пакетом, на котором по-английски были написаны название и адрес какой-то
В конце 1970-х — начале 1980-х годов иностранные туристы на улицах советских городов подчас становились свидетелями странных, с их точки зрения, ситуаций. Многие пешеходы, включая, например, скромно одетых пожилых женщин, ходили по улицам с импортными полиэтиленовыми пакетами, на которых были изображены фривольные картинки с полуобнаженными девушками в обтягивающих джинсах. Для иностранного наблюдателя вид пожилой женщины с подобной картинкой, выставленной напоказ, выглядел как непонятное и даже абсурдное смешение кодов. Но для большинства советских пешеходов ничего абсурдного в этом, естественно, не было. Они почти никогда не «читали» эти изображения напрямую, на уровне буквального смысла, на этом смысловом уровне изображения были для них почти «прозрачны». Изображения играли другую роль — они были «пустыми» оболочками (как пустые банки
Смысл аутентичности: лейбл, бренд, фирмá
Среди ярких перформативных символов воображаемого Запада в 1960—1970-х годах были понятия, которые на молодежном сленге назывались «лейбл», «фирмá» и «фирменная вещь». В 1985 году «Литературная газета», описывая диспут в одной из советских школ на тему молодежной моды, дала иронично-критическую иллюстрацию этих жаргонных понятий. В процессе диспута одна школьница по имени Сонька спросила по поводу какой-то модной вещи:
А где «лейбл»? Как на Соньку все набросились: «Как ты выражаешься, мы тебя не этому учили, что это еще за “лейбл”?» Сонька чуть не плачет и объясняет, что «лейбл» — это такая маленькая этикетка, которая есть на каждой фирменной вещи, и что в этом году ей подарили привозной батник и там «лейбл» был [151].
В объяснении школьницы был удивительно точно схвачен особый советский смысл этих понятий. Хотя советский термин лейбл, как и английский label, от которого он произошел, означал фирменную марку, ярлык, этикетку на
Эта особенность советских понятий лейбл и фирменная вещь хорошо прослеживается в сравнении цен на различные виды одежды в 1970-х годах. Хотя вещь, произведенная известной западной фирмой, была особенно в цене, неизвестная «западная» фирма ценилась не намного меньше, а иногда так же высоко. Разница в цене между известными в Советском Союзе марками американских джинсов (Lee, Super Rifle, Wrangler), купленных на черном рынке, и незападными джинсами (польскими «Одра», индийскими «Милтонс», болгарскими «Рила»), купленными в советском магазине, была колоссальной — первые стоили от 150 до 300 рублей, а вторые — 15—30 рублей [152]. Но разница в цене между известными американскими марками и неизвестными западными марками джинсов была незначительной. На черном рынке неизвестных, но западных марок джинсов (всевозможных финских, итальянских, немецких) было не меньше, чем известных. Можно привести другой пример: женские кожаные сапоги обычно характеризовались не как сапоги известной или неизвестной марки обуви, а как «итальянские», «французские», «шведские» и так далее. Высокая цена платилась в первую очередь не за конкретный «бренд» (хотя известная марка часто была несколько дороже неизвестной), а за фирменность, то есть «западную» материальность продукта как такового.
Более того, поскольку важна была связь вещи не столько с реальным, сколько с воображаемым Западом, вещь могла восприниматься как относительно фирменная, даже если она была местного происхождения. К таким вещам относились подделки под реальные западные фирмы и просто вещи, выполненные «под Запад». Все же, как только выяснялось, что это была подделка, ее прямой контакт с воображаемым Западом, а значит и ее фирменность, уменьшался. Поэтому местная подделка под джинсы известной западной фирмы была хуже, чем джинсы неизвестной, но все же настоящей западной фирмы. За хорошую подделку, произведенную у нас, так много как за реально фирменную вещь, не заплатили бы.
Люба, 1958 года рождения (которую мы встречали в роли комсорга в главе 3), как-то столкнулась с тем, что хорошие местные подделки западных джинсов были практически неотличимы от настоящих. Люба знала одного ленинградского портного, шившего поддельные западные джинсы. Шили их из «фирменной» (итальянской) джинсовой ткани, рассказывает Люба, «по фирменным лекалам, со швами оверлок, со всеми деталями», нашивая на них настоящие (или поддельные) пуговицы, молнии и лейблы западных фирм. Люба интересовалась западной одеждой и не раз с подругами рассматривала западные джинсы во всех деталях. Она неплохо разбиралась в джинсах, но многие подделки делались так хорошо, что однажды даже она ошиблась. Люба рассказывает :
…мы с мужем купили мне с рук джинсовое платье, полностью уверенные в том, что оно было настоящим. Оно было прекрасно пошито и отлично смотрелось на мне. И на нем был настоящий лейбл. Мы ужасно расстроились, когда вдруг выяснилось, что это была хорошая подделка [153].
Западная фирма, лейбл которой был нашит на платье, была Любе незнакома — «это было что-то вроде Blue jeans или Black flag». Но не это было важно. Подделкой в данном случае оказалось не авторство конкретной фирмы, а западное происхождение купленной вещи вообще, а значит, уровень ее «фирменности» резко упал. Люди применяли изощренные способы проверки, чтобы удостовериться, что вещь была действительно западного происхождения. Люба рассказывает:
…мы внимательно осматривали каждый шов, выворачивали брюки наизнанку, терли ткань мокрой спичкой, чтобы проверить, настоящий ли на ней краситель, в деталях проверяли каждую пуговицу, заклепку, молнию и лейбл. Если бы оказалось, что это не фирменные джинсы, никто бы не дал за них 180 рублей. Даже если они были отлично сшиты и их было не отличить от настоящих [154].
Когда молодые люди из советской провинции просили своих друзей из больших городов прислать им «фирменные джинсы» (которые, подобно магнитофонным записям, распространялись по всей стране, хотя и в меньших количествах), они обычно не указывали конкретную марку джинсов. Важнее было, чтобы они были очевидно западного происхождения, то есть фирменными. Весной 1975 года Алексей, шестнадцатилетний юноша из Якутска, в письме своему школьному другу Николаю, недавно переехавшему с родителями в Ленинград, просил того прислать ему просто «джинсы», имея в виду фирменные джинсы, не уточняя, какая именно фирма имеется в виду. Достать фирменную одежду в Ленинграде было гораздо проще, чем в Якутске. 21 апреля 1975 года Алексей завершил свое письмо Николаю так:
Да, насчет джинс. К маю ты все равно, наверно, не успеешь мне купить, ну тогда постарайся, Колька, хотя бы в мае. Очень тебя прошу, ведь джинсы незаменимая вещь летом [155].
В следующем письме от 14 мая 1975 года Алексей с нетерпением напоминал Николаю:
Коль, извини за назойливость, но я еще раз хочу спросить насчет джинс. Как там, можно [или] нет [их] купить? Ты, Колька, сам понимаешь, лето на носу, а джинсы летом незаменимая штука. Если есть, то купи пожалуйста и вышли, деньги я тебе сразу переведу. Еще раз напомню тебе о размере. Размер — 48, рост — 4 или 5 [156].
Другой друг Николая, Александр, студент Новосибирского университета, двумя годами позже, 10 июля 1977 года, послал ему из Новосибирска в Ленинград письмо с аналогичной просьбой достать джинсы (которые в письме называются популярным в те годы жаргонным словом штаны). То, что речь шла именно о
Николай, в прошлом письме ты написал, что штаны мне обойдутся в 18.0. А я не понял. Если в 18 рублей, то это очень дешево, а если в восемнадцать червонцев, то это слишком дорого, и я сам за столько смогу купить это здесь, да к тому же мы с тобой, помню, договаривались, и ты обещал мне достать подешевле. Ну, в общем, напиши мне подробнее. Я буду ждать [157].
Все эти лейблы, фирменные стили одежды и визуальные образы, так же как и западные имена, музыкальные записи и языковые выражения из вышеперечисленных примеров, были не просто популярными знаками молодежной культуры, а знаками особого вида — индексами, связывающими советское пространство и советскую субъектность с иным измерением воображаемого Запада. Большая привлекательность этих знаков и артефактов для советской молодежи заключалась в том, что они давали возможность каждому участвовать в творческом производстве вполне реального и единого для всех мира, который не был ни советским, ни реально западным, который был вплетен в советскую действительность, постоянно наделяя ее новыми смыслами.
Принципиальный отрыв этих индексов воображаемого Запада от репрезентации того буквального смысла, которым аналогичные знаки были нагружены в западном контексте, позволял им сосуществовать в одном пространстве с самыми разными культурными знаками — от книг классической русской культуры до символов советской идеологии. В комнате одного студента в общежитии Ленинградского университета в начале 1980-х годов, вспоминает Дмитрий (см. выше), рядом с фотографиями английских рок-групп Police и Madness висел портрет Феликса Дзержинского. Этот парень был на несколько лет старше Дмитрия и до университета успел отслужить в частях Советской армии, воевавших в Афганистане, чем он и объяснял свое уважение к Дзержинскому. Хотя подобное смешение символов было, безусловно, редкостью, сам факт того, что оно было возможно, в принципе говорит о многом. У самого Дмитрия фотографии английских рок-групп соседствовали с бюстом Чехова и портретом Чайковского [158]. У Николая, студента ленинградского технического вуза, приехавшего из Якутска (которому посылали письма его друзья из Якутска и Новосибирска — см. выше и главу 6), вся комната была увешана фотографиями «Битлз», а на полке стояло полное собрание сочинений Ленина, которое Николай терпеливо собирал по частям в течение нескольких лет. А на рис. 25 мы видели портрет Брежнева по соседству с портретом Леннона [159].
Особенности советских понятий «лейбл» и «фирменная вещь» становятся видны еще лучше, если их сравнить с понятием «бренда» (brand), распространенным в западном контексте и широко распространившимся в России постсоветского периода. Бренд — это тоже торговая марка, нанесенная на продукт потребления. Роль бренда заключается в том, чтобы гарантировать подлинность продукта. Однако как именно он выполняет эту функцию — не всегда очевидно. Как показала Роузмэри Кумб (Rosemary Coombe), в западном контексте бренд делает это двумя различными способами. Во-первых, бренд дает обещание потребителю, что конкретный экземпляр продукта является реальной копией оригинала (разработанного фирмой дизайна продукта, студийной записи музыкального альбома и так далее). Во-вторых, бренд функционирует как своего рода след или отпечаток пальца, оставленный на продукте теми, кто его изготовил, — то есть является свидетельством физического контакта между данным экземпляром продукта и его автором [160]. Очевидно, что эти две функции бренда не одинаковы — например, отлично выполненная подделка известного бренда выполняет первую функцию (является верной копией оригинального дизайна), но не выполняет вторую функцию (не имеет реального свидетельства контакта с автором). Отличие этих двух функций бренда можно также проиллюстрировать, сравнив два одинаковых экземпляра одной и той же книги, которые отличаются лишь тем, что первый экземпляр имеет на первой странице автограф автора, а второй — нет. Обе книги являются верными и абсолютно идентичными копиями оригинала (первая функция бренда), но имеют разные свидетельства живого контакта с автором (вторая функция). Это отличие может быть отражено, к примеру, в разных ценах на эти два экземпляра — издание с автографом автора может цениться намного выше [161].
В советском контексте культурные формы, символы, продукты или языковые выражения воображаемого Запада отличались одной общей особенностью — независимо от того, насколько подлинными, поддельными или просто выдуманными «западными» символами они являлись, самой главной для них была вторая функция бренда. Они функционировали как свидетели физического контакта с воображаемым Западом. Даже настоящие лейблы известных западных фирм на джинсах или пластинках являлись в первую очередь не столько гарантией их качества, сколько свидетелями контакта — своего рода отпечатками пальцев, которые воображаемый мир оставил на поверхности советской жизни. Именно в этом заключалась их основная «фирменность» и ценность. Именно поэтому дружескую кличку Боб, джинсы «Супер Райфл» и магнитофонную запись рок-н-ролла можно рассматривать как похожие по функции символы.
Из всего сказанного становится очевидно, что символы воображаемого Запада, которые в тот период циркулировали в Советском Союзе в огромных количествах, нельзя интерпретировать лишь как свидетельства потребительского отношения к жизни или преклонения советской молодежи перед буржуазной культурой. Напротив, особый способ использования этих символов в советском контексте можно сравнить с некоторыми «антипотребительскими» практиками на Западе. В 1980-х годах среди американских студентов было модно отрезать фирменные ярлыки и лейблы с джинсов, курток и другой одежды или носить свитера, на которых было нанесено название фирмы, наизнанку, так чтобы название не читалось. Все это как бы лишало одежду принадлежности к бренду. Подобная реинтерпретация продуктов потребления в контексте капитализма, как считает Пол Виллис, была видом протеста молодежи против повсеместной гегемонии брендов и «усреднения» субъектов посредством неизбежного потребления этих брендов [162]. Однако не стоит рассматривать подобные действия лишь с позиции сопротивления капиталистической системе ценностей. То, что бренд становился невидимым, не подрывало его роли в формировании вкуса молодых людей на Западе — они продолжали носить фирменные джинсы с оторванными этикетками, вместо того чтобы не носить таких джинсов вовсе.
Советскую практику изобретения своих собственных «западных» лейблов, символов и названий, а также практику цитирования западных символов, лейблов или языковых выражений следует интерпретировать аналогичным образом. В советском контексте было важно, чтобы лейблы были хорошо видны. Поэтому кто-то занимался тем, что перешивал иностранные этикетки с внутренней стороны брюк и курток на внешнюю; кто-то вязал себе свитера и спортивные лыжные шапки с английскими словами Ski, Love и другими, кто-то устраивал инсталляции из пустых пивных банок и сигаретных пачек. Эти действия производились не в условиях гегемонии брендов, как при капитализме, а в условиях господства советского авторитетного дискурса, застывшие формы и ритуалы которого наполняли советскую жизнь. Используя символы, лейблы, предметы и языковые выражения воображаемого Запада, советская молодежь реинтерпретировала контекст своей жизни, в котором доминировал авторитетный дискурс, меняя его дословный смысл, но не игнорируя общий культурный контекст социализма, его возможности, принципы и ценности. Американская молодежь совершала аналогичную процедуру, но в контексте, где доминировал дискурс брендов и рынка. Она делала свои лейблы «невидимыми», а советская молодежь, напротив, делала свои — «видимыми». Такими процедурами и те и другие изменяли смысл окружающей реальности, при этом не участвуя в прямом сопротивлении доминирующему политическому «режиму». В обоих случаях эти действия способствовали частичному воспроизводству политического режима — гегемонии капиталистических брэндов или гегемонии авторитетного дискурса партии. Однако в советском контексте смещение смыслов реальности, в том числе посредством ввода в нее воображаемого Запада, постепенно и невидимо готовило почву для будущего неожиданного обвала советской системы.
Как и в предыдущих примерах из области музыки и моды, объектом критики в советской прессе 1970—1980-х годов был не столько интерес советской молодежи к западным символам, продуктам или лейблам, сколько крайние проявления этого интереса, которые интерпретировались как проявление моральной незрелости, эгоизма или интеллектуальной лени. Как и прежде, результаты этой критики были неоднозначны. На карикатуре 1974 года в журнале «Крокодил» изображены два длинноволосых подростка в расклешенных штанах. Один из них курит сигарету, держит в руках гитару, а на его расклешенных брюках видна заплатка с английским словом Cowboy. Очевидно, парень пришил заплатку сам, чтобы добавить «фирменности» своей одежде. Второй подросток спрашивает с восхищением: «И где ты такую заплатку оторвал?!» На другой карикатуре «Крокодила», 1978 года, изображен жеманный юноша, с капризной слезливостью заявляющий своей пожилой матери: «Или джинсы “Супер-Райфл”, или объявляю голодовку…» На третьей карикатуре, 1981 года, взрослый сын беспардонно обращается к матери: «И зачем ты меня, мать, на свет родила, если на жизнь денег не даешь?» Одежда, в которую он одет, и символы, окружающие его, — явно несоветского происхождения. На джинсах — лейбл Lee, на бутылках — этикетки Martini и Whisky, на стене висит рекламный символ «Пепси-Колы» и фривольный иностранный плакат с женщиной в бикини и английским словом «drink». А рядом с кроватью стоит коротковолновый приемник ВЭФ (на то, что парень слушает коротковолновые — то есть иностранные — передачи, указывает выдвинутая телескопическая антена).

Согласно этим карикатурам, «западной» одеждой, музыкой и образами интересовались аморальные, бессовестные, необразованные переростки, которые вместо того, чтобы работать, увлекались «западной культурой» и жили на иждивении стариков-родителей. Как и раньше, подобная критика способствовала лишь нормализации интереса к воображаемому Западу среди большинства нормальной советской молодежи, которая не ассоциировала себя с ленивыми и аморальными подростками, поскольку интерес к зарубежной музыке, моде и языкам совмещался у нее с интересом к учебе, работе и «высокой культуре». С этой точки зрения интересно сравнить рис. 26 и 30. Одежда и прическа героя и множество деталей обстановки, изображенные на карикатуре «Крокодила» на рис. 30, удивительно напоминают вышеприведенный фотографический автопортрет молодого человека из Владимира на рис. 26 (за исключением портрета Брежнева в комнате последнего). Причем и карикатура и автопортрет относятся к 1981 году. Но не похоже, чтобы молодой человек на фотографии ассоциировал себя с бесстыжим бездельником, изображенным на карикатуре (аморальность которого подчеркивается присутствием на карикатуре его пожилой матери).
Однако это смешение ценностных категорий не всегда проходило незаметно и временами ставило людей перед необычным этическим выбором. Например, хотя интерес к западным джинсам, сапогам, косметике или пластинкам не воспринимался как
Существовали разные каналы, по которым можно было достать западные вещи. Но для таких, как я, они были практически недоступны. Надо было не просто иметь деньги, но быть ловким и пронырливым. Человек [фарцовщик], который продавал джинсы [в общежитии университета], был мне неинтересен и неприятен. Честно говоря, мне не хотелось иметь ничего общего с такими типами. Конечно, у меня был определенный вкус в одежде, и я хотел иметь определенные вещи, которые было трудно достать. Например, джинсы. Но мне было неприятно как-то особо напрягаться ради удовлетворения этого желания. У большинства студентов вокруг меня было такое же отношение. Очень мало кто знал фарцовщиков лично или тем более дружил с ними [163].

Фарцовщики представляли собой немногочисленную группу, отличающуюся от большинства людей не только «пронырливостью», но и ярко выраженным интересом к
Уже через пару минут Ольга ощупывала своими белыми руками с накрашенными розовыми ногтями мои джинсы и платья, проверяя швы и качество материала и по ходу делая замечания, из которых я узнала гораздо больше, чем хотела, о черном рынке… «Очень красиво…» — говорит она, осматривая джинсовую куртку. «За это вам бы дали рублей двести, может даже двести пятьдесят…» «А это что — трусики? Дорогая моя, за каждые можно получить по двадцать, а то и тридцать рублей. Русские девчонки страдают без красивого белья. Кстати, не хотите ли продать вашу оправу для очков или этот милый зонтик»… Мы просмотрели вещи Тома [мужа Андреа, тоже студента из США], мою косметику, наши книжки и музыкальные пластинки. У каждой вещи была своя завышенная цена. Пластинки стоили от пятидесяти до семидесяти пяти рублей за штуку. И все это возбуждало в Ольге страсть, которая явно выходила далеко за рамки обычного делового интереса. Стоя рядом с ней, вдыхая тонкий аромат ее духов и наблюдая за ее суетливыми ручками и сверкающими глазками, я испытала смешанные чувства — раздражение от того, что позволила себе оказаться в роли жертвы, виноватую гордость от обладания такими богатствами и отвращение к патологической меркантильности Ольги [164].
Именно такое восприятие фарцовщиков — как людей беспардонных, меркантильных, с горящими от жадности глазами — побуждало многих сверстников Дмитрия избегать контактов с ними или сводить такие контакты к минимуму, хотя многие из них и хотели иметь джинсы или другие фирменные вещи. В конце концов Дмитрий все же приобрел американские джинсы, но у своего близкого друга, что позволило ему избежать прямого общения с фарцовщиком и риска самому показаться в чужих глазах расчетливым дельцом. Характерной чертой последнего советского поколения было желание приобретать вещи, доступные на черном рынке, и одновременно избегать ассоциаций с аморальным образом дельца. Только поняв это двоякое отношение, можно разобраться в парадоксальных ценностях, из которых формировалось неутолимое советское стремление к воображаемому Западу [165].

Таким образом становится понятно, почему для большей части советской молодежи не было ничего странного в том, что секретарь комитета комсомола, который выступал с коммунистическими речами и организовывал комсомольскую работу, мог носить иностранные джинсы, увлекаться западной музыкой и иметь английскую кличку среди друзей. Авторитетный дискурс советской системы и дискурс воображаемого Запада не просто не были взаимоисключающими символическими системами, а, напротив, во многом зависели друг от друга, являясь взаимообразующими системами, находящимися в необычном симбиозе. Без доминирования авторитетной риторики в советской повседневности дискурс воображаемого Запада не смог бы существовать. И наоборот, без существования разных несоветских миров внутри советской системы (одним из которых был воображаемый Запад) воспроизводство гипернормализованного [166] авторитетного дискурса было бы невозможно. Однако, несмотря на то что эти две символические системы существовали в симбиозе, этот симбиоз не был для советской системы безобиден. Напротив, появление и распространение воображаемых миров внутри социалистического общества постепенно и незаметно меняло всю культурную логику этой системы, детерриториализуя ее изнутри и делая ее все менее соответствующей тому, как она сама себя описывала.
Реальный Запад
Когда в конце 1980-х годов, в результате перестройки, священная советская граница начала открываться, стало вдруг очевидно, что воображаемый Запад значительно отличается от Запада реального. С этим открытием все изменилось, и символическое пространство воображаемого Запада в конце концов постигла та же участь, что и всю советскую систему, внутри которой это пространство возникло, — оно исчезло, быстро и бесследно. Для последнего советского поколения осознание того, что их воображаемый мир и советская система всегда были неразрывно связаны друг с другом стало откровением. Когда многие из них впервые съездили на Запад в конце 1980-х годов [167], самым неожиданным открытием для них стали не проявления высокого уровня жизни (то, как выглядят западные люди, машины или магазины, они все же отчасти представляли), а внезапное осознание того, что реальный Запад является чем-то обычным, даже прозаичным. Один представитель этого поколения из Ленинграда, музыкант Марат (1956 года рождения), после первого посещения Лондона в 1989 году вспоминал, как его поразила пыль, лежавшая на лондонских улицах, белье, сушившееся на балконах, кошки, дремавшие в окнах, — все то, что является знаками монотонной, скучной обыденности, а потому ассоциировалось для него с советской реальностью. Когда искусствовед Екатерина Деготь (1958 года рождения) впервые посетила Западную Германию в конце 1980-х, ее поразило, как часто в немецких лесах и парках встречается береза — дерево, которое в советском контексте воспринималось как символ русскости и даже советскости и которое трудно было представить в контексте воображаемого Запада [168].
То, что воображаемый Запад был неотъемлемой частью советского контекста, проявилось не только в некотором разочаровании советских людей, впервые оказавшихся в западных странах и столкнувшихся там с бытовой прозой западной жизни, но и в том особом внимании, с которым они старались отыскать все больше примеров этой прозаичности, одновременно поражаясь ей. Василий Аксенов писал о похожих открытиях и разочарованиях среди советских эмигрантов своего поколения, столкнувшихся с Америкой десятилетием ранее. Когда-то, в Советском Союзе 1950—1960-х годов, воображаемая Америка была частью жизни его круга. Она была веселым, беспечным миром, наполненным при- чудливыми именами, звуками и образами. Им казалось, писал Аксенов, что Америка — это
…самый что ни на есть перекресток универсального космополитизма, [где] сводка погоды на ТВ непременно сообщает о температуре воды в Ницце, о глубине снежного покрова на Килиманджаро, а в новостях рассказывается о новых ботинках испанского короля, о придворных интригах при ЦК компартии Китая, о продвижении марксизма в глубь Новой Гвинеи и т.д.
Понятие скуки не имело к этому образу никакого отношения в принципе:
Как может быть скучно в городе с именем Индианаполис или в штате со свистящим, словно ветер приключений, названием Миннесота? И далее — полыхающие в ночи рекламами острова сервиса: PIZZA HUT, BURGER KING, EXXON, K-MART, GRAND UNION, огромные паркинги, редкие фигуры, идущие к машинам, движение светящихся фар…
Но столкновение с реальной Америкой разрушило воображаемый мир:
Многие эмигранты признавались, что они были совершенно ошеломлены феноменом американской скуки… [когда] вдруг выясняется, что все это — рутина, глухомань, одиночество. Лос-Анджелес, Калифорния, Голливуд, Сансет-бульвар… Воображение, даже не особенно развитое, бьет копытами, готовится в полет, как конь Пегас, и вдруг опадает мокрой тряпкой — вымершие после заката улицы, «эффект нейтронной бомбы», уныние, рутина [169].
Когда сталкер наконец приводит героев книги Стругацких [170] к заветной комнате в центре Зоны, они, к своему удивлению, не находят там ничего особенного. Однако сталкер требует держать это открытие в тайне, чтобы не дать другим потерять надежду [171]. Реальный западный мир, с которым столкнулось последнее советское поколение, оказался даже менее похож на советский воображаемый Запад, чем это казалось аксеновским эмигрантам предыдущего десятилетия. Разница была в историческом контексте — в том, каким образом осуществлялась встреча с Западом и прощание с СССР. Эмигранты 1970-х годов уезжали насовсем, сжигая мосты, а в конце 1980-х — начале 1990-х делать это было не обязательно. С другой стороны, для тех, кто уезжал в 1970-х, за границей оставался вполне реальный, мощный Советский Союз, а для тех, кто ездил по заграницам в начале 1990-х, Советского Союза на карте больше не было… Теперь, после распада СССР, воображаемый Запад был утрачен не только для эмигрантов, но для всех бывших советских граждан. И утрачен он был навсегда. Вместе с ним были утрачены и все те среды и публики своих, наполненные альтернативными смыслами, творчеством и дружбой, неотделимые от реального социализма и необходимые для формирования внутри него «нормальной» жизни. Самым ошеломляющим открытием было то, что воображаемый Запад и другие воображаемые миры стали исчезать по тем же причинам, что КПСС и вся советская система. Теперь и на то, и на другое можно было оглянуться с одинаковым изумлением во взгляде. Герой романа Пелевина Generation П, размышляя о советском прошлом с позиции постсоветских 1990-х, жалеет об исчезновении именно этих воображаемых миров, которые он называет «паралелльной вселенной». Он вдруг осознает, что многое из того,
что когда-то [ему] нравилось и трогало его душу, приходило из этой параллельной вселенной, с которой, как все были уверены, ничего никогда не может случиться. А произошло с ней примерно то же самое, что и с советской вечностью, и так же незаметно [172].
Поздний социализм. Советский субъект и неожиданность обвала системы
_________________________________
[1] Интервью с Андреем Тарковским о его фильме «Сталкер», 1979 год, цит. по: de Baecque 1989: 110.
[2] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1995 год.
[3] Многонациональность и многоязыкость определения «советский» проявлялись в реальной любви к грузинской кухне и среднеазиатскому плову, Рижскому взморью и побережью Крыма, улочкам Одессы и Таллина, набережным Ленинграда и рынкам Самарканда, горам Кавказа и озеру Иссык-Куль. Все это подогревалось официально распространяемой идеологией равенства и дружбы различных национальных групп, что в основном соответствовало личному опыту большинства советских гражданин позднесоветcкого перида. См. также: Humphrey 2002a.
[4] «Лицедеи» рассказывали об этом во время своих камерных выступлений, называемых «бяками», перед относительно узким кругом знакомых и коллег. В первой половине 1980-х годов автор не раз присутствовал на этих выступлениях.
[5] Веллер 2002: 291.
[6] См. также: Yurchak 2002.
[7] Вайль и Генис 2001: 137—138.
[8] Foucault 1998с: 179.
[9] См. также о важности «стадии зеркала» в формировании суверенного субъекта у Лакана (Лакан 1997), см. также прекрасный комментарий к Лакану в: Мазин 2005.
[10] Генеалогический метод анализа культурно-исторических понятий и феноменов был описан Ницше в книге «Генеалогия морали» 1887 года (см.: Ницше 2013) и развит Мишелем Фуко в книге «История безумия в классическую эпоху» 1961 года (Фуко 2010), а также в его же статье «Ницше, генеалогия, история» 1971 года (Фуко 2000).
[11] Foucault 1998b: 312. См. также: Foucault 1972: 109; Dreyfus, Rabinow 1983: 181; Hall 1988, 51.
[12] В ранних работах он также называл ее эпистемой.
[13] См.: Pollock 2008, а также главу 2 данной книги.
[14] Dunayeva 1950: 18.
[15] Жданов 1950: 62—63.
[16] Там же: 72, 74.
[17] Там же.
[18] http://www.belousenko.com/books/Tendryakov/tendryakov_3_esse.htm
[19] В принципе, некая базовая противоречивость отношения к «Западу» имеет в России глубокие корни. Уже более трех столетий она проявляется в постоянном сосуществовании и обмене между «прозападными» и «антизападными» идеологическими позициями. Однако в период позднего социализма это парадоксальное отношение принимает особые политические формы на уровне авторитетного дискурса и нормы, что приводит к мощным внутренним смещениям идеологического пространства СССР.
[20] Egbert 1967: 361. Когда в 1956 году в Музее имени Пушкина в Москве открылась первая выставка работ Пикассо, мнения советской публики в книге для комментариев разделились, четко отражая упомянутый парадокс советской культурной политики и иде- ологических высказываний. Одни зрители писали: «Поражает колоссальный талант», «Гениальный художник», а другие добавляли: «Мало назвать Пикассо растлителем. Это величайший циник нашего времени! Как мог такой навоз попасть на выставку в наш отечественный музей?» и «Поражает, как может коммунист так не уважать зрителя» (цит. по фильму Леонида Парфенова «Глаз божий», серия 2; транскрипт доступен на сайте Первого канала российского телевидения). Следует подчеркнуть, что и те и другие высказывания были одинаково «верны» — то есть одинаково соответствовали различным высказываниям в советской печати и авторитетном дискурсе.
[21] Джазовый вокалист и пианист Сергей Манукян (1955 г. р.) вспоминает, что джаз в СССР часто звучал по радио, даже в периоды частичного запрета: «Просто по радио он звучал не как концертная музыка, а как фоновая в
[22] Другим примером, не связанным с иностранным влиянием, но отражающим общую парадоксальность культурной политики Советского государства, служит советский кинематограф. Как показал Джордж Фарадей, государственные чиновники, управляющие советским кинопроизводством, «способствовали созданию культа независимого кинохудожника, постоянно подчеркивая его идеологическую важность» в публичных речах, в присуждении премий и званий оригинальным кинорежиссерам. В то же время на практике они пытались препятствовать работе тех кинорежиссеров, которые становились действительно независимыми и признанными в этом качестве (Faraday 2000: 12).
[23] Turovskaya 1993a. США начали поставки в Советский Союз продовольствия, техники и других материалов после принятия Закона о
[24] Starr 1994: 205; Чернов 1997a: 32.
[25] Фейертаг 1999: 65; Чернов 1997a: 32.
[26] Цит. по: Фейертаг 1999: 66. Аналогичной непоследовательной критике позже подверглась и западная рок-музыка — см. ниже в этой главе и главе 6.
[27] Показательным примером является проводимое в то время различие между культурой богатых и обычных американцев. В фильме Александрова «Встреча на Эльбе» 1949 года американские генералы в оккупированной Германии изображены как аморальные спекулянты, продающие гражданскому немецкому населению продукты и сигареты по завышенной цене. Однако младшие офицеры и простые солдаты американской армии показаны иначе — как и советские солдаты, чьи казармы расположены поблизости, — они негодуют по поводу буржуазно-колониального поведения своих командиров.
[28] Каплан 1997a: 46; Фейертаг 1999.
[29] Фейертаг 1999.
[30] 31 августа 1948 года Политбюро ЦК ВКП (б) дало разрешение на советский прокат американского и трофейного немецкого кино. Несколько десятков немецких фильмов попало в советский прокат в рамках репараций, которые выплачивала Германия. Самым популярным в советском прокате был фильм «Девушка моей мечты» (в оригинале «Die Frau meiner Träume») с немецкой актрисой и певицей венгерского происхождения Марикой Рёкк в главной роли. См.: Turovskaya 1993a: 104; Stites 1993: 125; Gra y 1998: 181; Die Ungewöhnlichen Abenteuer 1995.
[31] См.: Stites 1993: 125.
[32] Фейертаг 1999: 81.
[33] Turovskaya 1993a и 1993b.
[34] «Долой пошлость!» // Литературная газета. 1947. 19 ноября.
[35] Эренбург 1947: 2.
[36] Dunham 1976.
[37] Дезанти 1956: 4.
[38] Чаковский 1956.
[39] Е. Казаковский, начальник бюро норм и стандартов завода «Электросила», Ленинград. См.: Казаковский 1956: 2.
[40] Энгельгардт 1956: 2.
[41] Чернов 1997b: 37.
[42] Там же.
[43] Фейертаг 1999: 68.
[44] Лурье 1997.
[45] Троицкий 2007; Stites, von Geldern 1995; Edele 2003.
[46] Hebdige 1979.
[47] Этот анализ отличается от марксистского анализа субкультур, который разрабатывался в исследованиях Пола Уиллиса и некоторых других представителей Бирмингемского центра культуральных исследований. Подробнее об исследовательском подходе «культуральных исследований» (cultural studies), его критике и его сравнении с подходами социально-культурной антропологии см.: Юрчак 2005.
[48] Гук 1997: 24—25.
[49] Гук 1997: 24—25.
[50] Troitsky 1988: 2—3; Aksyonov 1987: 13.
[51] Мохель 1999.
[52] Там же.
[53] Каплан 1997b: 30.
[54] Газета «Смена» (1954. 29 мая), цит. по: Лурье 1997: 19.
[55] Гук 1997.
[56] Беляев 1949. См. также: Mass Culture in Soviet Russia 1995: 452.
[57] Беляев 1949. См. также: Stites и von Geldern 1995: 452.
[58] Авторское интервью с Владимиром И., 1995 год, Санкт-Петербург.
[59] Авторское интервью с Владимиром И., 1995 год, Санкт-Петербург.
[60] Попов 1996: 25.
[61] Там же: 26.
[62] Ультракороткие волны, с длиной волны от 0,1 миллиметра до 10 метров (реже применялось радиовещание в диапазоне средних и длинных волн (AM) и еще реже в диапазоне коротких волн).
[63] Эфирное телевидение вещает в диапазонах метровых и дециметровых волн (длина волны от 0,1 до 10 метров). Все, что в этой части главы говорится о природе распространения волн FM- и
[64] Это касается и кабельного телевидения, сигнал которого по кабелю тоже ретранслируется местным провайдером.
[65] Длина волны от 10 до 100 метров.
[66] Ионосфера — верхний слой атмосферы, сильно ионизированный солнечным и космическим излучением. Ионосфера начинается на высоте 80 километров над землей и доходит до высоты 400 километров. Ионизированный газ ионосферы отражает «короткие» электромагнитные волны (длина волны 10—100 метров), но пропускает сквозь себя ультракороткие волны (менее 10 метров), поэтому последние могут применяться, например, для космической связи, а первые — для дальней связи на земле.
[67] Дальность и качество их распространения зависит от длины волны, погодных условий, времени суток, солнечной активности и так далее.
[68] Может показаться, что в последние десятилетия, с появлением спутникового телевидения и радио, а затем Интернета, способ производства и распространения медиаинформации в корне изменился — информация будто бы больше не производится и не транслируется исключительно на местном уровне, а поступает из самых разных мест глобальной сети. Однако эта картина не совсем соответствует действительности: доступ аудитории к новым видам электронных СМИ по-прежнему является местным. Он обеспечивается местной компанией-«провайдером» (Интернета, спутникового телевидения, телефонии) и, соответственно, контролируется местными законодательными актами, технологическими спецификациями и политическими режимами. В случае коротковолнового радиовещания ситуация иная. Между удаленным (часто иностранным) передатчиком и приемником слушателя нет дополнительных местных ретрансляционных узлов или провайдеров — связь между ними осуществляется напрямую. Именно этим объяснялась советская практика «глушения» некоторых западных радиопередач — это было единственным (и достаточно неэффективным) техническим средством местного контроля над коротковолновым радиосигналом, пришедшим издалека.
[69] Например, в США коротковолновое радио имело довольно короткую историю. Начиная с послевоенного периода большинство американцев не сталкивалось с ним, и сегодня мало кто знает, что это такое (за исключением особых «радиолюбителей» — radio ham operators, использующих особые диапазоны для общения). Термин «радио» в США ассоциируется с именно с передачами в диапазоне FM — то есть с трансляциями, поступающими с местных, не слишком удаленных радиопередатчиков. Даже передачи Всемирной службы новостей Би-би-си (BBC World Service), которая почти сто лет вещает по-английски на коротких волнах на весь мир, в Соединенных Штатах знают лишь через ретрансляции местными станциями в диапазоне FM. В Западной Европе ситуация аналогичная.
[70] Он был разработан в лаборатории Bell Labs в США.
[71] Первым массовым переносным коротковолновым радиоприемником в Советском Союзе была «Спидола». Его производство началось на рижском радиозаводе ВЭФ в 1960 году.
[72] Напомним, что короткие радиоволны отражаются от слоев ионосферы, затем от земли, и так по многу раз, с легкостью огибая Землю. В разное время суток и в разных погодных условиях уровень ионизации в ионосфере и высота ионосферы над Землей меняются (из–за меняющейся интенсивности солнечного излучения). Днем интенсивность ионизации возрастает и в ионосфере появляется несколько слоев; это меняет способность то одних, то других коротких волн отражаться от нее. Одним из результатов этого является то, что в солнечную весеннюю погоду, например, особенно хорошо слышны дальние станции в диапазонах 11—19 метров.
[73] В Ленинграде любители коротковолнового радиоприема собирались около магазина «Юный техник», в Автово, а также перед комиссионным магазином электроники в торговом ряду «Апраксин двор».
[74] В международном праве давно ведется дискуссия о том, насколько законным является радиовещание, направленное на другую страну, если договоренности об этом со страной нет, а радиопередачи критикуют ее политическую систему. Этот спор касается и практики глушения радиопередач. Соединенные Штаты, например, на протяжении многих лет выдвигают аргумент о том, что они вправе «транслировать любые радиопе- редачи, содержащие заведомо объективную информацию, на другие страны и что любое вмешательство в такие трансляции нарушает международное право» (Metzl 1997: 628). Советский Союз и страны социалистического лагеря в период с 1950-х по 1980-е годы часто заявляли, что зарубежные радиотрансляции, ведущиеся на языках их стран и критикующие их правительства, являются нарушением международного права, поскольку они вмешиваются в их «государственный суверенитет». А глушение иностранных радио- передач они в свою очередь оправдывали как «правомерное противодействие» такому вмешательству извне. Время от времени Соединенные Штаты тоже применяли радиоглушение в некоторых частях света, при этом в официальных документах эта практика сравнивалась с «боевыми действиями и психологической войной», направленными на защиту американских национальных интересов (Ibid).
[75] Трансляции «Радио Свобода» были направлены исключительно на территорию Советского Союза и велись практически на всех языках союзных республик. Регулярные трансляции «Свободы» на русском языке начались 1 марта 1953 года и велись из штаб- квартиры станции под Мюнхеном (Sosin 1999). Позже начались трансляции и на других языках. Второе отделение станции, «Радио Свободная Европа», вело трансляции на восточноевропейских языках социалистических стран Варшавского договора. Обе станции были образованы при частичном финансировании ЦРУ, но официальными государственными радиостанциями не были, что давало им возможность во все периоды занимать резко критическую позицию по отношению к СССР. Это несколько отличало их от «Голоса Америки» — официальной радиостанции американского правительства.
[76] Глушение этих станций прекратилось в 1956 году после XX съезда КПСС, затем возобновилось в 1968 году во время советского вторжения в Чехословакию (Friedberg 1985: 18) и, наконец, окончательно прекратилось в 1988 году во время перестройки.
[77] Следует отметить, что влияние иностранного музыкального радиовещания на музыкальные вкусы молодежи не было исключительной чертой Советского Союза. Например, на развитие британской рок-музыки в 1950-х — начале 1960-х годов большое влияние оказала сеть маленьких радиостанций американских вооруженных сил, AFN (Armed Forces Network), расположенных на военных базах США в Великобритании (и в Западной Европе). Трансляции этих станций AM-диапазона не были предназначены для британской аудитории. Их целевой аудиторией были американские солдаты, жившие на военных базах, для которых транслировалась музыка, к которой они привыкли у себя дома в США, — блюз, ритм-энд-блюз, рок-н-ролл, джаз. Обычные английские радиостанции подобную музыку не передавали, а пластинок с этой музыкой в те годы в Великобритании было не купить. Но англичане, жившие в непосредственной близости от американских баз, могли принимать несильный сигнал их радиопередатчиков, что давало им уникальную возможность приобщаться к американской музыкальной культуре, не знакомой в те годы никому в Европе. В конце 1950-х годов именно благодаря этим музыкальным передачам выросло целое поколение будущих британских рок-звезд, включая такие известные фигуры, как Марк Болан и Дэвид Боуи. См. воспоминания Дэвида Боуи о влиянии, которое на него оказали музыкальные радиопередачи с соседней американской базы (Bowie 2000: 38). Многие британские рок-группы позже рассказывали о влиянии радиопередач AFN с американских баз на формирование их вкусов и желание организовать свои музыкальные группы — среди них «Битлз», «Роллинг Стоунз», «Кинкс», «Ху» и «Энималс» (см. также: Lyons 2013: 35). Возможность слушать радиотрансляции AFN с американских баз оказало влияние и на формирование рок-музыки в Западной Европе, например, на направление Indorock в Голландии 1950-х годов (см.: Mutsaers 1993: 307— 320). Советский контекст отличался от западноевропейского тем, что здесь аудитория слушала американские музыкальные передачи, предназначенные для приема издалека и поэтому транслировавшиеся на коротких волнах, в отличие от передач с американских баз в Европе, рассчитанных на американских военнослужащих, живших по соседству. Коротковолновый прием, как мы упоминали выше, на Западе так и не приобрел широкой популярности за ненадобностью.
[78] В действительности программа Коновера называлась «Jazz Hour» («Час джаза»), но он всегда начинал ее с фразы «Time for jazz» («Время слушать джаз»).
[79] Каплан 1997a: 46.
[80] «Голос Америки» начал транслировать некоторые передачи на особом, замедленном английском языке с упрощенной лексикой и грамматикой в 1959 году, чтобы расширить аудиторию передач по всему миру. См. историю «Голоса Америки» на сайте: www.voa.gov/index.cfm
[81] Когда Коновер умер в 1996 году, радиослушатели из разных концов света — Южной Африки, Японии, Польши, Латинской Америки — прислали на адрес «Голоса Америки» огромное число воспоминаний о том влиянии, которое он оказал на музыкальные вкусы их сверстников. См.: «Some Testimonies to Willis Conover», — часть проекта Мэрилендского университета «The Beat Begins: America in the 1950s». В самих Соединенных Штатах Коновер был и остается практически неизвестен, так как «Голос Америки» не транслировал своих передач внутри страны, а коротковолновых трансляций, как уже говорилось выше, в США не слушают.
[82] Фейертаг 1999: 69.
[83] Аксёнов 1987: 18.
[84] Подобные поездки были редкостью, хотя американские джазовые испонители выступали в СССР и до, и после этого. После возвращения из СССР Ллойд выпустил пластинку, записанную в Таллине, «Charles Lloyd in the Soviet Union» (Atlantic records, 1967).
[85] Цит. по: Каплан 1997a: 46—47.
[86] Авторское интервью с Евгением Добренко, 1994 год, Duke University, США. См. также другой пример о сознательном члене КПСС, активно слушающем Би-би-си и «Голос Америки», в: Smith 1976.
[87] Это заявление Солсбери было позднее оспорено в статье Epstein 1983.
[88] «Пчела» (октябрь 1996): 22.
[89] По имени немецкого физика Вильгельма Конрада Рентгена, открывшего рентгеновское излучение.
[90] Троицкий А.К. 2007. Back in the USSR. СПб., Амфора: 23.
[91] См.: Disc Bootleggers Are Waxing Fat on Stolen Goods // Down Beat, June 16, 1950, 10. Цит. по: Starr 1994.
[92] Федоров 2001.
[93] В Ленинграде их можно было приобрести возле магазина «Мелодия» на Невском проспекте, возле Гостиного Двора; в Москве — возле ГУМа, в Киеве — на «скупе» под кинотеатром «Днепр».
[94] Федоров 2001.
[95] Эффект скрытой интимности, заключенный в рентгеновском снимке, хорошо передан в романе Томаса Манна «Волшебная гора». В одном из эпизодов герой книги, сидя в кресле, «вытащил из нагрудного кармана полученный на память подарок, залог, заключавшийся… в тонко обрамленной пластиночке, прямоугольном кусочке стекла, который надо было держать против света, чтобы хоть что-то разглядеть — внутренний портрет Клавдии, ее безликое изображение, позволявшее, однако, различить хрупкий костяк торса, окруженный мягкими контурами призрачно-туманной плоти, и органы грудной полости. Как часто рассматривал и прижимал он к губам этот портрет…» (Манн 1959: 13).
[96] «У каждого облака есть серебряная подкладка» — эквивалент русского «нет худа без добра». Из песни «Грустный бэби» (My Melancholy Baby). См.: Аксенов 1991: 17.
[97] Этим метафорическим смыслом рентгеновский снимок с джазовой записью по- ходил на котельную центрального отопления (см. главу 4). В обоих объектах явление вненаходимости приобретало реальные очертания — внутренности (кости и артерии) советского гражданина и внутренности (трубы и батареи) советского жилища становились вдруг видимыми и наполнялись незнакомыми звуками, книгами, интересами, идеями. И те и другие были неотъемлемой частью инфраструктуры советской повседневности, но культурные смыслы, которые создавались на их базе, выпадали
[98] Кантор П. «О легкой музыке», отрывной календарь-ежедневник, 30 октября 1961 года.
[99] Британский рок-н-ролл, ставший популярным в СССР чуть позже и не раз подвергавшийся критике со стороны государства, тоже напрямую заимствовал из народной английской и кельтской музыки и американского блюза.
[100] Дзержинский И. «С рекламы ли надо начинать? (Дискуссия “Молодость, песня, гита- ра”)» // Литературная газета. 1965. 24 апреля. Цит. по: Вайль и Генис 2001: 134.
[101] Народное хозяйство СССР в 1970 г.: 251; Народное хозяйство СССР в 1985 г.: 169.
[102] Всесоюзная перепись населения 1989 года. 1990.
[103] Вайль и Генис 2001: 133.
[104] Чередниченко 1994: 225.
[105] Авторское интервью с Виктором М., Санкт-Петербург, 2001 год.
[106] О феномене подобных «толчков» см.: Humphrey 1995: 62—63.
[107] Высокое качество записи обеспечивалось использованием хорошей и довольно дорогой магнитофонной пленки «типа 10» (вместо более распространенной, дешевой и менее качественной пленки «типа 6» и еще менее качественной пленки «типа 2»), а также повышенной скоростью магнитофонной записи — 19 мм (19,05) в секунду, вместо более распространенной скорости 9 мм (9,53) в секунду.
[108] Авторское интервью.
[109] Там же.
[110] Цит. по: Cushman 1995: 97, 208.
[111] Там же.
[112] Альбом 1973 года.
[113] Песня «July Morning» группы Uriah Heep с альбома Look at Yourself, 1971 года.
[114] Creedence Clearwater Revival.
[115] Из домашнего архива писем Андрея А., цитируется с разрешения автора письма.
[116] Alice Cooper, «Welcome to my nightmare».
[117] Альбом был известен в СССР именно под этим названием, хотя в действительности он назывался «Фиолетовый на 24 карата» (24 Carat Purple).
[118] Крайне распространенным было стремление поехать и послушать органные концерты Баха в соборах Прибалтики — например, в знаменитом (лютеранском) Рижском Домском соборе.
[119] См. также: McMichael 2005a; 2005b о музыкальной серии «Кругозор» 1970-х годов.
[120] Макаревич 2002: 53—54.
[121] Там же.
[122] Фейертаг 1997: 35.
[123] Аналогичным образом «адаптировались» джазовые и
[124] И печально известного Комитета по антиамериканской деятельности (HUAC) при палате представителей конгресса США, прославившегося кампанией, получившей имя «охоты на ведьм» — поиском явных и скрытых коммунистов, а также людей, им симпатизирующих, в интеллектуальных кругах Америки.
[125] В этой песне рассказывалось о печальной жизни шахтеров из штата Кентукки, одним из которых был отец Трэвиса. Шахтеры получали за свою работу не деньги, а купоны (scrip), которые выпускала угледобывающая компания, на которую они работали. Потратить эти купоны можно было только в специальном магазине самой компании, где цены были значительно завышены по сравнению с обычными магазинами. В результате этой зависимости бóльшая часть шахтерских семей находилась в постоянном долгу перед компанией, живя фактически в ситуации легализованного рабства. В припеве песни Трэвиса говорилось: «Ты отгружаешь шестнадцать тонн, и что ты имеешь за это? / То, что с каждым днем ты становишься старше и глубже погрязаешь в долгах. / Святой Павел, не зови меня к себе, я не смогу прийти. / Свою душу я заложил в магазин компании» («You load sixteen tons what do you get / Another day older and deeper in debt / Saint Peter don’t you call me ‘cause I can’t go / I owe my soul to the company store»). См. интервью с продюсером Трэвиса Кеном Нельсоном («Sixteen Tons — e Story behind the Legend», http://www.ernieford.com/SixteenTons.htm).
[126] Макаревич 2002: 54.
[127] Интервью с Александром Абдуловым. См.: Кожемяков 1999.
[128] Эту практику переосмысления и «присвоения» музыкальных записей можно сравнить с культурным заимствованием, смешением, цитированием и изменением элементов чужих композиций в собственном музыкальном творчестве, которые используются в современном хип-хопе. Как пишет Пол Гилрой, музыкальные записи в
[129] Член художественной группы «Митьки», см. подробнее в главе 7.
[130] Starr 1994: 301.
[131] По аналогии с самиздатом и рентгениздатом (см. выше).
[132] Об участии КГБ в организации рок-клуба и определенном контроле над его деятельностью стало известно общественности в перестроечные годы. Позднее, в интервью телеканалу РТР, 14 января 1995 года, бывший генерал КГБ Олег Калугин рассказал об этом подробнее. Подобная форма контроля со стороны КГБ (когда объект контроля получал ограниченную возможность функционировать) распространялась и на некоторые негосударственные печатные издания. См. также о кафе «Сайгон» (главу 4).
[133] Чернов 1997c: 12—13.
[134] Там же; Cushman 1995: 207.
[135] Барсегян 2008.
[136] Лидер рок-группы «Алиса».
[137] Интервью с И. Барановской в передаче Татьяны Вольтской, «Фотовыставка к 30-летию Ленинградского рок-клуба» — Поверх Барьеров. Российский час // «Радио Свобода», 10 ноября 2011 года (http://www.svobodanews.ru/content/transcript/24387670. html).
[138] Речь идет о Майке — Михаиле Науменко, лидере группы «Зоопарк».
[139] Интервью с Николаем Михайловым. См.: Идлис, Коган, Щербакова 2011. Аналогичные способы «адаптации» музыки к нормам идеологического контроля существовали ранее и в советском джазе. Джазовый вокалист и пианист Сергей Манукян вспоминает конец 1960-х — начало 1970-х годов, когда джаз вновь попал под относительный запрет: «Было время, когда джаз у нас в стране вслух не называли джазом, именовали эту музыку эстрадой. Но играть ее все равно играли, обманывали партийное руководство. Например, исполняли произведения Колтрейна, и когда их спрашивали, что это звучит, советские музыканты отвечали: “Колтрейн — угнетенный негритянский музыкант”» — Коновалова 2010.
[140] Об общем саркастическом настрое в
[141] Авторское интервью, июль 1994 года, Санкт-Петербург.
[142] Это была часть Невского проспекта от универмага «Пассаж» до Литейного проспекта (Кривулин 1996: 6) и правая сторона улицы Горького (ныне Тверской) от Пушкинской площади до гостиницы «Москва» (Troitsky 1988: 3).
[143] Как правило, это были центральные улицы больших городов. В Киеве Бродвеем и Бродом именовался Хрещатик, в Вильнюсе — проспект Ленина (ныне проспект Гедиминаса), в Баку — Торговая улица, в Ташкенте — проспект Карла Маркса, в Одессе — Дерибасовская улица (см.: Стиляги на вильнюсском «Броде»: 2011. См. также: Скворцов 1964, Файн и Лурье 1991: 172).
[144] См., например: Мохель: 1999.
[145] Михаил Науменко, основавший в 1980 году известную ленинградскую рок-группу «Зоопарк», был больше известен под именем Майк, а Бориса Гребенщикова, основателя и лидера легендарной ленинградской группы «Аквариум», миллионы поклонников зовут Боб.
[146] Макаревич 2002: 109.
[147] Автор учился в этой школе в те годы.
[148] См. также: Файн и Лурье 1991: 170; Кривулин 1996. О развитии и изменениях этого жанра в постсоветский период см.: Yurchak 2000.
[149] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1994 год.
[150] Lee 1981: 12.
[151] Литературная газета. 1985. No 36. Цит. по: Костомаров 1994: 127.
[152] При среднемесячной заработной плате около 150 рублей, а студенческой стипендии от 40 до 75 рублей.
[153] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1994 год.
[154] Там же.
[155] Из личного архива Андрея А., цитируется с разрешения автора письма.
[156] Там же.
[157] Там же.
[158] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1994 год.
[159] Был ли портрет Брежнева повешен на стенку с некоторой иронией или нет, неизвестно, но сам факт соседства этих разных символов в комнате молодого человека говорит о том, что для него они находились в сложных, но не взаимоисключающих отношениях.
[160] Coombe 1998: 169. Кумб отталкивается в своем исследовании от работ Майкла Тауссига (Taussig 1993: 220) и Вальтера Беньямина (Benjamin 1969b).
[161] Сравните ценность настоящей пластинки «Битлз» с ценностью такой же настоящей пластинки, но имеющей автограф Джона Леннона на обложке.
[162] Willis 1990.
[163] Авторское интервью, Санкт-Петербург, 1994 год.
[164] Lee 1981: 24—25.
[165] Подобный же нравственный принцип отражен в своеобразном феномене «непри- ятия» блата, являющегося условием функционирования последнего. См. о «неприятии как системе отрицания» в: Ledeneva 1998: 60—63.
[166] О гипернормализации советского дискурса см. главу 2.
[167] Для обычных советских граждан поездки на Запад стали возможны с 1 января 1987 года в соответствии с новым Положением о въезде в СССР и выезде из СССР, принятым Верховным Советом в августе 1986 года. Стало возможно выезжать на Запад по частным приглашениям не только близких родственников (как раньше), но и западных друзей и организаций. Сразу с введением этого положения многие советские рок-группы начали ездить с концертами в Западную Европу. Четырьмя годами позже, 20 мая 1991 года, Верховный Совет СССР принял закон «О порядке выезда из Союза Советских Социалистических Республик и въезда в Союз Советских Социалистических Республик граждан СССР», который фактически полностью открыл границу — теперь ездить было можно и без частных приглашений.
[168] Рассказ Екатерины Деготь во время конференции по русскому искусству в White Chapel Art Gallery, Лондон, март 2003 года. Подобных воспоминаний о первой встрече советского человека с Западом было великое множество. Например, тот факт, что в советский период понятие «западных напитков» не имело ничего общего с реальными напитками, а было частью воображаемого измерения советской жизни, стал очевидным, когда эти напитки появились в магазинах в первые постсоветские годы. В начале 1990-х западное пиво пережило краткий всплеск популярности в России; однако, став «обычным» и приобретя вполне конкретный вкус, оно к концу 1990-х сдало свои позиции и оказалось вытеснено российским продуктом. Стало популярно говорить, что «реальность» оказалась не такой интересной, как представлялось раньше. Вообще, утрата иллюзий по поводу западной пищевой продукции после того, как она «не оправдывала ожиданий», стала распространенным феноменом России первого постсоветского десятилетия (см. также: Humphrey 1995 и 2002b).
[169] Аксенов 1991: 32, 31, 32 соотв.
[170] Пикник на обочине; см. начало данной главы.
[171] См. подробнее в: Žižek 1999.
[172] Пелевин 1999: 46.
