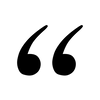Дэвид Грэбер и Дэвид Венгроу: Как (не) возникла частная собственность
Ранее мы уже публиковали перевод одной главы из новой книги Дэвида Грэбера и Дэвида Венгроу «Начало всего: новая история человечества». В том тексте американский антрополог и британский археолог развенчивали мифы о зарождении первых государств и цивилиазций. На этот раз они берутся опровергнуть представление о том, что охотники и собиратели доисторического периода вели очень ограниченное (в социальном и географическом отношении) существование и трудились не поднимая головы ради выживания, а также задаются вопросом, почему мы променяли гибкость и самодостаточность на фиксированное устройство общества, реальные свободы на формальные, равенство на иерархию.

Менять социальную идентичность со сменой времён года — отличная идея, но вряд ли кто-нибудь из читателей сможет испытать её на собственном опыте. Тем не менее, до недавнего времени на европейском континенте по-прежнему существовали традиционные практики, в которых были отражены эти древние периодические смены социальной структуры. Фольклористы долгое время спорили, являются ли группы людей, наряженных в костюмы животных и растений (соломенный медведь и зелёный человек) и ежегодно марширующих весной и осенью по городским площадям разных стран, от Англии до Болгарии, аутентичными отголосками древних обрядов или недавними изобретениями.
Большинство из этих ритуалов были либо объявлены языческими суевериями и постепенно утрачены, либо превращены в представления для туристов (либо и то, и другое). По большей части, в качестве альтернативы повседневной жизни у нас остались лишь «национальные праздники»: дни безудержного потребления, в которые мы торжественно повторяем, что главное в жизни вовсе не потребление. Наши далёкие предки, охотники и собиратели, были бесстрашными экспериментаторами, которые разрушали и воссоздавали свои сообщества, придавая им новые формы и системы ценностей с каждым временем года. Праздничные календари великих аграрных цивилизаций Евразии, Африки и Америки содержат отголоски того мира и его политических свобод.
Мы никогда не смогли бы этого узнать на основании одних лишь материальных находок: хижин из костей мамонта в степях России или лигурских погребений. Люди, конечно, имеют богатое воображение, но не настолько. Даже если кто-то и смог бы вывести из существующих археологических находок нуэрских прорицателей, шутов-полицейских квакиутлей или эскимосский обмен жёнами, его бы тотчас же объявили сумасшедшим.
Вот почему этнографические данные настолько важны. Культуры нуэров и эскимосов не следует рассматривать как «окна в наше далёкое прошлое». Они являются не менее современными, чем мы сами; однако они показывают нам возможности, которые бы не пришли нам в голову, и доказывают, что реально не только воплотить в жизнь эти возможности, а и построить на их основе социальные структуры и системы ценностей. Одним словом, они напоминают нам, что люди намного интереснее, чем мы привыкли считать.
Как ход истории человечества обусловил то, что несмотря на рост населения, люди сегодня ведут более ограниченную жизнь
Мы почти ничего не знаем о языках, на которых говорили жители верхнего палеолита, их мифах, обрядах инициации и представлениях о душе; однако мы знаем, что на территории от швейцарских Альп до Внешней Монголии использовались очень схожие орудия, музыкальные инструменты, орнаменты и практиковались очень схожие погребальные обряды. Более того, современные исследования сообществ охотников и собирателей указывают на то, что в те времена мужчины и женщины в течение своей жизни преодолевали огромные расстояния.
Изучение восточноафриканского народа хадза и австралийского народа марту показало, что несмотря на малочисленность этих сообществ сегодня, их состав на удивление разнороден: лишь около 10% связаны между собой биологически. Большинство же происходят из разных мест и не всегда даже говорят на одном языке.
Когда-то формы региональной организации охватывали расстояния в тысячи миль. Австралийские аборигены, например, даже преодолев полконтинента и оказавшись среди людей, говорящих на совершенно ином языке, обнаруживали те же системы родства, что и в своих родных краях. Точно так же, житель Северной Америки 500 лет назад мог преодолеть расстояние от берегов Великих Озёр до байу Луизианы и обнаружить поселения людей, принадлежащих к одному с ним клану медведя, лося или бобра, которые обязаны были предоставить ему кров и пищу.
Трудно установить, как именно были устроены такие формы организации даже всего несколько столетий назад (прежде чем их уничтожили европейские поселенцы), не говоря уже об устройстве аналогичных систем 40 тысяч лет назад. Однако удивительные находки, сделанные археологами на больших расстояниях друг от друга, доказывают существование таких систем. В ту эпоху «сообщество» охватывало целые континенты.
Всё это кажется невероятным. Мы привыкли считать, что технический прогресс сокращает расстояния. С одной стороны, это действительно так: одомашнивание лошади и морское дело определённо позволили людям быстрее преодолевать большие расстояния. Но с другой стороны, увеличение количества людей на планете нивелировало эту тенденцию, так как доля людей, которые путешествуют (по крайней мере, на большое расстояние от дома), уменьшилась.
В целом, территория, которую охватывают социальные отношения, по ходу истории не увеличивается, а наоборот, уменьшается.
Около 12 тысяч лет до н.э. космополитизм верхнего палеолита сменился периодом протяжённостью несколько тысяч лет, который впервые в истории сделал возможным установление границ отдельных «культур». Одни охотники и собиратели продолжили переходить с места на место вслед за стадами крупных животных, тогда как другие осели на побережьях и стали рыбачить или собирать жёлуди в лесах. Учёные называют эти культуры, возникшие после окончания ледникового периода, мезолитическими. Технические достижения этих культур — керамика, миниатюрные каменные орудия (микролиты) и орудия для обработки камня — указывают на новые способы приготовления и употребления в пищу диких зерновых, кореньев и овощей (люди начали рубить, нарезать, натирать, измельчать, замачивать, отцеживать и варить), а также хранения мяса, рыбы и растительной пищи.
Эти способы очень быстро распространились и подготовили почву для появления блюд: супов, каш, рагу, похлёбок и ферментированных напитков, которые мы знаем сегодня. Однако блюда, помимо прочего, служат маркерами различий. Люди, которые каждое утро едят рыбную похлёбку, отличаются (или считают, что отличаются) от людей, которые завтракают овсяной кашей с ягодами. Подобым различиям несомненно способствовали параллельные явления, которые намного труднее реконструировать: разные предпочтения в одежде, танцах, наркотиках, причёсках, ритуалах ухаживания и разные системы родства. «Культурные области» этих мезолитических охотников и собирателей по-прежнему были очень обширными. Неолитические культуры, которые вскоре развились рядом с ними, охватывали меньшие территории, но всё же значительно большие, чем территории современных государств.
Лишь намного позже начинают встречаться знакомые антропологам, изучающим Амазонию и Папуа—Новую Гвинею, ситуации, когда в одной долине реки могут жить носители полдюжины языков, имеющие совершенно разные экономические системы и космологические верования. Само собой, иногда имела место противоположная тенденция — как в случае с распространением имперских языков, английского и китайского. Однако в целом — по крайней мере, до недавнего времени — история двигалась не в направлении глобализации, а в направлении всё более локальных союзов, а впечатляющее культурное разнообразие использовалось для подчёркивания различий между людьми.
Не расстояния сокращаются, а социальные миры большинства людей становятся всё более ограниченными, в силу ограниченности их жизни и чувств рамками культуры, класса и языка.
Почему так происходит? Что вынуждает людей подчёркивать своё отличие от соседей? Это важный вопрос. Пока что отметим лишь, что распространение обособленных социальных и культурных вселенных — ограниченных в пространстве и тесно сплочённых — не могло не поспособствовать возникновению устойчивых форм власти. Смешанный состав многих сообществ охотников и собирателей ясно указывает на то, что люди постоянно пребывали в движении, в том числе с целью сохранить свои личные свободы. Рыхлость культуры также является необходимым условием сезонных демографических перемен, позволявших сообществам переходить от одних политических структур к другим, организуя в определённое время года массовые мероприятия, а на остальное время разделяясь на многочисленные мелкие единицы.
Это одна из причин, почему впечатляющие палеолитические погребальные обряды (или даже Стоунхэндж) были не более чем представлениями. Трудно властвовать над людьми в январе, если в июле они снова станут твоей ровней. Упрочение и умножение культурных различий не могло не ограничить такие возможности.
Что именно уравнивается в эгалитарных сообществах?
Возникновение локальных культурных вселенных в эпоху мезолита поспособствовало тому, что более-менее самодостаточные сообщества стали отказываться от сезонного расформирования и перешли к постоянной иерархической структуре. Иначе говоря, «застряли». Однако это само по себе не объясняет, почему каждое конкретное сообщество выбрало ту или иную систему. Здесь мы снова возвращаемся к
«Неравенство» — довольно размытое понятие; настолько размытое, что не совсем ясно, как следует понимать словосочетание «эгалитарное сообщество». Как правило, оно определяется негативно, как отсутствие иерархии (веры в то, что одни люди важнее других), угнетения и эксплуатации. Это уже довольно сложно. А когда мы пытаемся дать эгалитаризму положительное определение, всё становится ещё сложнее.
«Эгалитаризм» (в отличие от равенства, однородности и гомогенности) подразумевает наличие некоего идеала.
Например, все члены группы охотников-семангов воспринимаются как
1. большинство членов данного сообщества считают себя одинаковыми в тех или иных важных отношениях
2. этот идеал реализуется на практике
Данную мысль можно выразить иначе. Если каждое сообщество основано на определённых ценностях (богатстве, вере в богов, красоте, свободе, знании, воинской доблести), то «эгалитарные сообщества» — это те, в которых все (или почти все) согласны, что самые важные ценности должны быть распределены поровну. Если богатство считается самой важной вещью в жизни, то все должны иметь одинаковый уровень благосостояния. Если отношения с богами считаются наиболее важными, то в сообществе не должо быть жрецов, и каждый должен иметь доступ к культовым местам.
Здесь есть очевидная проблема. Разные сообщества имеют совершенно разные системы ценностей, и ценности одного сообщества могут не иметь ничего общего с ценностями другого. Представьте себе сообщество, в котором все равны перед богами, но 50 процентов населения составляют издольщики, не имеющие права собственности, а следовательно, юридических и политических прав. Можно ли называть такое сообщество эгалитарным, даже если все, включая самих издольщиков, считают, что важны лишь отношения человека с богами?
Решение может быть только одно: установить универсальные, объективные стандарты для оценки эгалитарности. Со времён Жана-Жака Руссо и Адама Смита таким стандартом было право собственности. Именно в
Это одна из главных причин, почему сегодня многие по-прежнему уверены, что собиратели жили в эгалитарных группах — считается, что без производственных активов (земли и скота) и накопления излишков (зерна, шерсти, молочных продуктов и так далее), которое стало возможным благодаря земледелию, не было материальной основы для господства одних людей над другими.
Здравый смысл также подсказывает нам, что как только становится возможным материальный излишек, появляются полноценные ремесленники, воины и жрецы, живущие за счёт части этого излишка (или, в случае с воинами, всячески пытаются украсть его у других); вскоре неизбежно появляются также купцы, юристы и политики. Эти новые элиты, как писал Руссо, сплачиваются для защиты своих активов, поэтому за появлением частной собственности неизбежно следует возникновение «государства».
Однако и это мало что объясняет. Само собой, выращивание зерновых и хранение зерна сделало возможными бюрократические режимы фараоновского Египта, империи Маурьев и империи Хань. Однако говорить, что выращивание зерновых привело к возникновению этих государств — всё равно, что говорить, будто развитие исчисления в средневековой Персии привело к изобретению атомной бомбы. Без исчисления создать атомную бомбу действительно было бы невозможно, однако утверждать, что изучение многочленов Насиром ад-Дином Туси в 1100-х годах стало причиной бомбёжки Хиросимы и Нагасаки — явный абсурд. Точно так же и с сельским хозяйством. Появление первых земледельцев на Ближнем Востоке и появление первых государств разделяет примерно 6 тысяч лет; более того, во многих частях света земледелие так и не привело к возникновению чего-либо хотя бы отдалённо напоминающего государства.
Здесь стоит рассмотреть понятие излишка и связанные с ним экзистенциальные вопросы. Как давно поняли философы, это понятие ставит основополагающие вопросы о том, что значит быть человеком. Одно из главных отличий человека от животного состоит в том, что животные производит только то, в чём нуждаются, тогда как люди производят больше, чем им нужно. Это делает нас одновременно самыми созидательными и самыми разрушительными из всех существ.
Правящие классы — это люди, которые организовали общество таким образом, чтобы присваивать львиную долю излишков, будь то посредством дани, рабства, феодальной повинности или манипуляции так называемым свободным рынком.
В XIX веке Маркс и его единомышленники-радикалы предложили распоряжаться этим излишком коллективно и по справедливости, однако современные мыслители скептически относятся к такой возможности. Сегодня среди антропологов преобладает мнение о том, что единственный способ создать по-настоящему эгалитарное общество — это устранить саму возможность накопления излишков.
Ведущий современный эксперт в области эгалитаризма охотников и собирателей — это британский антрополог Джеймс Вудберн. В послевоенный период Вудберн изучал хадза, сообщество собирателей из Танзании, и сравнивал их с бушменами сан и пигмеями мбути, а также другими малочисленными сообществами кочевников-собирателей за пределами Африки, например, пандарам из южной Индии и батек из Малайзии. По мнению Вудберна, это единственные по-настоящему эгалитарные из известных нам сообществ, так как в них равенство распространяется на гендерные отношения и отношения между молодыми и старыми.
Использование в качестве примера данных сообществ позволило Вудберну обойти вопрос о том, что уравнивается, а что — нет, так как они применяют принцип равенства ко всему, к чему его только можно применить: не только к имуществу, которое систематически разделяется, но также к священному знанию, престижу (лучших охотников постоянно принижают и высмеивают) и так далее. Подобное поведение, утверждает Вудберн, объясняется убеждением, что никто не должен состоять в зависимости от
По-настоящему эгалитарные сообщества по Вудберну — это сообщества с экономикой «мгновенных дивидендов»: принесённая пища съедается в тот же день или на следующий; любые излишки делятся поровну, но не хранятся. Это полная противоположность тому, как поступают большинство собирателей и все земледельцы, которые постоянно вкладывают энергию в проекты, которые принесут плоды лишь со временем; следовательно, их экономику можно назвать экономикой «отложенных дивидендов». Такие вложения, утверждает Вудберн, неизбежно порождают отношения, которые могут стать основной для власти одних людей над другими. Хадза и другие эгалитарные сообщества собирателей хорошо это понимают и поэтому сознательно избегают накопления ресурсов и долгосрочных проектов.
Вопреки представлению Руссо о «бросающихся прямо в оковы» дикарях, охотники и собиратели Вудберна прекрасно знают, где кроются оковы зависимости, и организуют свою жизнь так, чтобы их избежать.
На первый взгляд, это обнадёживает. Но на самом деле всё наоборот, так как это означает, что подлинное равенство возможно лишь в среде первобытных собирателей. Быть может, когда-нибудь нам удастся построить общество равных. На данный же момент, мы определённо застряли. Другими словами, мы снова имеем дело с нарративом об эдемском саде, только на этот раз планка поднята ещё выше.
Что действительно интересно в теории Вудберна, так это то, что собиратели, о которых он пишет, пришли к выводам, кардинально отличающимся от выводов Кондиаронка и нескольких поколений американских индейцев до него, не считавших, что различия в уровне благосостояния могут быть конвертированы в источник неравенства и власти.
Большинству антропологов не нравится определение «эгалитарные сообщества» по причинам, которые теперь должны быть ясны; однако оно продолжает использоваться, так как никто до сих пор не нашёл ему замены. Самую лучшую пока альтернативу предложила феминистка Элеанор Ликок, утверждавшая, что для большинства членов эгалитарных сообществ приоритетом является не равенство, а автономия. Например, для женщин племени монтанье-наскапи важен не столько равный с мужчинами статус, сколько возможность жить своей жизнью и принимать решения без вмешательства мужчин.
Другими словами, эти женщины считают ценностью, которая должна быть распределена поровну, свободу. Поэтому, возможно, лучше называть данные сообщества «свободными сообществами»; или даже, заимствуя определение иезуита Луи Лаллемана, которое тот дал соседям монтанье-наскапи, племени вендат — «свободными людьми», каждый из которых «считает себя настолько же значимым, как и любой другой, и которые подчиняются своим вождям только до тех пор, пока их это устраивает».
На первый взгляд, вендат со своей сложной структурой из вождей, ораторов и прочих чиновников не кажутся подходящими кандидатами на звание эгалитарного сообщества. Однако вожди не являются настоящими вождями, если не имеют возможности заставить других выполнять свои приказы. У таких племён, как вендат, равенство было следствием личной свободы. Само собой, можно сказать и обратное: свободы не являются настоящими свободами, если человек не имеет возможности ими пользоваться. Большинство людей сегодня убеждены, что живут в свободном обществе, однако свободы, составляющие моральную основу наций вроде США, преимущественно формальные.
Американские граждане имеют право ездить, куда им захочется — если, конечно, могут позволить себе заплатить за транспорт и проживание. Они имеют право не подчиняться приказам начальства — если, конечно, им не нужна работа.
Можно сказать, что у вендат были формальные вожди и настоящие свободы, тогда как у нас — настоящие вожди и формальные свободы. Иначе говоря, для хадза, вендат и нуэров важны были не столько формальные, сколько реальные свободы.
Право на передвижение интересовало их меньше, чем возможность это делать (отсюда обязанность проявлять гостеприимство по отношению к чужестранцам). Взаимопомощь — которую современные европейские наблюдатели обычно называли «коммунизмом» — считалась необходимым условием личной автономии.
Это должно отчасти прояснить путаницу, окружающую понятие «эгалитаризм». Иерархии могут существовать, но при этом оставаться по большей части формальными или ограничиваться лишь определёнными аспектами общественной жизни. Рассмотрим пример нуэров Судана. С тех пор, как антрополог из Оксфорда Эдвард Эван Эванс-Притчард в 1940-х годах опубликовал посвящённый им труд , нуэры стали считаться классическим примером эгалитарных сообществ Африки. У них не было ничего схожего с институтами власти и они славились тем, что высоко ценили личную свободу. Однако в 1960-х годах антропологи-феминистки вроде Кейтлин Гоу показали, что в данном случае нельзя говорить о равном статусе, так как мужчины в нуэрских сообществах разделялись на «аристократов» (чьи предки происходили с земель, на которых они жили), «чужаков» и пленных, захваченных во время набегов на другие племена. Эванс-Притчард считал данные различия поверхностными, однако Гоу заметила, что разный статус подразумевал неравный доступ к женщинам. Лишь аристократы имели достаточно скота для заключения «настоящего» брака — то есть брака, позволявшего им заявлять отцовские права на детей, а после смерти почитаться как предки.
Заблуждался ли Эванс-Притчард? Не совсем. Тогда как статус и количество скота были важны при заключении брака, в остальных ситуациях они не имели почти никакого значения. Во время танцев или жертвоприношений невозможно было определить, кто имел более высокий статус. И, что самое важное, различия в количестве скота не конвертировались в право отдавать приказы и требовать к себе особого отношения.
Но что насчёт женщин? Тогда как в повседневных делах, отмечала Гоу, женщины пользовались той же степенью независимости, что и мужчины, брак ограничивал свободу женщин. Если жених вносил 40 голов скота (стандартный выкуп), то тем самым приобретал право вмешиваться в жизнь своей жены. Однако большинство нуэрских женщин не состояли в «настоящем» браке. Система была настолько сложной, что многие официально состояли замужем за духами или другими женщинами — в этом случае, от кого беременеть и как растить детей было их личным делом. То есть, и в половой жизни как мужчины, так и женщины пользовались свободой, если только не было особых, ограничивающих её условий.
Свобода покинуть своё сообщество, зная, что тебя примут с распростёртыми объятиями в далёких краях; свобода менять социальные структуры в зависимости от времени года; свобода безнаказанно не подчиняться властям — все эти свободы воспринимались нашими далёкими предками как нечто само собой разумеющееся, тогда как для большинства современных людей они являются чем-то немыслимым.
Люди, жившие на заре истории, не пребывали в состоянии первобытной невинности; они явно не любили, когда кто-либо указывал им, что делать.
Поэтому настоящий вопрос не в том, когда появились вожди и короли, а в том, когда стало невозможным лишь посмеяться над их приказами.
Никто не отрицает, что на протяжении истории сообщества увеличивались и становились более оседлыми, средства производства развивались, излишки становились всё более значительными, а люди начинали проводить всё больше времени в подчинении у других людей. Логично предположить, что есть некая связь между данными тенденциями. Однако природа этой связи и лежащие в её основе механизмы неясны. В современном обществе мы считаем себя свободными людьми потому, что у нас нет повелителя. Мы принимаем как данность, что «экономика» организована не на основе свободы, а на основе эффективности, поэтому фирмы и магазины имеют строгую иерархию власти. Неудивительно, что сегодняшние размышления на тему истоков неравенства связаны с экономикой и, в частности, с работой.
Но и в этом случае значительная часть имеющихся фактов интерпретируется неверно.
Акцент на работе — не совсем то же самое, что акцент на собственности. Но если цель — понять, каким образом собственность была конвертирована в источник власти отдавать приказы, стоит начать с работы. Выделив эпохи развития человечества, основанные на способе добычи пищи, Адам Смит и Анн Робер Жак Тюрго тем самым поставили во главу угла работу, которая прежде считалась чем-то недостойным. Почему? Потому что это позволило им утверждать, что их общества были более высокоразвитыми — что было бы намного труднее доказать, если бы они выбрали любой другой критерий.
Тюрго и Смит, писавшие в 1750-х годах, считали высшей степенью развития «общество торговли», сложная система разделения труда в котором требует пожертвовать первобытными свободами ради достижения стремительного роста богатства и благосостояния. В течение последующих десятилетий изобретения прялки «Дженни», прядильной машины Аркрайта, паровой и тепловой машины, а затем и появление занятого в производстве рабочего класса, предопределили исход спора. Появились неслыханные прежде производственные возможности. Однако резко возросла и продолжительность рабочего дня. Двенадцати- и даже пятндцатичасовые рабочие дни стали нормой, а выходные — редкостью. (Джон Стюарт Милль по этому поводу писал: «Сомнительно, чтобы все сделанные до сих пор механические изобретения облегчили труд хотя бы одного человеческого существа».)
Как следствие, в XIX веке почти каждый, кто высказывался на тему направления, в котором движется цивилизация, принимал как данность, что научно-технический прогресс — это главный двигатель истории; а если прогресс — это история освобождения человека, то речь идёт об освобождении от «лишнего», отупляющего труда. С наступлением викторианской эпохи многие стали утверждать, что это уже происходит. Промышленное сельское хозяйство и новые механические изобретения, говорили они, приведут нас к миру, в котором каждый будет вести благополучную и праздную жизнь, и не будет необходимости проводить большую часть времени, выполняя чьи-либо распоряжения.
Подобным заявлениям не верили радикальные тред-юнионисты из Чикаго, которые в 1880-х годах по-прежнему боролись за восьмичасовой рабочий день — то есть, за такой, который даже среднестатистический средневековый барон не стал бы требовать от своих крепостных.
В ответ на подобные кампании викторианские интеллектуалы начали заявлять, что «первобытный человек» вынужден был непрестанно бороться за выживание, а жизнь в ранних сообществах была тяжёлой. Европейские, китайские и египетские крестьяне, говорили они, трудились с утра до ночи, чтобы прокормить себя, поэтому даже ужасные трудовые режимы диккенсовской эпохи можно считать прогрессом по сравнению с тем, что было прежде. К началу XX века подобные идеи стали восприниматься как прописная истина.
Вот почему эссе Маршалла Салинса «Общество первоначального изобилия» (1968) стало эпохальным событием и самым влиятельным из
Эссе Салинса и что может произойти, когда даже очень проницательные люди пишут о древней истории, не располагая фактами
Маршалл Салинс начал свою карьеру в конце 1950-х годов как сторонник неоэволюционизма. На момент публикации «Общества первоначального изобилия» он был известен преимущественно благодаря разработанной совместно с Элманом Сервисом теории о четырёх стадиях политического развития человечества (локальные группы, племена, вождества и государства). Эти термины продолжают широко использоваться по сей день. В 1968 году Салинс принял приглашение провести год в парижской лаборатории Клода Леви-Стросса, где каждый день обедал с Пьером Кластром (позже написавшим «Общество против государства») и спорил о том, созрело ли общество для революции.
Это были головокружительные времена во французских университетах, времена уличных боёв, переросших в майское восстание (в котором участвовали Салинс и Кластр, тогда как
Эссе Салинса впервые появилось в журнале Жана-Поля Сартра «Тан Модерн». Салинс утверждал, что по крайней мере в отношении рабочих часов, викторианский аргумент о постоянном улучшении несостоятелен. Научно-технический прогресс не избавил людей от материальной нужды. Люди не стали работать меньше. Все факты указывают на то, писал он, что на протяжении истории количество часов, которое большинство людей проводит за работой, наоборот растёт. Более того, Салинс утверждал, что жители предыдущих эпох не были беднее современных людей; напротив, на протяжении большей части древней истории люди жили в достатке.
Собиратель кажется нищим по нашим стандартам, однако применять к нему наши стандарты глупо. «Изобилие» — не абсолютное понятие. Оно означает ситуацию, в которой человек имеет доступ ко всему, что ему нужно для счастливой и комфортной жизни. С этой точки зрения, утверждал Салинс, большинство собирателей могут считаться богачами.
Тот факт, что большинство собирателей проводили за тем, что можно назвать «работой», всего от 2 до 4 часов в день, показывает, насколько мало им было нужно для удовлетворения своих потребностей.
Прежде чем двигаться дальше, стоит сказать, что в целом Салинс был прав. Как уже отмечалось выше, рядовой крепостной в Средние века работал меньше, чем современный офисный или фабричный работник, а собиратели лесных орехов и скотоводы, которые тащили огромные каменные плиты при строительстве Стоунхенджа, наверняка работали ещё меньше. Лишь недавно богатые страны начали обращать эту тенденцию вспять.
Бушмены сан из Калахари и хадза с плато Серенгети приобрели популярность в 60-х годах в качестве примеров ранних сообществ (несмотря на то, что по сравнению с другими собирателями, они довольно необычны) по двум причинам:
Поскольку охотники и собиратели тех лет жили в саваннах (то есть в той среде, в которой эволюционировал наш вид), возникал соблазн заключить, что на примере современных популяций можно увидеть сообщества в первобытном состоянии.
Результаты ранних исследований распорядка дня оказались неожиданными. Важно не забывать, что в послевоенные годы большинство антропологов и археологов принимало викторианский нарратив о борьбе первобытных людей за выживание как истину. Сегодня риторика учёных того времени звучит очень высокомерно. «Человек, который проводит всю жизнь, бегая за животными, чтобы убить и съесть их, или ходит от одного куста с ягодами к другому, сам живёт как животное», — писал в 1957 году историк Роберт Брейдвуд.
Первые количественные исследования опровергли подобные заявления, показав, что даже в такой недружелюбной среде, как пустыня Намибии или Ботсваны, собиратели могли прокормить себя и
В 60-х годах исследователи также начали осознавать, что сельское хозяйство — это вовсе не новейшее научное достижение, и собиратели прекрасно знали, как выращивать зерновые и овощи. Они просто не видели в этом необходимости.
«Какой смысл нам сажать монгонго, — сказал один респондент из народа кунг, — если их и так много вокруг?» То, что многие исследователи первобытных сообществ принимали за отсутствие ноу-хау, заключил Салинс, на самом деле было сознательным решением; эти собиратели «отвергли неолитическую революцию, чтобы сохранить свой досуг».
Салинс на этом не остановился. От свойственного древним собирателям акцента на досуге («дзенский путь к изобилию»), утверждал он, люди отказались лишь тогда, когда осели в одном месте и смирились с тяжким трудом, который подразумевает сельское хозяйство. За этим последовали не только часы изнурительного труда, но и бедность, болезни, войны и рабство; положение ещё сильнее усугубилось
Салинс одним ловким движением выбил почву из–под ног приверженцев традиционной истории цивилизации.
Как и Вудберн, Салинс отвергает идею Руссо о том, что люди, не продумав возможные последствия, «бросились прямо в оковы», и возвращает нас обратно в эдемский сад. Если отказ от земледелия был сознательным выбором, то сознательным было и решение его практиковать. Мы сами выбрали вкусить плод с древа познания и были за это наказаны. Как говорил Блаженный Августин, мы восстали против Бога, и в наказание он сделал так, что наши желания восстали против здравого рассудка; наказание за первородный грех — это бесконечная череда новых желаний. Фундаментальное отличие от библейского нарратива здесь в том, что, по версии Салинса, грехопадение не было единичным событием. С каждым новым техническим изобретением человек падает всё ниже.
Эссе Салинса — увлекательная и поучительная история. Однако в нём есть один очевидный изъян. Вся его теория об «обществе первоначального изобилия» основана на довольно сомнительном допущении о том, что большинство доисторических людей вели образ жизни африканских собирателей. Этот, часто упускаемый из виду момент, имеет решающее значение.
Не все современные охотники и собиратели ставят досуг превыше труда; не все разделяют отношение сан и хадза к личному имуществу. Собиратели с
Квакиутли с острова Ванкувер не только жили в красивых домах и хорошо питались, но и имели много вещей: «В каждом доме было множество матов, ящиков, шерстяных одеял, деревянной посуды, ложек из рогов и каноэ. Производство всё больших и больших количеств одних и тех же вещей не казалось им излишеством».
Квакиутли не просто окружали себя обилием вещей, но и творчески подходили к их созданию (Леви-Стросс называл квакиутль народом, в котором одновременно трудились десятки Пикассо). Это определённо можно назвать некоим родом изобилия, однако это совершенно иной род изобилия, чем в случае с сан и мбути.
Так кто же является более точной моделью первоначального общества: беспечные хадза или трудолюбивые собиратели северо-западна Калифорнии? Ставить вопрос таким образом неверно. Не было никакого «первоначального» общества. Любой, кто утверждает обратное, занимается созданием мифов. Люди на протяжении десятков тысяч лет экспериментировали с разными образами жизни прежде чем заняться сельским хозяйством. Намного полезнее будет оценить общее направление перемен, чтобы найти ответ на действительно важный вопрос: как случилось, что люди утратили гибкость и свободу, которые некогда характеризовали общественную жизнь, и перешли к фиксированным отношениям власти и подчинения?
Чтобы сделать это, мы должны проследовать за нашими предками-собирателями в более тёплую геологическую эпоху — голоцен, а также отправиться из Европы в Японию и на Карибское побережье Северной Америки, где существовали необычные сообщества, которые — несмотря на все усилия учёных загнать их в чёткие рамки — очень далеки от небольших кочевых эгалитарных групп.
Как новые открытия, связанные с древними охотниками и собирателями Северной Америки и Японии, переворачивают представление о социальной эволюции с ног на голову
В Луизиане есть место с грустным названием Поверти-Пойнт, где по сей день можно увидеть огромные курганы, возведённые индейцами около 1600 года до н.э. С ухоженными газонами и подстриженными кустами, сегодня это место выглядит как нечто среднее между природным заповедником и
По мнению археологов, сооружения в
С воздуха Поверти-Пойнт в его нынешнем виде напоминает гигантский затонувший амфитеатр.
Это место сосредоточия человеческих масс и власти могло бы быть гордостью любой аграрной цивилизации. Около миллиона кубических тонн земли было использовано при постройке церемониальной инфраструктуры. Однако жители Поверти-Пойнт не были земледельцами. Они также не владели письменностью. Они были охотниками, рыболовами и собирателями, которые пользовались обилием пищевых ресурсов нижних притоков Миссисипи (рыба, олени, орехи, водные птицы); они были не первыми, кто создавал общественную архитектуру в этом регионе. Данная традиция восходит примерно к 3500 году до н.э. — времени возникновения первых городов в Евразии.
Как отмечают археологи, Поверти-Пойнт — это «памятник каменного века в месте, где нет камней». Следовательно, многочисленные каменные орудия, оружие, сосуды и орнаменты, найденные там, были завезены откуда-то ещё. Размер курганов указывает на то, что в определённые времена года здесь собирались тысячи людей, что превышает численность любого из известных сообществ охотников и собирателей. Непонятно, что приводило их сюда и побуждало приносить с собой медь, кремень, кристаллы кварца, талькохлорит и другие минералы; или как они прибывали и как долго здесь оставались.
Однако мы знаем, что наконечники стрел и копий, найденные в
Можно лишь предположить, что главные активы Поверти-Пойнт были нематериальными. Если здесь что-то и накапливалось, то это было знание: ритуалы, видения, песни, танцы и образы.
Мы никогда не узнаем всех подробностей наверняка, но есть все основания считать, что древние собиратели обменивались информацией через весь регион. Доказательства этого можно найти при подробном изучении курганов. В долине Миссисипи и за её пределами есть другие подобные места меньшего размера, относящиеся к тому же периоду. Расположение курганов во всех этих местах основано на одних и тех же геометрических принципах, в основе которых лежат стандартные единицы измерения и пропорции, использовавшиеся народами большей части Америки. Местная система исчисления была основана на свойствах равносторонних треугольников, которые были обнаружены при помощи верёвок, а затем применены при планировке огромных курганов.
Если только мы не имеем здесь дело с
Имел ли место в
Сегодня Поверти-Пойнт — это национальный парк и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на это, его роль во всемирной истории мало изучена. Рядом с этим мегаполисом охотников и собирателей размером с месопотамский город-государство, анатолийский комплекс Гёбекли-Тепе выглядит крошечным. Тем не менее, за исключением небольшого круга специалистов и местных жителей, мало кто слышал о
Возникает закономерный вопрос: почему о
Одна из причин несомненно в том, что Поверти-Пойнт и более ранние подобные памятники (например, намного более древний комплекс Уотсон-Брейк) относятся к периоду американской древней истории, который носит название «архаический». Данный период вмещает очень длинный временной отрезок, от затопления Берингийского перешейка (который некогда соединял Евразию с Америкой) около 8000 лет до н.э. и до начала культивации маиса в определённых частях Северной Америки около 1000 лет до н.э. Одно название для семи тысяч лет истории. Археологи, давшие название этому периоду, как бы говорили: «Это период, лишённый каких-либо важных событий». Поэтому когда начали появляться доказательства, что в этот период происходило много важного, причём не только в бассейне Миссисипи, археологи были пристыжены.
На берегах Атлантического океана и Мексиканского залива расположены загадочные структуры — не менее удивительные, чем Поверти-Пойнт, но даже менее известные: от маленьких колец до гигантских подковообразных «амфитеатров» вроде того, который можно увидеть в долине реки Сент-Джон на
В том, что касается истории охотников и собирателей, Северная Америка — не единственное место, где традиционные представления вдребезги разбиваются археологическими данными. У Японии и окружающих её островов есть своя «архаическая» эпоха — период Дзёмон, охватывающий промежуток от 14000 до 300 года до н.э. Этот период, предшествовавший началу выращивания риса, также преподносится как бедное на события время. Однако последние археологические открытия показывают, что такое представление ошибочно. Между 14000 и 300 годами до н.э. на Японском архипелаге существовали огромные деревни с большими амбарами и ритуальными комплексами вроде тех, которые можно увидеть в
Европа также может похвастаться красочной историей в период после ледникового периода. Взять, к примеру, так называемые «церкви гигантов» в Ботническом море между Швецией и Финляндией: десятки огромных каменных валов вплоть до 195 футов в длину, возведённых собирателями с прибрежных регионов между 3000 и 2000 годами до н.э. Или Большого Шигирского идола с восточных склонов Урала. Этот идол, относящийся примерно к 8000 году до н.э., — единственный уцелевший экземпляр из утерянной традиции деревянных памятников. Есть ещё заполненные янтарём могильники Карелии и южной Скандинавии с их изысканными погребальными изделиями и трупами в выразительных позах.
В случае со Стоунхенджем, ключевые стадии строительства, которые ранее приписывались ранним земледельцам, теперь связываются с периодом, когда люди на Британских островах отказались от выращивания зерна и вернулись к собиранию орехов и скотоводству.
Тем временем в Северной Америке некоторые исследователи заговорили о «новом архаическом периоде», неизвестной доселе эпохе «памятников без королей». Однако нам по-прежнему очень мало известно о политических системах, стоявших за ныне подтверждённым во всем мире явлением монументальных сооружений эпохи собирателей, и о том, строились ли эти сооружения при участии королей. И всё же одно можно сказать наверняка: это полностью меняет картину социальной эволюции в Америке, Японии, Европе и других местах. Так почему же эта информация так редко упоминается, когда речь идёт о прошлом человечества? И почему авторы по-прежнему делают вид, что подобные вещи были невозможны до появления сельского хозяйства?
Тем, кто не имеет доступа к археологическим данным, это можно простить. Учёные и исследователи, с другой стороны, могут оставаться в неведении лишь при условии, что сознательно стремятся к этому. Рассмотрим некоторые виды ментальной эквилибристики, которые используются с этой целью.
Как миф о том, что собиратели живут в состоянии детской невинности, поддерживается по сей день
Для начала следует спросить: почему даже некоторым специалистам трудно отказаться от идеи о праздных и беззаботных группах собирателей и сопутствующей ей идеи о том, что «цивилизация» — города, ремесленники, носители эзотерического знания — невозможна без сельского хозяйства? Почему история по-прежнему пишется так, будто мест вроде Поверти-Пойнт не существует? Дело не может быть исключительно в терминологии («архаический», «Дзёмон»). Мы считаем, что ответ кроется скорее в наследии европейского колониализма, и в частности, его влияния как на коренные, так и на европейские системы мысли, прежде всего в отношении права земельной собственности.
Задолго до Салинса с его «обществом первоначального изобилия» критики европейской цивилизации утверждали, что охотники и собиратели были более обеспеченными, чем современные люди, так как могли легко раздобыть всё, в чём нуждались.
В начале XVI века микмаки вывели из себя отца Пьера Бьяра своими утверждениями о том, что они богаче французов.
Представители коренных народов нередко прибегали к явным преувеличениям и даже подтверждали, что они невинные и блаженные дети природы. Они поступали так, желая изобличить извращённость европейского стиля жизни. Ирония заключается в том, что тем самым они играли на руку тем, кто утверждал, что будучи невинными детьми природы, они не имеют права собственности на свою землю.
Здесь важно понимать юридические основания, использовавшиеся для лишения земли людей, живших на территориях, на которые положили глаз европейские поселенцы. В их основе лежал так называемый «сельскохозяйственный аргумент» — принцип, сыгравший решающую роль в выселении коренных народов с земель их предков в Австралии, Новой Зеландии, Тропической Африке и Америке; выселение сопровождалось изнасилованиями, пытками и массовыми убийствами, а нередко и уничтожением целых цивилизаций.
Присвоение земель коренных народов начиналось с заявления, будто собиратели жили в естественном состоянии — другими словами, они считались частью земли и поэтому не могли иметь на неё законных прав. Земля отбиралась у них на том основании, что они не работали.
Данный аргумент был позаимствован из «Второго трактата о правлении» (1690) Джона Локка, в котором тот утверждает, что право собственности основано на труде. Когда человек обрабатывает землю, та становится его продолжением. Ленивые дикари, согласно последователям Локка, использовали землю для удовлетворения своих потребностей, прикладывая для этого минимальные усилия. Как следствие, земля, использовавшаяся для охоты и собирательства, считалась ничейной, а аборигены, пытавшиеся защитить свою территорию, объявлялись нарушителями закона и подлежали уничтожению как дикие животные.
Схожим образом стереотип беззаботного, праздного дикаря использовался европейскими плантаторами и колонистами в Азии, Африке, Латинской Америке и Океании в качестве повода для бюрократического террора, целью которого было заставить местных работать.
Как давно отмечали коренные авторы, «сельскохозяйственный аргумент» лишён смысла. Есть много способов обрабатывать землю помимо сельского хозяйства европейского образца. То, что глазу поселенца казалось нетронутой дикой местностью, на самом деле нередко оказывалось землёй, о которой коренные жители заботились на протяжении тысяч лет посредством встречного пала, прополки, обрезки растений, удобрения, террасирования, создания запруд и так далее. Подобные процедуры требовали изрядных усилий и регламентировались правилами, определявшими, кто имел право пользоваться рощами, болотами, корнями, полями и водоёмами.
Эти сообщества, возможно, и не имели частной собственности в том смысле, в котором она понимается в римском или английском праве, однако абсурдно утверждать, что у них не было права собственности вовсе. Это верно даже в отношении таких народов, как хадза и сан; у многих же других сообществ собирателей были очень сложные представления о собственности. Иногда эти системы создавали предпосылки для неравного доступа к ресурсам, что приводило к возникновению своего рода социальных классов. Однако обычно до этого не доходило, потому что люди старались этого не допустить, точно так же, как они не позволяли вождям заполучить власть принуждения.
Тем не менее, важно отметить, что экономически некоторые сообщества собирателей способны были содержать касты жрецов и королевские дворы с постоянными армиями. Приведём хотя бы один красноречивый пример.
Одним из первых североамериканских сообществ, описанных европейскими путешественниками в XVI веке, были калуса, не практиковавшее сельское хозяйство племя, жившее на западном побережье Флориды. Между заливом Тампа и
Некоторые историки отказываются называть правителя калуса королём, однако свидетельства очевидцев не оставляют сомнений в его статусе.
Некто, известный под именем «Карлос», правитель Калоса на момент первого контакта с европейцами, даже выглядел как европейский король: он носил золотую диадему, бусы на ногах и восседал на деревянном троне. Его власть была абсолютной.
Он также отвечал за отправление тайных ритуалов, обеспечивавших обновление природы. Его подданные вставали перед ним на колени и падали ниц. Он всегда появлялся в сопровождении членов правящего класа — воинов и жрецов, а также имел в своём распоряжении ремесленников, работавших с серебром, золотом и медью.
Испанские наблюдатели отметили любопытную практику: в случае смерти правителя калуса или его главной жены, определённое количество сыновей и дочерей его подданных должны были быть умерщвлены. Это значит, что Карлос был не просто королём, а имел божественный статус.
Об экономической основе этой системы власти нам известно меньше, но судя по всему, двор существовал не только за счёт сложной системы доступа к богатым рыбным местам, но также каналов и искусственных прудов. Последние делали возможными постоянные (то есть, несезонные) поселения (хотя большинство калуса в определённые периоды года всё же перемещались ближе к местам для собирательства и рыбной ловли, покидая города).
Получается, что калуса застряли в определённой экономической и политической системе, позволив возникнуть радикальным формам неравенства. Однако это произошло даже несмотря на то, что они не посеяли ни одного зерна и не приручили ни одно животное. Перед лицом подобного случая у приверженцев взгляда о том, что сельское хозяйство является необходимой основой для возникновения устойчивого неравенства, остаётся два варианта: либо игнорировать его, либо утверждать, что он представляет собой исключение. Собиратели, которые совершают набеги на соседей, накапливают богатства, создают сложные церемонии, защищают свои территории и так далее, говорят они, — это никакие не собиратели. Они наверняка практикуют иной вид сельского хозяйства или находятся на переходной стадии.
Всё это — примеры аргумента в духе описанной Энтони Флю уловки «Ни один истинный шотландец» (то есть попытки ad hoc сохранить в силе необоснованное утверждение):
Представьте себе некоего шотландца по имени Хэмиш МакДональд, сидящего воскресным утром со своей обычной газетой «Глазго Морнинг Геральд» и читающего статью под заголовком «Брайтонский сексуальный маньяк опять нападает». Хэмиш шокирован и провозглашает: «Ни один шотландец не сделал бы ничего подобного!» В следующее воскресенье в том же источнике он натыкается на статью об ещё более жестоких преступлениях жителя Абердина. Это определённо опровергает мнение Хэмиша. Но признаёт ли он, что был неправ? Ни в коем случае. Вместо этого он говорит: «Ни один истинный шотландец не сделал бы ничего подобного!»
Так же и некоторые исследователи делают утверждение («у охотников и собирателей не было аристократии»), а потом защищают его от контрпримеров, каждый раз меняя определение.
Опровержение утверждения о том, что собиратели, осевшие на территориях, подходящих для собирательства — это исключение из правил
В академических кругах есть ещё один популярный способ поддержания мифа об «аграрной революции» и отрицания народов вроде калуса как эволюционных аномалий — утверждение о том, что они вели именно такой образ жизни благодаря «нетипичной» среде. «Нетипичной» средой считаются берега и долины рек, тогда как большинство охотников и собирателией, предположительно, жили в тропических лесах и пустынях, так как они обитают там в наши дни.
Тот, кто по-прежнему жил охотой и собирательством в
Каждый, кто сегодня называет народы вроде калуса «нетипичными» на том основании, что у них был избыток ресурсов, тем самым утверждает, будто древние собиратели, наоборот, избегали подобных мест, чтобы быть больше похожими на охотников и собирателей XX века и угодить современным исследователям. Нас пытаются убедить в том, что лишь когда не осталось пустынь, гор и тропических лесов, собиратели нехотя начали заселять более богатые ресурсами местности.
На самом же деле в калуса не было ничего нетипичного. Они были одним из многих сообществ рыболовов и собирателей, живших на берегах Флоридского пролива (в числе других были текеста, похой, хаэга и аис). Они также были одним из первых истреблённых коренных народов, так как побережья и устья рек были первыми местами, в которые прибывали испанские колонизаторы, принося с собой болезни, священников и поселенцев. Этот сценарий повторялся на каждом континенте, от Америки до Океании. Когда в середине XVIII века Флорида перешла к британцам, последние уцелевшие калуса были отправлены своими испанскими хозяевами на Карибы.
На протяжении большей части истории человечества рыболовы, охотники и собиратели не сталкивались с империями, поэтому могли выбирать места с доступом к воде.
Новые археологические данные подтверждают это. Например, долгое время считалось, что Америка была заселена перемещавшимися по суше людьми (культура Кловис). Примерно 13 тысяч лет назад они предположительно преодолели Берингский перешеек, соединявший Россию с Аляской, после чего повернули на юг, прошли через ледники и замёрзшие горы — предположительно, потому что никому из них не пришло в голову построить лодку и проплыть вдоль берега.
Новые археологические данные показывают, что всё было иначе. Жители Евразии впервые посетили «Новый Свет» около 17 тысяч лет назад, построив лодки и проследовав вдоль Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Так они добрались до южных берегов Чили.
Возможно, конечно, что эти первые американцы, оказавшись в таких богатых ресурсами прибрежных районах, быстро покинули их, предпочтя остаток жизни карабкаться по горам, продираться через джунгли и преодолевать бескрайние прерии. Однако кажется более вероятным, что большинство из них остались в местах прибытия.
Проблема до недавних пор была в том, что
Собственность и её связь со священным
Большинство культурных вселенных, сформировавшихся по всему миру в период раннего голоцена, развивалось в местах изобилия, а не дефицита ресурсов. Другими словами, они были больше похожи на калуса, чем на сан. Означает ли это, что у них также были схожие с калуса политические системы? Не совсем.
Тот факт, что калуса удалось создать экономический излишек, достаточный для содержания миниатюрного королевства, ещё не означает, что это неизбежное следствие накопления солидных запасов рыбы. Калуса были мореплавателями; они, несомненно, знали о королевствах, во главе которых стояли обожествлённые правители, вроде натчезов Луизианы и империй Центральной Америки. Возможно, что они просто подражали более могущественным соседям. Или же они были исключением из правил. Мы точно не знаем, какой властью обладал Карлос. Здесь уместно будет вспомнить пример натчезов: намного подробнее описанного племени земледельцев с харизматичным и, предположительно, абсолютным монархом во главе.
Солнце натчезов жил в деревне, в пределах которой обладал безграничной властью. Каждое его движение сопровождалось изощрёнными ритуалами, поклонами и расшаркиваниями; он имел право казнить кого угодно, присваивать имущество своих подданных и в целом делать всё, что ему заблагорассудится. Однако его власть действовала только в его присутствии, а он редко покидал пределы королевской деревни. Большинство натчезов не жили в королевской деревне (более того, по понятным причинам, всячески её избегали); а за её пределами представителей короля воспринимали не более серьёзно, чем вождей монтанье-наскапи. Если подданные не желали исполнять приказы этих представителей, то просто смеялись над ними. Другими словами, хоть власть Солнца натчезов и не была постановочной (казнённые подданные определённо умирали), она также была несопоставима с властью Сулеймана Великолепного или Аурангзеба. Это было нечто среднее.
Обстояло ли дело так же в случае с царём калуса? Испанские наблюдатели так не думали (они считали его абсолютным монархом). Однако поскольку отчасти назначение подобных представлений — произвести впечатление на чужаков, это нам мало о чём говорит.
Итак, что мы узнали?
Прежде всего, мы можем вбить последний гвоздь в гроб представления о том, что до возникновения сельского хозяйства люди жили, как бушмены Калахари. Если плейстоценских охотников на мамонтов ещё можно отвергнуть как некую аномалию, этого нельзя сделать в отношении периода после отступления ледников, когда вдоль побережий и в устьях рек возникли десятки новых поселений, жители которых осваивали ремёсла, строили сооружения в соответствии с математическими принципами, создавали новые кулинарные блюда и так далее.
Мы также узнали, что по крайней мере некоторые из этих сообществ обладали материальной инфраструктурой, позволявшей содержать королевские дворы и регулярные армии, хотя у нас нет убедительных доказательств, что это имело место. Для строительства гигантских насыпей в
Мы не можем знать, какие формы собственности существовали в этих сообществах. Однако мы можем предположить (и есть множество доказательств в пользу этого предположения), что все упомянутые места — Поверти-Пойнт, Саннай-Маруяма, церковь гигантов в Финляндии и даже более ранние погребения вельмож эпохи верхнего палеолита — были священными местами. Это сообщает кое-что важное об «истоках» частной собственности. Объясним почему.
Вернёмся к антропологоу Джеймсу Вудберну и одной менее популярной идее из его труда, посвященного охотникам и собирателям из сообществ «мгновенных дивидендов». Даже в этих сообществах, известных своим эгалитаризмом, отмечает он, было одно важное исключение из правила о том, что ни один взрослый человек не может отдавать приказы другому, и что никто не может заявлять о единоличном праве обладания какой-либо собственностью. Данное исключение касалось области священного. В религии хадза и религиях многих пигмеев посвящение в мужские (а иногда и женские) культы даёт право единоличного владения (обычно ритуальными атрибутами), которое контрастирует с отсутствием такого права в повседневной, светской жизни. Разные формы ритуальной и интеллектуальной собственности, отмечает Вудберн, окружены тайной и связаны с угрозой применения насилия.
Вудберн приводит в пример священные трубы, которые прошедшие обряд посвящения мужчины из некоторых пигмейских сообществ хранили в потайных местах в лесу. Женщинам и детям не разрешалось знать об этих тайниках; если бы кто-либо из них проследовал за мужчиной к тайнику, их могли избить или даже изнасиловать.
Аналогичная практика, связанная со священными трубами, флейтами и прочими фаллическими символами, распространена среди некоторых современных сообществ Папуа—Новой Гвинеи и Амазонии. Нередко инструменты время от времени извлекаются из тайников; мужчины используют их во время маскарадов, в ходе которых изображают духов и пугают женщин и детей.
В большинстве случаев, эти священные предметы — единственные формы частной собственности в таких «свободных сообществах». Во всех этих сообществах обращает на себя внимание родство между понятием частной собственности и понятием священного: и то, и другое подразумевает исключение.
На данный факт указывал Эмиль Дюркгейм в своём классическом определении священного как «отделённого»: отрезанного от мира и водружённого на пьедестал — иногда в буквальном, а иногда в образном смысле — в силу связи с высшей силой или высшим существом. Дюркгейм считал олицетворением идеи священного полинезийское понятие «табу», то есть запрет прикасаться. Говоря о частной собственности, не говорим ли мы о
Как любят отмечать британские теоретики права, право частной собственности действует «против всего мира». Если вы владеете машиной, то имеете право запрещать водить её или садиться в неё кому угодно во всём мире (если задуматься, это единственное абсолютное право, которое вы имеете по отношению к своей машине; всё остальное — где и как ездить, парковаться и так далее — подчинено строгим правилам). В этом случае объект отделён видимым или невидимым барьером — не потому, что он связан с неким высшим существом, а потому, что он связан с конкретным живым человеком. В остальном логика та же.
Понимание параллелей между частной собственностью и понятием священного позволяет обнаружить странный момент в европейской общественной мысли: в отличие от «свободных сообществ», мы видим в абсолютном и священном характере частной собственности образец для всех человеческих прав и свобод. Политолог Кроуфорд Бро Макферсон называл это «собственническим индивидуализмом». Так же, как ваш дом — это ваша крепость, так и ваше право не быть убитым, подвергнутым пыткам или безосновательно заключённым в тюрьму основано на идее о том, что ваше тело — это ваша собственность. Как мы видели, те, кто не разделял данное представление европейцев о священном, могли быть убиты, подвергнуты пыткам или безосновательно заключены в тюрьму; часто так и происходило.
Большинству коренных американских сообществ было чуждо данное представление. Если оно вообще практиковалось, то только применительно к священным предметам и нематериальным священным атрибутам: заклинаниям, историям, знаниям о целебных травах, праву исполнять тот или иной танец или вышивать определённый узор на своей одежде.
Нередко оружие, орудия труда и даже территории для охоты были общими; в то же время, тайные силы, гарантировавшие размножение животных или обеспечивавшие удачную охоту, были частной собственностью и ревностно оберегались.
Священные атрибуты часто имеют как материальные, так и нематериальные элементы. Среди квакиутлей владение наследственным деревянным блюдом давало право собирать ягоды на определённой территории; это, в свою очередь, давало его обладателю право делать подношения из ягод и петь определённую песню в ходе определённого праздника, и так далее.
Подобные формы священной собственности очень разнообразны и сложны. Часто настоящими «владельцами» земли и природных ресурсов считались боги или духи; смертные же лишь временно жили на этой земле, охотились на ней и заботились о ней. Люди практикуют либо хищнический подход к ресурсам (как охотники, которые присваивают то, что принадлежит богам), либо подход смотрителей (чья обязанность — ухаживать за тем или иным местом). Иногда оба этих подхода сочетаются — как, например, в Амазонии, где владение означает право отлавливать диких зверей и одомашнивать их: присвоение перерастает в заботу.
Этнографы, изучающие коренные сообщества Амазонии, нередко обнаруживают, что у тех почти всё вокруг имеет своего владельца — от озёр и гор до растений и животных. Однако владение несёт двойное значение власти и заботы. Не иметь владельца означает быть лишённым защиты.
В тотемных системах обязанность заботиться особенно выражена. Считается, что каждый клан «владеет» тем или иным видом животных. Это означает, что члены этого клана не могут убивать данное животное и употреблять в пищу его мясо. Более того, они совершают ритуалы, чтобы обеспечить его процветание.
Что отличает закреплённое в римском праве понятие о собственности, так это то, что обязанность заботиться и делиться в нём либо сведена к минимуму, либо вовсе отсутствует. В римском праве есть три правомочия, связанных с собственностью: usus (право пользоваться), fructus (право распоряжаться плодами собственности) и abusus (право уничтожить). Если кто-либо обладает лишь двумя первыми правами, это называется usufruct и не считается полноценным владением.
Определяющая черта полноценного права собственности, таким образом — это право не заботиться о своей собственности, а при желании и уничтожить её.
Здесь мы подходим к выводам о возникновении частной собственности, которые можно проиллюстрировать при помощи последнего и особенно красноречивого примера: знаменитых обрядов инициации народов Западной пустыни Австралии. Взрослые мужчины каждого из кланов выполняют роль хранителей определённых территорий. Священные предметы, которые среди народа аранда известны под названием чуринга, являются реликвиями, полученными от предков, создавших в древние времена территорию каждого из кланов. По большей части, это гладкие деревянные или каменные предметы с вырезанным на них тотемным символом. Чуринги также служили свидетельством законных прав на эти земли. Эмиль Дюркгейм считал их архетипом священного: объектами, отделёнными от повседневного мира и окружёнными благоговением («священным ковчегом клана»).
В ходе обрядов посвящения молодые аранда узнают об истории своей земли и её богатствах, а также берут на себя обязательство заботиться о ней, а с ней и о чуринге и священных местах, о которых знают только посвящённые. Чтобы донести до новопосвящённого всю серьёзность его долга, прибегают к устрашению, пыткам и нанесению увечий; за обрезанием, через
Это ещё один пример того, как происходящее в ритуальном контексте противоречит духу свободы и равенства, которым характеризуется повседневная жизнь. Только в этом контексте существуют формы личной (священной) собственности, строгие иерархии и вертикали подчинения.
Возвращаясь к древней истории — невозможно знать наверняка, какие именно формы собственности существовали в таких местах, как
©David Graeber & David Wengrow
Оригинал можно почитать тут.