Чарльз Бернстин / Наталья Федорова. Общие различия
Материал опубликован в #13 [Транслит]: Школа языка
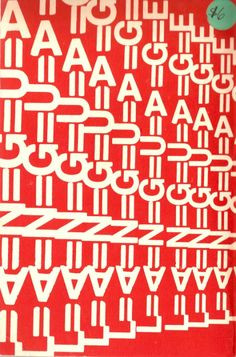
Специально для альманаха [Транслит], 19 марта 2013
Наталья Федорова: С именами каких русских поэтов вы себя связываете?
Чарльз Бернстин: Моим самым близким другом в России был Аркадий Драгомощенко. Я был знаком с Приговым и Парщиковым, и восхищался их работами. К сожалению, эти три современника недавно умерли. С Дмитрием Голынко мы познакомились в Университете Пенсильвании, куда он приезжал, а потом мы виделись в Вене. Я ценю Льва Рубинштейна. В мой курс, посвященный мировой поэзии, включены такие знаменитые русские поэты, как Хлебников, Крученых, Маяковский, Мандельштам и Ахматова. Недавние переводы Евгения Осташевского и Матвея Янкелевича открыли для меня ОБЕРИУ: Введенского и Хармса.
НФ: В случае Хармса и Введенского, запоздалое внимание характерно и для русского контекста. Десятилетиями их не было ни в школьной программе, ни в поле внимания широкой публики.
ЧБ: Студентам очень нравится Хармс. Его даже не нужно объяснять. Они и так его понимают. Сегодня утром я читал Пригова, и мне стало понятно, как он связан с Хармсом, я этого не знал, поскольку не читал последнего. В «20+7 рассказах о Сталине» Троцкий, Зиновьев и Бухарин приходят к Сталину поговорить, а он достает револьвер и убивает их. Это совершенно абсурдистская ОБЕРИУтская вещь, чего я не мог заметить, не прочитав ОБЕРИУ.
НФ: Пригов планировал делать свое последнее чтение из шкафа, и это было явной цитатой Хармса, хотя и Кабакова тоже, конечно.
ЧБ: Я не знал об этой связи, хотя она очевидна. Дело в том, что я сначала прочел Пригова, и мне нужно было скорректировать свою хронологию.
НФ: Каково Ваше отношение к Вашим переводам на русский?
ЧБ: Мне кажутся особенно удачными переводы Парщикова и другие переводы, выходящие в НЛО, в частности — Яна Пробштейна. Он также публиковал переводы моих текстов в «Журнале поэтов», «Окне» и «Иностранной литературе». Парщиков замечательно перевел «Смысл и изощренность»1. Аркадий попросил меня написать вступительное слово к переводу «Зимородков» Чарльза Олсона. Я написал этот текст специально для него, как и текст, посвященный 11 сентября, который вошел в сборник «Girly Man».
НФ: Близок ли Вам кто-то из фигур сегодняшнего дня в России?
ЧБ: Вообще, я не очень хорошо представляю, что происходит в вашем поколении. Впервые я столкнулся с русской литературой в 70-е, когда я читал футуристов и смотрел их работы на стыке визуального и вербального. Например, малотиражное издание, на зауми, как «Помада», с авторским почерком и рисунками, и др. Русские футуристы оказали на нас огромное влияние как своими работами, так и тем, что показали нам пример процесса работы в коллективе единомышленников.
НФ: Чем для Вас важен пример футуристов?
ЧБ: Модернизм дал множество антиутопических примеров отдельных личностей или творческих объединений; футуристы были (трагически) позитивной моделью. Вы помните, как Маринетти приехал в Москву читать свой манифест в 1914 году?
НФ: И ему не были рады в России. Они считали это уже пройденным этапом.
ЧБ: Да, не были. И тем не менее заслуги итальянских футуристов трудно переоценить. В русских футуристах меня восхищают их попытки связать воедино социальное и эстетическое, критика музеев, желание сделать искусство частью повседневной жизни и выход за пределы пределы студий. И, конечно, плакаты.
НФ: Государство создало из страны своего рода кураторское пространство.

ЧБ: Это был революционный переворот, и его сила, естественно, уничтожила своих создателей. Гончарова и Попова — одни из моих любимых художников, и, конечно, Родченко. Даже агитационные плакаты были совершенно потрясающие, удивительно, что Маяковский, говоря языком сегодняшним, был копирайтером. И его рекламные тексты превосходны: они сделаны по модели «настоящей рекламы» и при этом обладают самоиронией. Это соотношение рекламной графики и изобразительного искусства в его традиционном понимании не перестает удивлять. И «Слово как таковое», поэтика которого мне стала ясна, только когда более широкий контекст поэзии русского футуризма был переведен. Для многих из круга L=A=N=G=U=A=G=E русский футуризм был важным историческим примером и источником вдохновения. В большей степени, нежели любое другое модернистское движение, и наравне с такими поэтами, как совсем не похожая на футуристов своим отношением к политике и коллективной работе Гертруда Стайн. Говоря о Мандельштаме, пока Кэвин Платт — он в тот момент работал над сборником Мандельштама — не попросил меня перевести вместе с ним несколько стихотворений, я тоже не вполне понимал его. Трудность заключалась в том, как Мандельштам, Ахматова и, прежде всего, Бродский были представлены в контексте холодной войны в официальном литературоведении в Штатах и Великобритании. Холодная война затеняла их поэзию (и, конечно, игнорировала футуристов). Я все еще спорю с отголосками холодной войны 1950-х, поскольку я в значительной мере формировался именно в 50-е. Милош был представлен, и сейчас остается таковым, в официальном литературоведении как символ, образцовая одинокая фигура, антикоммунист и антиколлективист, отважно борющийся с тоталитарным государством. Для культуры, которая не интересуется поэзией, которая поэзии враждебна, поскольку она меняет конвенциональные формы репрезентации и экспрессии, важна гуманистическая тематика — сопротивление тоталитаризму, но не эстетическому тоталитаризму, который как раз ей интересен. Парадоксально, что такой неолиберализм оказывается чужд политике, поскольку ставит поэта как бы вне рамок идеологии. Подобного рода критика в стиле идеологии холодной войны по сей день процветает на страницах официальных журналов и газет, десятилетия после ее окончания (я имею в виду Чарльза Симса в
К примеру, сейчас я рассматриваю Мандельштама в контексте нью-йоркского поэта Луиса Зукофски, который моложе, но не намного. Зукофски был ленинистом в 30-е, жил на Лоуэр Ист Сайд и также пытался вырваться из контекста своего еврейства и идиша, нащупывал связь с мировым модернизмом, но не был готов отказаться в его пользу от своих истоков, контекста, в котором он играл немаловажную роль. И я думаю о Зукофски, когда читаю стихотворение Мандельштама «Notre Dame»: смотреть на собор и искать ответ на вопрос, как это связано с ним и может ли искусство, которое выходит за пределы того, что есть он, и за пределы традиции, к которой он принадлежит, стать ее частью? Возможно ли создавать не-национальное искусство, не-этническое, или не только этническое. Такой же природы отношение О’Хары к Пастернаку, для него Пастернак был интересен как своего рода фигура перехода между публичным и приватным диссидентством. Возможно, это видение О’Хары не совсем соответствует истине, но именно так он думал о Пастернаке. И это одна из точек, в которой еще один русский поэт пересекается с новой американской поэзией периода холодной войны, отличная от взаимоотношений Алена Гинзберга с Евтушенко и Вознесенским. Во время последнего вечера памяти Аркадия русские литературоведы говорили о необычности его связи с Лин Хеджинян и языковой поэзией в контексте холодной войны и о том, как он был связан с западом. Но я думаю, что это не вполне верное понимание, или, по меньшей мере, неполное. Рискуя и вовсе стереть влияние холодной войны, я утверждаю, больше всего ценю наши личные отношения с Аркадием, основанные на родстве эстетического восприятия мира. И для меня это не-национальная связь, что не значит, что мы могли бы или хотели бы выйти за пределы своих советских или американских оболочек, а значит, что мы думали одно и то же и о Штатах и Союзе, и именно это эстетическое и политическое сродство (или отрицание) сделало нас ближе друг к другу, нежели к другим поэтам-соотечественникам. Говоря это, я понимаю, насколько утопично это звучит, но здесь я говорю об ином типе взаимоотношений, который, может быть, знаком и Вам. И это созвучно моим друзьям Евгению и Матвею, которые живут одной ногой (или ухом) в каждом из названных миров. И может так быть, именно такая позиция станет одной из возможных дорог, по которой пойдет не-национальная поэзия сегодня.
И говоря это, я не отрицаю связи Аркадия с русской литературой и русской поэзией, или своей связи с американской, но мы были единомышленниками, и это самая верная характеристика его отношения к Лин и Лин — к нему. Но в то же время социальные обстоятельства (включая возможности публикаций и публичности вообще), финансовые затруднения — очевидно, существовала огромная разница между моим материальным положением в 1991 году и положением Драгомощенко в том году, когда они с женой приехали на семестр в Баффало.
У Якоба Эдмонда есть замечательная книга об этом, которая называется «Общее различие: современная литература, межкультурные связи и сравнительное литературоведение» (A Common Strangeness: Contemporary Poetry, Cross-Cultural Encounter, Comparative Literature). Вы знаете эту книгу?
НФ: Да. С главами о Пригове и Драгомощенко.
ЧБ: Мне нравится концепция «общего различия». Точка обмена в общем различии, не в общем сходстве, и в синхронности с культурными процессами и историей традиций и связей. И я думаю, что возможность обмениваться различиями происходит благодаря контексту технологии и всевозможных инноваций. Также немаловажную роль в этом играют условия сходной материальной и физической реальности, которые создаются мировым капитализмом, другими обменами и интернетом, который, как вы понимаете, становится таким общим местом. Это не пространство, которое нужно понять, это общее место, в котором появляются тексты. Поэтому перевод это ключевой…
НФ: Инструмент?
ЧБ: Инструмент и медиум того, чем он может быть. Мы должны пересмотреть перевод и сделать его открытым для всех современников, чтобы это был перевод, а не выбор одного человека, перевод творческой среды, множества, чтобы обмен был более полным и с более глубоким фундаментом, отражающим культуру. Культура Санкт-Петербурга или Нью- Йорка составляет деятельность множества людей. Перевод имеет тенденцию отражать надстройку, забывая о базисе. При этом надстройка каждого отдельного поэта легко различима, но самое важное — это сделать возможным обмен, потому что иначе — это только сливки, снятые сверху, без самого молока и без понимания того, как оно появилось.
НФ: Видите ли вы какие-нибудь параллели в практике американского и российского самиздата?
ЧБ: Матвей Янкелевич недавно выступил в моей программе «Пристальное слушание», в которой мы обсуждали именно эти параллели2. Я думаю, что параллели существуют, но я бы хотел подчеркнуть в первую очередь различия. В Америке практика малотиражных изданий развивалась без препятствий и,по большей части, без внимания широкой публики (что можно наблюдать и по сей день). Перед нами хорошо известная ситуация перемещения культурного капитала: доступное теряет культурный статус (и читателей), в то время как цензура создает повышенную ценность (и массовый интерес). Поэт не выбирает средств воспроизводства культуры. Американскому государству безразлично то, что мы делаем, потому что мы непопулярны. В отсутствии необходимости есть определенная свобода, где эстетические ставки высоки, но проигрыш — это эстетический провал или непонимание, а не государственные санкции. И, конечно, нельзя сказать, что жизнь поэта, внутренняя жизнь, не зависит от меры успеха в собственном его понимании. Но в самиздате есть определенная мера не столько диссидентского (истинного), сколько неофициального. А во всем, что неофициально, есть не только диссидентство, но и дефективность.
НФ: Каково отношение поэзии к трагедии? Разделяете ли Вы утверждение Бадью в эссе «Век поэтов» о том, что террор необходим для того, чтобы пробудить философию. Каково в таком случае соотношение философии и поэзии?
ЧБ: Я не знаком с этим эссе Бадью, но я бы сказал, что поэзия существует вопреки трагедии или в пику ей. Поэзия может регистрировать трагедию или выражать скорбь, но зачастую это лишь заслоняет собой философию. Вот что я подразумеваю, когда говорю об ущербном прочтении через призму холодной войны: Чарльз Симик, который часто выступает против того, что я считаю самыми выдающимися примерами американской поэзии, в одном из своих высокомерных, разгромных отзывов совершенно неоправданно ставит вопрос: кого бы вы читали, если бы вы сидели в тюрьме — Эмили Дикенсон или Гертруду Стайн, как будто Гертруда Стайн и Эмили Дикенсон принадлежат к разной традиции, как будто нападками на Стайн можно зачеркнуть всю нетрадиционную поэзию, как будто критерий или ценность поэзии поверяется тем, чтобы представить себя в тюрьме. Симик заключает самого себя, и воображение своих читателей, и
Мандельштам и Хармс — великие поэты не потому, что с ними варварски обращались — читать их стихи, чтобы найти в них проявления отваги, — значит не понимать того, что они пишут. Конечно, проявления храбрости среди поэтов, пианистов и подиатристов достойны восхищения. Только это проявление гражданственности, а не поэзии. Мандельштам и Хармс были великими поэтами вопреки репрессиям, а не благодаря им, и совершенно очевидно, что и тот, и другой написали бы больше замечательных произведений, если бы не подверглись репрессиям! Это понятно без слов, и тем не менее, эти слова нужно говорить, может быть в России это очевидно, но, думаю, что нет! И тем более, в США, где иной раз может показаться, что, согласно официальной трактовке, мера ценности поэзии — в степени диссидентства или героичности истории о выживании (описанной языком поэзии), что подливает масла в и без того жарко разгоревшийся огонь. Мандельштам в одном из последних стихотворений говорит, что единственное, что у него нельзя отнять, — это его слова. И прославлять его как продукт холодной войны, как символ мужественного сопротивления террору, а не его эстетические и стилистические достижения — это в некотором роде и значит отнять у него его слова. И если вам безразлична поэзия как вид искусства, то мораль становится единственным критерием, который позволяет отделить хорошее от плохого. Хорошие стихи пишут хорошие, плохие — уродливые — и это тот контекст, в котором Мандельштама нужно рассматривать вне сравнении с борцами за справедливость, или жертвами, или антикоммунистами. Храни нас Господь от
Что касается самиздата, то я думаю, что он очень эффективно решил поставленные перед ним задачи распространения текстов теми средствами, которые были в его арсенале на тот момент.
Теперь, с появлением интернета, когда обмен информацией перестал быть ограничен обменом ее физическими носителями (но другие ограничения остаются в силе). Как я уже говорил относительно Аркадия, потенциальные связи активизируются в случае сходного круга чтения и сходных интересов, проходя через национальные границы. И «Pussy Riot» замечательный тому пример. Их деятельность выходит за пределы «русского диссидентства на экспорт» и становится частью мирового движения сопротивления. Мы выходим за пределы очерченных нами самими рамок.
НФ: В национальном контексте процесс над «Pussy Riot» поднял важные вопросы языка, начиная от ставшего анекдотическим бесконечного повторения словосочетания «срань господня» во время слушаний и в СМИ и заканчивая использованием слова «феминистка» как ругательства одним из свидетелей обвинения.
ЧБ: И когда это происходит, как со стигмой гомосексуальности, что было невозможно в 60-е и даже в 70-е, — чем больше об этом говорят, тем больше ситуация подвержена изменениям.
То, что для меня было важно, но невозможно показать в журнале L=A=N=G=U=A=G=E (потому что идеи связаны между собой и все на расстоянии кажется похожим), — это именно различия — не этнические, культурные, расовые или гендерные, а различия формальные, или асимметрия стратегий. Я думаю, это можно назвать радикальным эстетическим троцкизмом: представление о коллективности как общности маргинального, не вписывающегося в другие рамки, аномального. Это определение нельзя применить к России, но в рамках американской культуры, место поэзии (и философии) — там, где можно доходить до самых радикальных форм эксцентричности: со-общенности и
НФ: Поэзия в России тогда и сейчас во многом рассматривается как форма пророчества в традиционном или неомарксистском ключе. Вы говорите, что эта эксцентричность возможна потому, что у поэзии небольшая аудитория?
ЧБ: Я не уверен в том, насколько это форма пророчества, но у поэзии как у жанра небольшая аудитория, по сравнению с другими формами популярной культуры. И именно это делает ее полем для исследования и выражения не подчиненного норме, потому что в рамках поэзии оно может быть выражено и продемонстрировано. Парадоксально, что отсутствие финансового потенциала создает особые условия и потрясающие (и часто нереализованные) возможности. Парщикова пишет личные, ориентированные на микрокосмос стихи, которые вызывают огромный отклик, и при этом подчинены ряду правил, соблюдение которых позволяет поэту решать незавершенные задачи радикального модернизма. И несмотря на то, что у поэзии такого рода не найдется огромного количества почитателей ни в США, ни в России, она интересна мне тем, что, выходя за рамки национального, создает возможные для своего существования соединения. Это контекст для ответа на Ваш вопрос о самиздатовской практике и малотиражных изданиях. Мне сложно дать какой-нибудь совет
НФ: Какой Вы видите роль Интернета в формировании этого сродства неодинакового?
ЧБ: Я думаю, что интернет создает новые возможности для обмена информацией, но в той же мере и трудности. Одна из опасностей интернета для поэзии — в том, что интернет привел к глобальному господству английского языка и еще 4-5 языков, — это поток, который погребет под собой другие языки или потребует их искусственного оживления. Перевод в качестве противовеса становится абсолютно необходимым в современной ситуации господства цифровых технологий. Теперь можно переводить быстрее и мобильнее, чем в прошлом. Например, я вижу, или, скажем так, ожидаю увидеть, как группы молодых поэтов будут переводить друг друга, и это будет форма постоянного обмена.
Такая коллективная работа поможет избежать необходимости выбора одного великого поэта из большого контекста и, тем самым, стирания контекста, в котором он работает, часто даже во вред ему самому. Я хочу сказать, что для того, чтобы понять, что перед нами выдающееся стихотворение или поэт, нужно понимать то поле, в котором он работает, и те обмены, которые в этом поле происходят посредством публикаций и выступлений. Это самое поле поэзии — его можно назвать традицией, если рассматривать его в диахроническом аспекте, но синхронический не менее важен — это та почва, на которой произрастают стихотворения. И этот процесс появления поэзии — онтологически! — намного важнее любого отдельного поэта или стихотворения. И порой гениальные поэты и гениальные стихотворения — как концепт — могут стирать синхронное поле современности. Возможно, если бы я сказал это о музыке, было бы гораздо очевиднее: насколько важно совместное переживание музыки: кто-то сам играет на пианино, кто-то слышит, как играет нечто в духе Кейджа. И в этом величие музыки: не совершенство композиции, а опыт прослушивания. Величие Шопена не в «самом» музыкальном произведении, а в том эстетическом переживании, которое оно создает. Великий поэт потому великий поэт, что он умеет сделать переживание слов вне поэзии более интенсивным, благодаря чему слова становятся частью асемиотической экономики, которая строится на повседневном их использовании и трансформации (так же, как вы снимаете деньги в банке и тратите их). Под повседневным использованием слов я понимаю то, что вы в России назвали бы коллективным сознанием народа, о котором мы мало что здесь знаем… естественное, непосредственное языковое переживание культуры, переданное, преломленное и усиленное конкретным стихотворением (то, что Бахтин говорит о поэзии, и в чем суть поэзии).
НФ: Возможно, это более заметно в нашем коллективном опыте и менее заметно в сегодняшнем авторитарном устройстве.
ЧБ: И в этом противоречии есть грандиозный пафос, оно есть и у Гоголя, и у Достоевского, разве нет? И у более современных писателей, о которых мы говорили. Поэтому под лирическим следует понимать не отдельный голос отдельного человека, сопротивляющегося тоталитарному режиму, а хор голосов, диалог. Это то, что я пытался донести, — не знаю, насколько мне это удалось.
![#13 [Транслит]: Школа языка](https://fastly.syg.ma/imgproxy/POF4Jh0goEncVanatwVrDYa5pFaN1uTivUWGwLJtG98/aHR0cHM6Ly9mYXN0/bHkuc3lnLm1hL2F0/dGFjaG1lbnRzLzdm/Y2I1NjkyZDM2MTJh/N2I0ZmUzMDhkNGM5/Y2JlNDU4YjBkNjI1/YmUvc3RvcmUvNmYx/OWIwNWVhYmQwOWY1/MWJkZjQ3NmM0Mjg2/NjQ4MzNkMjEzMjg0/NGI5NjgyYjQ0MzFl/MDliMDQwOWY5L2Zp/bGUuanBlZw)
НФ: Вполне удалось. Какими вы видите трансформации практик перевода в обществе технологийи и как мы можем это применить к практике альманаха [Транслит]?
ЧБ: Я бы хотел попытаться представить новые формы перевода в интернете как сократические. Другими словами, перевод не дает ответы — аккуратный пересказ значений — а реагирует: перевод как дискурс, но не раба/господина/ оригинала/копии. Не регламентированное использование звуковых файлов, омофонный и машинный перевод, коллективный перевод, существующий наряду с традиционными формами «точного» перевода. Речь не идет о неверном переводе, просто вера иная — схожая с пари Паскаля.
На PennSound мало материалов на русском, и вот что, я думаю, следует сделать: записать стихотворение на русском, которое будет сопровождаться базовым интерфейсом на английском: название, автор, дата и место написания, может быть, перевод или парафраз, или описание, или комментарий относительно стиля, предмета, информация о поэте — все, что можно сделать без особых усилий. Так носитель английского сможет послушать звуковой файл, не зная русского, и получит какое-то представление о стихотворении. И в обратном направлении — можно взять стихотворение с PennSound и создать для него интерфейс на русском.
НФ: Да, верно, зная базовые паратексты, можно легко контекстуализировать работу.
ЧБ: Да, они доступны на том или другом языке, или на обоих. Конечно, для того, кто не знает русского алфавита, невозможно посмотреть русский архив. Потому что невозможно понять, что это, и нужен английский интерфейс — я использую это слова вместо слова «перевод». И это самый базовый способ создания ситуации обмена. Можно сделать еще многое помимо такого перевода, но с него можно начать. Ясно, что поэзия звучала столько, сколько существовал этот тип знаний. Но возможность обмена ею на расстоянии появилась недавно благодаря Интернету и компрессированным файлам mp3. Как записывать голос, было известно еще столетие назад, но возможность обмена этими записями нова.
Итак, я читаю стихотворение Голынко в переводе Евгения Осташевского в книге, которая напечатана в Ugly Duckling Presse в
1. Патрик Генри, Алексей Парщиков и Марк Шатуновский (Москва: Фонд Stella Art/ Poetry Club, 2008). (также опубликовано в журнале «Современная поэзия»; выпуск 2 (1 июня 2007) и выпуск 3 (1 сентября 2007): предисловие, окончание.
2. Close Listening. См. http://writing.upenn.edu/pennsound/x/Close-Listening.php
Также опубликовано на сайте [Транслит]
