Книги по истории материальной культуры
Кларк К. Петербург. Горнило культурной революции. М.: НЛО, 2019;
Ферингер М. Авангард и психотехника. Наука, искусство и методики экспериментов над восприятием в послереволюционной России. М.: НЛО, 2019.
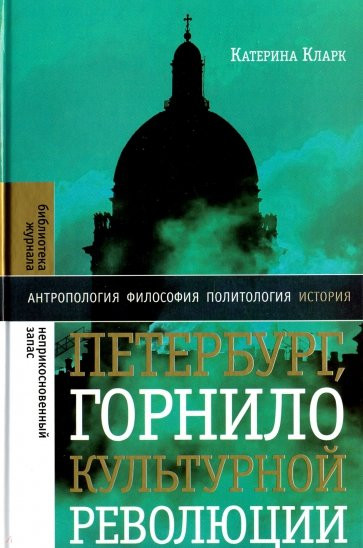
Катарина Кларк определяет свою книгу «Петербург. Горнило культурной революции» как case study по экологии революций. К уже известным из фразеологии формалистов не/прямым линиям наследования это добавляет «периоды адаптаций» и мутации «культурной флоры и фауны», а также то, что все представители существуют в одной экосистеме, не только действуют в ней, но и сами испытывают ее воздействие [1]. Вместо статичной бинарной логики сопротивления и сотрудничества это подразумевает кинетику «маневрирования в рамках спектра возможностей».
Петербург при подобном взгляде оказывается уже не сентиментальным выбором, а сознательно очерченным ареалом исследования эмпирического типа, и в этом можно видеть желание отстроиться от практики исследования его «текста», которая даже период после революции, изменившей столь много именно в повседневности и культурном быту, продолжает рассматривать как конструкт письменной традиции, в котором геологические слои пушкинского, гоголевского, достоевского периода прилегают непосредственно к «Петербургу» Белого. У Кларк эта знаменитая проза описывает пересмотр отношений культурного центра и периферии, а ритм, отсчитываемый из сардинницы, становится камертоном для повествования. Так или иначе, процессуальная формулировка локуса «культурной революции» удачнее претензии на
Если ареал культурной революции — Петербург, то начинается все собственно с 1913 года — этого «последнего нормального года», когда Романовы еще празднуют юбилеи, но поэзия и живопись уже одновременно прибывают к абстракции. Отвязать поэтический язык от повседневного (или знак от референта) — значит преодолеть земное притяжение и бросить землю, о чем мечтали монархист Федоров и будетлянин Малевич соответственно. Возможно поэтому первые манифесты футуризма и формализма тоже датируются этим годом.
Романтики-антикапиталисты и еретики просвещения
Совсем избежать этого не удается, но довольно быстро фокус смещается с города и его культурной мифологии на устройство интеллектуального поля и ведущегося поиска новой культуры, которые составляют в 1913 году субполе (и субпоиски) общеевропейских процессов. По мнению Кларк, их можно определить как «романтический антикапитализм» и причислить к ним гейдельбергский кружок Вебера и (прото)франкфуртскую школу — Зиммеля, Блоха, Беньямина [2], критикующих отчуждение и коммодификацию культуры в близких к эстетической утопии терминах. Этот зонтичный термин позволяет Кларк выделить и то, в чем сходились почти все, кто ждал в 1913 году в Петербурге революции — духа, слова, народа или пролетариата, — это противостояние рынку. Такая светская религия единства иногда заключала альянсы с народной, а иногда с высокой культурой, но во всех случаях избегала контакта со вкусами мелкой буржуазии. На пролетариат многими возлагалась функция изгнания торговцев из храма (культуры), хотя функция первокрестителя оставалсь за интеллигенцией, авангардом пролетариата или образованным классом.
Состав творческой интеллигенции в 1913 году уже не сводился к дворянам или разночинцам и оформлялся во
Две основные и не самые предсказуемые фигуры культурной революции Петербурга — Пиотровский и Радлов, «еретики Просвещения», ставшие чиновниками от культуры в новом государстве (или даже городе-государстве на манер античного). Эти «архаисты и новаторы» в одном лице не кажутся Кларк нетипичными, поскольку оказываются «мобилизованы и призваны» иначе проходящим фронтом — между монументализмом и иконоборчеством (в чем продолжает ощущаться оппозиция просветительских и романтических тенденций в раннесоветской культуре). C одной стороны ринга — мистериальный театр и превращение романа в манихейский эпос, с другой — отрицание «окаменевших» условностей (Шкловский), деканонизирующая пародия (Тынянов), эксцентризм (Мейерхольд) или движение на периферию (Третьяков). Это позволяет увидеть, что и пресловутый «великий перелом» 1929 года был направлен не столько на уничтожение авангарда, сколько на цензуру иконоборческой тенденции в нем и утверждение «культуры утверждения», тоже в нем присутствовавшей изначально. И здесь таится может быть наиболее заветный тезис Кларк: культура, восторжествовавшая в 1930-х в Москве, которую мы знаем как сталинскую (и которой сама Кларк посвятила обширные разыскания), эта культура статус-кво доминировала и чуть ли не была выпестована в среде интеллектуалов, спасавших/сохранявших Петербург в 1920-е — в том числе от революции.
Перцептивный милленаризм и скелет революции сознания
Еще одна соблазнительная терминологическая новация Кларк, позволяющая по-новому картографировать племена авангарда, — «перцептивный милленаризм». Кларк говорит об интернационале авангардистов, и это наследует их собственному словарю, однако если взглянуть на описание «эколога культурных революций», то его сложно отличить от этнографического, что резонирует с предложенным нами в этом выпуске ракурсом материальных культур авангарда. Существующие в 1910–20-е годы творческие интеллектуалы в основном встречаются в крупных европейских городах (помимо Петербурга предпочтением в разные сезоны пользуется Париж, Берлин, Цюрих), организовывают там выставки, выпускают манифесты, один-два выпуска нового журнала, непременно добиваются скандала, ссорятся между собой и перемещаются в следующий город для столь же легендарных маневров и контактов.
Среди повадок этой экологической общности Кларк называет постоянную практику обретения «нового зрения/видения», которое по внутренней легенде — как и в случае революции духа — является не столько гарантированным результатом, сколько еще только предпосылкой всякой социальной революции. Это, возможно, объясняет такую близость и взаимопонимание между людьми, ратовавшими за воскрешение отцов, культуры или Петербурга, и теми, кто был скорее заинтересован в более материальном «воскрешении слова». Кларк называет перцептивным милленаризмом такую секулярную (или даже психофизическую) форму озарения/откровения, которая и составляет сущность революции — если быть точным, уже скорее сознания, чем духа.
За эпистемологическую интерпретацию говорит и то, что наиболее связно программа перцептивного милленаризма формулируется в «Искусстве как приеме»: Шкловский цитирует Толстого, приходящего к тому, что то, чего он не помнит, что «не отложилось в сознании», как бы и не было, и это определенно отсылает уже не только к политике, но и к эпистемологии Просвещения и Локку с его моделью рефлексивной и мнемонической субъективности. Абсолютный приоритет «способности видеть» над «узнаванием» [4], а также привилегии, которыми наделяется восприятие в авангарде, имеют вполне сенсуалистские корни.
Причем эпистемологические идеалы «перцептивного милленаризма» переносятся с визуальных искусств на вербальные (заумь начинает рассматриваться в качестве звуковой абстракции или языкового импрессионизма [5]) и особенно на перформативные: новое зрение не столько внезапное озарение, сколько следствие собственных активных действий. Мэрджори Перлофф называет коллаж «жестом, определяющим авангард» (и тогда его инструментами будут ножницы и клей), но очевидно, что список парадигматических технических операций можно продолжить сдвигом, разрывом, совмещением (разнородного) или «сигналом без точного значения» (Бретон), каждая из которых обусловлена разными культурными и медиатехниками [6].
Здесь заманчиво выделить отдельные типологические черты различных племен авангарда на основании ставших добычей археологов материальной культуры инструментов и жестов, а также тех технических и языковых операций, которые можно по ним реконструировать. Если французский символизм, будучи одним из первых озабочен выявлением литературности как таковой, борется посредством суггестии с прямотой называния предмета, «уничтожающей три четверти удовольствия» (Малларме), то русский формализм борется, скорее, с ослепляющей гладкостью называния — посредством тех самых сдвигов и разрывов. Если проклятый поэт противостоит диктатуре трезвости, расшатывает свои чувства (они же смыслы [7]) и даже погружается в некоторую «галлюцинацию слов» (Рембо), то русский футурист, современник диктатуры пролетариата, напротив, борется с убаюкивающим влиянием слов и удерживается от впадения в пассивное состояние посредством обнажения чувственных данных, «весомых, грубых, зримых».
Так, в «Победе над солнцем» (что для климата Петербурга является довольно легкой победой) жертвой, в частности, должно пасть «солнце дешевых видимостей» (Матюшин), существующая наука и рационализм [8], но вместе с тем это возвещает и приход новой рациональности непредвиденного, случайного и тривиального. Под стать этой авангардной «эпистемологической трансгрессии» выстраивается и философия языка — заумного, самоценного или самовитого. Во всех этих названиях очевидна отсылка к самому себе и нежелание отсылать к
Наконец наряду со своеобразной эпистемологией вся эта борьба с déjà vu, системами и иерархиями имеет и свою материально-техническую базу — новые записывающие устройства, свергнувшие монополию символического и позволяющие записывать непредвиденное и случайное (услышанное). Чтобы расслышать слово как таковое, а не узнавать уже знакомые понятия, необходим фонограф, чтобы увидеть то, что не (было) доступно человеческому глазу, он должен быть дополнен и расширен киноаппаратом. Но Кларк настойчиво называет действия замешанных в «Победе над солнцем» исключительно «семантическим иконоборчеством», «когнитивным остранением» и «смещением существующих смыслов на периферию», явно ограничиваясь в своей собственной эпистемологии сферой символического, то есть алфавитом, с которым и боролись перцептивные милленаристы во имя «ни к чему не сводимой конкретности», то есть того, что может быть записано/передано без участия букв, но чему порой так удачно подходили новые медиа. Кларк как будто не очень любит технику: намного ближе ей Матюшин, предлагающий культивировать «Зорвед», пока не произойдет «физиологическая перемена прежнего способа видения», чем Вертов, идущий от
Зрение культивируется долго, но можно быстро научить художественному ремеслу (в особенности тех, кто был лишен права на образование), классовое сознание нужно еще взрастить, а риторика борьбы с буржуазным впитывается быстрее. Так или иначе, согласно некоторым внутренним свидетельствам, «футуризм умер как идея для избранных» уже в 1915 году, а к появлению конструктивизма в 1920-м многие мигрировали уже не только методологически, но и в Москву. В отличие от оставшихся в Ленинграде и на прежних позициях перцептивных милленаристов (получивших некоторое оформление в ГИНХУКе), конструктивисты ставят уже не на индивидуальные акты восприятия, но на новую материальную среду, которая — как скелет в случае первобытных людей — создаст возможность и для революции сознания. Этот еще менее трансценденталистский и более сенсуалистский ход имел простые практические лозунги: гигиена, распорядок, эффективность, польза — и они уже плохо сочетались с гедонизмом самоценного слова.
Впрочем, если уж милленаристы названы перцептивными, Матюшин говорит о «физиологической перемене прежнего способа видения», а Кандинский увлекается немецкими трактатами по психофизиологии, то вероятно и в «революции сознания» не все сводилось к языку. Удачным дополнением к обширному обзору культурной экологии 1920-х в книге Кларк может служить еще один case study — по
Психоанализ архитектуры против твердых носителей консерватизма
Если главное, что удается выделить Кларк, это принципиальный эпистемологический разлом, пролегающий между ленинградскими ересями и московскими редакциями авангарда, то Ферингер добавляет к этой схеме научно-техническую фактуру.
Ситуация противостояния между ветвями и городами осложняется медиально: если футуристы заявляли себя еще в 1913 году «голосом нового века технологий» (как мы уже предложили выше, заумь можно было бы рассматривать как культурный эффект новых технологий звукозаписи, а не просто очищение от «мирской референтности»), то их (высоко)культурные оппоненты, опять же базирующиеся в основном в Питере, ставили на более твердые носители (культурного консерватизма) — и в частности на архитектуру. Защита и охрана памятников «Старого Петербурга» по определению противопоставлена всякому сбросу с парохода современности. Ее апологетов занимает не столько функциональность зданий, сколько их живописный вид — статичный, монументальный, а не вертлявая башня. Дух петербургского порядка противопоставляется московской практической мобилизации и не предполагает никаких активных действий (кроме защиты и охраны). Наконец, архитектура — это не только медленно и обстоятельно, но еще обычно и с властью — где-то уже и с новой советской властью «инженеров-архитекторов» (Богданов).
Таким образом, старая архитектура, скопившаяся в Петербурге, и новая техника, скапливающаяся в Москве, где-то еще могут сойтись. Новая власть требует от всех практической полезности, и это делает общим идеалом добуржуазный профиль художника, будь то в версии Арватова или Радлова-Пиотровского: такой художник «знает свое место» в стенах своего города (где он заодно не только с народом, но и с властью, главное, опять же, — не на рынке). Этот идеал распространяется вплоть до башни Татлина, которая в описании Пунина должна была жить «социально-государственной жизнью города, а город должен был жить в ней». Тут уже «Конец Петербурга» начинает совпадать с его защитой, все совпадать со всем и слегка отличаться от себя.

Поставить на паузу этот мощный вихрь культурной истории из книги Кларк и насытить его техническими деталями можно только сосредотачиваясь на конкретных кейсах из материальной и институциональной истории авангарда, несколько примеров которой и дает Ферингер. Так, первая часть книги посвящена архитектуре, переживающей в эту эпоху наряду с культурным пассеизмом и утопизмом (в Петербурге) конкретные методологические влияния (в Москве) — так, в частности архитектурная лаборатория Ладовского переживает увлечение психотехникой.
С перемещением из питерского ГИИИ в московский ГАХН и ВХУТЕМАС мы сразу оказываемся в более прикладной атмосфере, не отменяющей свободы гибридизации новых методов и даже доходящих в ней до синтеза искусств с науками — как правило, психофизиологией, психофизикой и психотехникой. Задача исследования и улучшения конституции социалистического работника наследует перцептивному милленаризму, но существует уже скорее на
Стремление влиять на психику посредством форм, звуков или букв характерно для всех 1920-х и родом из 1910-х. Первой психотехнической формулой можно считать провозглашенную Шкловским в год революции «самоценность воспринимательного процесса, который должен быть продлен». ВХУТЕМАС, однако, придает этой психо-физике/физиологии авангарда новый технический/рациональный оборот. Можно проследить и географию распространения интереса: Ладовский воспринял интерес к психофизиологии восприятия от Кандинского [10] (а значит, через него и Вундта с
Ладовский понимает психику как функцию от зрения и движения и поэтому, во-первых, принуждает реципиентов своей архитектуры к движению, а
Впрочем, идея Ладовского предзадать восприятие архитектуры примечательно отклоняется от конструктивистского акцента на выявлении материалов/конструкций. Если конструктивисты настаивают на перспективе производителя и культуре технического специалиста, то Ладовский ставит в центр своих экспериментов, скорее, восприятие «пользователя», делая акцент на пространстве, а не материальной конструкции, что делает архитектуру окончательно неотличимой от
Период НЭПа, с которым совпадает период существования лаборатории Ладовского, обозначал не столько выход искусств в повседневность (как полагает в целом симпатизирующая этому Ферингер), сколько, напротив, их возвращение к спецификации (как предлагает Кларк). Так или иначе, утилитарные эксперименты продолжаются уже не столько при поддержке власти, сколько на договорной основе с рынком, хотя и под ее чутким контролем. Творческая энергия вкладывается теперь в потребительский быт и среду, а не в монументальные по- и установки, которые, как ни странно, история сохраняла даже без реализации (как фантазм башни Татлина) лучше реальных материальных объектов.
Одним из примеров таких объектов, которым не повезло, являются приборы Ладовского [13]. В выкрашенной в черный комнате с их помощью он тестирует и предположительно улучшает зрительные способности архитекторов к измерению, то есть измеряет способность измерять, выступая в роли «воспитателя воспитателей» (Ленин) или притязая на определение круга определяющих (Бурдье). Не случайно анкеты для его студентов включают вопросы об «архитектурной социологии» и «вопросы педагогики и психотехники». Это измерение и воспитание чувств является довольно амбициозной задачей даже для науки, которая не может ни локализовать, ни исключить их участия, а философия языка и сознания (того времени) и вовсе вынуждена дедуцировать их из внешних признаков. Но измеряемые Ладовским чувства оказываются еще и весьма языковой вещью, как можно судить по тому, что к ним «неизбежно примешиваются ассоциации, очень мало связанные с самой конструкцией здания» (85). Да и сами эти формуляры содержат графы «внимание» и «память» для заполнения цифрами, что уже подавно не сводится к вопросам пространственного восприятия и говорит о том, что Ладовский конструирует философию восприятия просветительского масштаба.
Если современные Science & technology studies говорят о скрываемом воздействии технонауки на социальную жизнь и управление поведением людей (в том числе архитектурой), то конструктивисты еще пытались управлять ими «по-хорошему» или, по выражению Арватова, «вскрывая приемы воздействия» [14]. Поэтому и Научная организация труда еще видится инструментом в руках самих рабочих, а не уловкой начальников — даже когда она учит, по выражению Гастева, «синхронизации движений человека и машины». В нынешнюю технофобскую эпоху эта формулировка не могла бы не насторожить. Приборы Ладовского оказываются ближе к новым медиа-техникам, с которыми уже давно синхронизируется пишущее животное, они механизируют восприятие, так же как ранее таблицы или кавычки — работу с информацией. Рационалистическая архитектура экономит не труд рабочих и материалы, а психическую энергию при восприятии — то, что сегодня назвали бы нематериальным трудом. Впрочем, остается непонятным, имеет ли этот труд восприятия еще термодинамический или уже информационный характер, а эта политэкономия восприятия — может ли еще быть названа линейной, или в ней уже случаются перехлесты и обратные петли [15]. Так или иначе, в отличие от большинства конструктивистов, проекты Ладовского изобилуют игрой точек зрения, немотивированными повторами и пропусками ритма, противоречием и разрывом форм — прямо как в «устном письме» психоанализа, понятием которого Ладовский активно пользуется, хотя подразумевает под этим всего лишь анализ влияния пространства на психику человека.
Точно так же Гастеву приходилось искать отличия русского НОТа от западного тейлоризма (отличие заключалось в охране труда), а также стараться обогнать само время, и поэтому НОТ должен был «механизировать не только жесты, но и повседневное мышление». Эту задачу можно считать перевыполненной сегодня платформенным капитализмом. Аналогично этому проекты учеников Ладовского тревожно напоминают Ферингер паноптикон Бентама и распространяют механизм контроля закрытого учреждения на весь город-сад, но его собственная практика натаскивания «рецепиентов с рефлексами» немногим отличается от обучения нейросетей и алгоритмов Google, механизировавших сегодня, как добивался советский НОТ, не только наши жесты, но и когнитивные операции.
Дефицит бумаги и институциональная психогеография
Когда Кларк в свою очередь касается даже такой прозрачной аппаратной метафоры, как «конденсаторы новых социально-общественных взаимоотношений» (так Гинзбург описывает дома-коммуны), она говорит о ритуализации пространства. Между тем аппарат, в который Гинзбург решает поместить семьи рабочих и который он сам сравнивает с конвейерной линией («сводить к минимуму перемещения рабочего по квартире»), подсказывает, что его воображением управляет не только НОТ, но и термодинамика: «конденсатор» либо накапливает заряд, либо даже усиливает «напряжение деятельности <…> в навыках и привычках населения» (379). Если научно-техническим бессознательным Ладовского являются оптические приборы, то у Гинзбурга социалистическая среда имеет термодинамический характер в ней за счет экономии энергии и/или катализации жизненные процессы идут интенсивнее. Такая отчаянная экономия энергии и времени посредством коллективной организации пространства (к минимуму сводится не только растрата энергии, но и жизнь «частного человека») производится в интересах творчества, которое разрастается до «десяти часов в день на улучшенный отдых».
Что Кларк хорошо удается, так это увязывание «революционной фразеологии» с изменением образа жизни или письма: например, когда мобильность начинает связываться уже не со стихией (почти природной у Блока или Пильняка) революции, а со скоростью городской культуры и техники. Она отмечает, что и в литературе начинает цениться умение писать быстро, но вывод о литературной эмуляции убыстренного темпа кинематографа не звучит. Между тем в саму эпоху 1920-х приходит понимание, что всякая художественная/научная техника перепрошивает наше внимание. Беньямин назовет кино причиной акустического и оптического углубления апперцепции, а Тынянов — следствием организации труда («Каждый день распластывает нас на 10 деятельностей. Поэтому мы ходим в кино» [16]), но в любом случае теперь с этим приходится считаться и самой литературе. Литературы часто утверждают, что «чувствуют по-новому» или что «сама жизнь изменилась», намного реже уточняется, что эти чувства и изменения обязаны машинам, которые начинают быстрее перемещаться в пространстве (футуризм) или распространять информацию (ЛЕФ).
Намного увереннее Кларк чувствует себя на бумаге. Иногда благодаря ей она сближается с методологией материальной культуры — особенно этому способствует разговор о бумаге как дефицитном носителе и физическом операторе возможности высказывания. Так, в условиях материального дефицита военного коммунизма (не ускользнувшего уже от Блока в «Двенадцати») отсутствие бумаги заставляло писателей представлять свои произведения устно, а возможно поэтому все чаще «работать с голоса» и привилегировать малые и часто квази-драматические жанры [17].
Скоро основанный в НЭП Главлит начинает определять достойную поддержки культуру очень просто — распределяя бумагу. Такая «цензура носителя» в сочетании с безработицей интеллектуалов и выросшими втрое ценами на книги (
Авангардисты перестают рассматривать площади как свои палитры и уходят с них, когда появляются штабы, вроде ГИНХУКа и ГИИИ, полунезависимые и достаточно элитарные для выработки теории авангардной практики. Выходит, что возвращение интеллектуалов к традиционным институциональным моделям и материальным носителям позволяет не только вернуться литературе на авансцену [18], но и начаться ее теории. При этом усиливается чувство институциональной картографии.
В 1924 году при ГИИИ формалисты собирают Комитет современной литературы: «Формалисты и их коллеги по ГИИИ не хотели быть только учеными, предпочитая считать себя борцами за радикальные перемены в культуре» (261). Эту черту институционального поведения Кларк сразу наносит на карту Петербурга: формалисты из принципа не хотят переносить свои заседания на Васильевский остров — цитадель старого академизма (тогда как
Тут же масштаб карты и выводов укрупняется: по тиражам литературных журналов Кларк судит о том, что Москва стала центром мейнстрима и власти, тогда как Петербург — столицей то ли периферийной, то ли опальной культуры уже в середине 1920-х, он выглядит то ли более независимым, то ли «бывшим». Все это перераспределение отношений между (экс)центром и (новой) периферией не может не напомнить описание Тыняновым литературной эволюции, которая публикуется все же именно в московском ЛЕФе за 1924 год. Собственно, столица, ограничивающаяся теперь статусом «культурной», и не давала развернуться таким движениям, как ЛЕФ, но зато проводит Пушкинские дни, на которых мобилизуется обеспокоенность сохранностью культурных ценностей и усиливается общегрупповая идентичность интеллигенции без того, чтобы проводить в ней какие-либо «фронты».
На место устных форм и синхронных аффектов приходит «век объяснений, нужда в историзме», то есть больших повествований. Литературные формы растут не только в результате флуктуаций жанровой системы, но и по мере того, как убывают исторические потрясения, возвращаются прежние институциональные роли и преодолевается дефицит бумаги. Однако все эти страсти несколько изменяются в масштабе, если перевести свой взгляд на другие носители и отправиться в настоящие лаборатории.
<…>
Павел Арсеньев

Полностью текст доступен в #23 [Транслит]: Материальные культуры авангарда.
Выпуск также включает рец. М. Князева на: Brandist C. The Dimensions of Hegemony: Language, Culture and Politics in Revolutionary Russia. Leiden: Brill, 2015.
Заказать в интернет-магазине «Подписные издания» (475 р.) или на сайте [Транслит] с доставкой (300 р.) на свой почтовый адрес.
Примечания:
[1] . Нам уже доводилось касаться экопоэтики в #21 [Транслит] в 2019 году.
[2]. С нашей точки зрения, эта плеяда интересна — особенно в контексте темы этого выпуска — своей принадлежностью к тому, что можно назвать генеалогией культуры объектов: Зиммель читает лекции о материальной повседневности, которые слушают все перечисленные (а также вполне причисляемый к ним Кракауэр) и которые каждый из них по-своему продолжит в своих исследованиях вещей.
[3]. Рингер описывает под именем «мандаринов» образованный класс, стремящийся стать аристократией духа/интеллекта и противостоящий в этом еще только становящейся и столь же самозваной «аристократии капитала». См.: Рингер Ф. Закат немецких мандаринов: Академическое сообщество в Германии, 1890–1933 / Пер. с англ. Е. Канищевой, П. Гольдина. М.: НЛО 2008.
[4]. Которое здесь оказывается ранней версией слышания-понимания (s’entendre) Деррида.
[5]. См. подробнее о «революции языкового пятна»: Арсеньев П. «Писать дефицитом»: Дмитрий Пригов и природа «второй культуры» // Новое литературное обозрение № 155. 2019.
[6]. См. подробнее о
[7]. В письме Полю Демени Рембо упоминает формулировку dérèglement de tous les sens, допускающую не только словарно, но и контекстуально двойственный перевод франц. sens — (расшатывание) как чувств, так и смыслов. В контексте его же формулировки l’hallucination des mots эта двойственность получает тем более сознательную природу. См.: Rimbaud A. Lettre à Paul Demeny, 15 mai 1871; цит. по: Wikisource.
[8]. Это во многом напоминает борьбу феноменологии с естественной установкой. См. подробнее об этом и движении к самим вещам в: Маяцкий М. «Вперед к вещам!»: феноменология и вещи — в этом выпуске.
[9]. Речь соответственно о Государственной академии художественных наук и Высших художественно-технических мастерских в Москве и Государственном институте истории искусств и Институте художественной культуры в Ленинграде.
[10]. Когда он будет вытеснен конструктивистами из ВХУТЕМАСа, Кандинский открывает в ГАХН «физико-психологический отдел». Как в свое время Золя в «Экспериментальном романе» не довольствовался описанием, так и в ГАХН «говорят об экспериментальном, а не только эмпирическом искусствоведении». См. подробнее о дискуссиях в ГАХН: Хенниг А. Фактография объекта — в этом выпуске.
[11]. См. подробнее об отделах ленинградского ИНХУКа, где также фигурировали художественная и материальная культуры: Кукуй И. Археология авангарда — в этом выпуске.
[12]. Именно Просвещение — энциклопедисты и впоследствииКант — делают человека эпистемологическим и этическим критерием соответственно, а потом этот же принцип переживает дауншифтинг в романтическом педалировании субъективной оптики.
[13]. Их мы знаем в реконструкции, которые и сами хранятся в некотором забвении в Выставочном зале на Шаболовке, они же послужили иллюстрациями в книге Ферингер.
[14]. Общим и собственно делающим сильным ходом такое изучение истории авангарда по модели исследований истории науки оказывается объект — как от научных лабораторий, так и от советских «психо-инженеров» остались прежде всего приборы и аппараты, которые пришлось/удалось построить в ходе переговоров с системой восприятия. Именно эти приборы остались выразительными фигурами на фоне не всегда идеально согласованной теории.
[15]. Ср. как Александра Новоженова разводит понимание электричества в ЛЕФе и у Платонова по критерию политической экономии (психической) энергии. См. ее текст «Формулы энергии» в: #22 [Транслит]: Застой / быстрые коммуникации (2019).
[16]. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М: Наука, 1977. С. 322.
[17]. Чуть позже Маяковский попробует гипостазировать этот хозяйственный эпизод и закрепить завоевание революции, которая «дала слышимое слово, слышимую поэзию», с помощью радио. См. «Расширение словесной базы» Маяковского.
[18]. Ср. с тем, как Лисицкий в «Нашей книге» (1926) отмечает, что с 1922 года быстро начинает расти книжное производство.
