Олег Горяинов. Политика страха абстрактного: к теории «живописных сцен» между художниками
Простое всегда существует только в сложной структуре
Луи Альтюссер
Комментируя политические коннотации теории (современного) искусства Клемента Гринберга Б. Колленберг-Плотников обратила внимание на любопытную инверсию основной задачи авангарда. Вместо перманентной критики общества «художественный авангард» приобрел функцию апологетики определенной модели государственного устройства. В частности, «абстрактный экспрессионизм, сам по себе не имеющий отчетливого политического содержания, благодаря специально подобранным аргументам пропагандировался как феномен, характерный для определенной общественной формы: беспредметность как свобода от постулата подражания попросту отождествлялась с гражданской и индивидуальной свободой». Подобное суждение симметрично критике соцреализма с позиций канона западного искусствоведения середины ХХ века, согласно которому предметность отсылает к тоталитаризму и (ли) китчу, что выражается в итоговой оппозиции: абстрактное как свободное от давления конвенции (в либеральной парадигме индивидуальных прав и свобод) vs фигуративное как следствие определенной государственной культурной политики.
Неудивительно также, что аналогичный ход мысли демонстрируют советские теоретики, которые на примере кубизма выводят формулу, дублирующую позицию Гринберга, лишь противоположным образом расставляя оценки. «[С]амое лучшее в кубизме то, что он еще не дошел до полной абстракции, еще не совсем порвал с изобразительным искусством». Хотя в «Кризисе безобразия» Лифшиц связывает аутентичный поиск кубистов с критической направленностью «плоской абстрактной живописи», противопоставленной «трехмерному изображению как иллюзии», т. е. за авангардом признается функция критики «идеологии», именно движение к «окончательному распаду форм» дискредитирует «самые лучшие намерения» художников-авангардистов. Таким образом, полная абстракция, согласно Лифшицу, оказывается точкой невозврата, после которой эмансипаторный потенциал художественного жеста иссякает.
Однако, несмотря на полярность суждений Гринберга и Лифшица, оба исследователя оказываются по одну сторону баррикад, если проанализировать их аргументацию с точки зрения вопроса о «гуманизме». Если для советского искусствоведа абстракционизм неприемлем в силу его тотальной дегуманизации, то апология абстрактного экспрессионизма Гринбергом обусловлена либеральной моделью мышления, для которой свобода самовыражения (художника) идет рука об руку с защитой прав человека. Но ровная симметричность оппозиционных подходов Лифшица и Гринберга становится проблематичной, если ввести в настоящий дискурс понятие «реального абстрактного» в версии Альтюссера из статьи «Кремонини, художник абстрактного». «Кремонини — художник абстракции. Не абстрактный художник, »изображающий» в новой форме или новом материале чистую отсутствующую возможность, а художник реального абстрактного, «изображающий», в смысле, который предстоит уточнить, реальные отношения (как отношения, они необходимо абстрактны) между «людьми» и их »вещами» или, скорее, если угодно придать этому слову более сильный его смысл, между «вещами» и их «людьми»».
Если отвлечься от конкретного анализа работ Кремонини и обратиться к понятийному ряду концептуального аппарата Альтюссера, то проблематика различных версий абстрактного предстает в ином свете, нежели в модусе критики-апологетики у
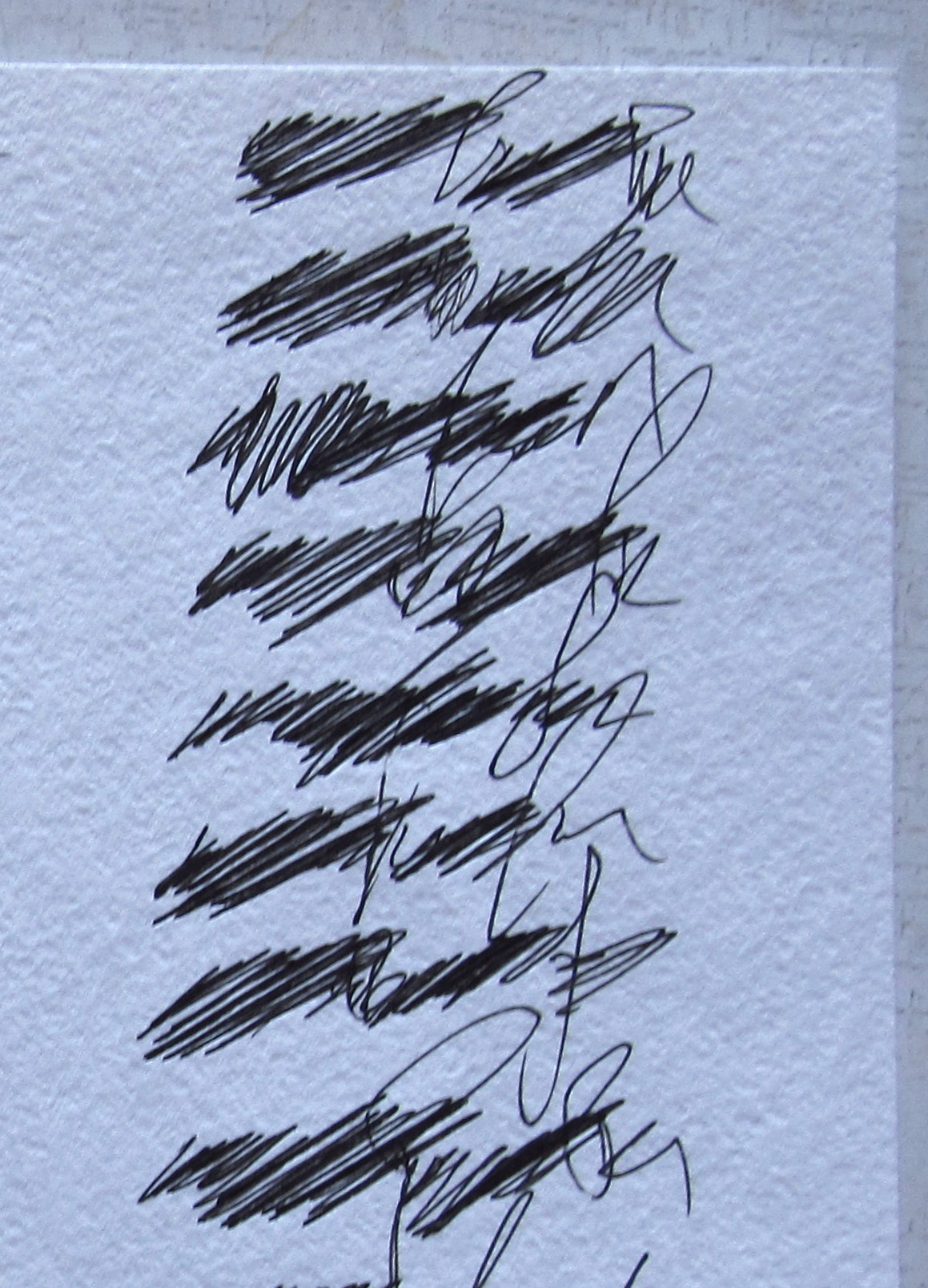
СЦЕНА 1. ПАБЛО ПИКАССО — ФРАНСИС ПИКАБИА
Хорошо известно сложное, но перманентно негативное отношение Пикассо к абстрактной живописи. Мотивы подобной реакции неоднозначны, однако одной из причин, несомненно, выступало традиционное понимание роли и задач художника. Согласно Пикассо, живописец обязан пройти артистическую инициацию в форме обучения ремеслу. Симптоматична его реакция в анекдоте Гертруды Стайн, когда Пикассо был возмущен попаданием картины Элис Токлас в Салон, несмотря на то, что Токлас никогда ранее не рисовала. (В действительности речь шла о шутке Стайн, когда под именем Токлас выставлялась работа одной американской художницы, но именно эмоции Пикассо здесь показательны). Возмущение подобного рода связано с нарушением требований институции, которую Пикассо знал под именем традиции. В этой же оптике следует понимать настойчивое отвержение понимания его живописи кубистского периода в качестве абстрактной. «Пикассо громогласно протестовал, если кто-нибудь говорил о его живописи как об абстрактной. <…> Для него тотальная абстракция была декоративной, смертью искусства». Однако подобная реакция, хотя она и удивительно консервативна для художника, сделавшего возможным, по словам Джона Берджера, «революционный момент кубизма», тем не менее может быть примирительно прочитана в модусе слепоты к собственному изобретению. Но если обратиться к сложности отношений Пикассо с Франсисом Пикабиа, то вопрос об абстрактном предстает в несколько ином ключе.
Розалинд Краусс показывает, что ревность к успеху Пикабиа, в частности, внимание к нему со стороны Аполлинера, не самый важный мотив в противостоянии двух авангардистов начала века. Также, согласно Краусс, речь не идет о конкурировании двух модернистских парадигм, как это могло бы показаться на первый взгляд. Скорее здесь проявляется настойчивое (не)узнавание (в психоаналитических терминах, своего рода отрицание-Verneinung) собственного открытия со стороны Пикассо в его радикальном продолжении у Пикабиа. Таким образом, отрицание работ Пикабиа 1915 года со стороны Пикассо оказывается перверсивной формой их утверждения или, вернее, утверждения в них специфического значения абстрактного, которое одновременно опасно и притягательно.
Краусс пишет, что в начале 1916 года, когда художественная богема находилась в ожидании следующего шага со стороны кубистов, авангард приобрел несколько новых направлений, «не последнее место среди которых заняли чистая абстракция с одной стороны и фотомеханическая концепция искусства — согласно которой реди-мейд сочетался с фотографией — с другой». Интересно здесь то, что работа с «чистой абстракцией» хотя и проходила параллельно и, на первый взгляд, отдельно от экспериментов с фотографией, обе тенденции были обусловлены общей логикой авангардного движения того времени. Так, ссылаясь на исследование Б. Бухло, Краусс утверждает, что, несмотря на полярность стратегий изображения — с одной стороны антимиметическая, а с другой — тотально репрезентативная, и абстракция, и фотография влекут за собой радикальную критику «ремесленной» функции художника. Навык ручной работы, важный для Пикассо, становится незначимым. Далее, будучи глубоко безличным, механическим производством, и абстракция и фотография приспосабливаются к условиям серийной продукции. Машинное, механизированное начало новой живописи, которое отталкивало Пикассо, не только продолжает линию дегуманизации визуального образа, что отмечали в дальнейшем многие теоретики, но и лишает произведение искусства его культовой составляющей, которая после утраты «ауры» сохранилась в понятии индивидуального гения. Таким образом, «логика абстракции, в не меньшей степени, чем фотография, представляет собой сражение против уникального, оригинального и незаменимого».
Однако «страх абстрактного» в случае Пикассо позволяет проявить антиномию, имманентно присущую модернистскому поиску, а не противостоящему ему извне в качестве реакционной угрозы (в духе «Пикассо-традиционалист» vs «Пикабиа-авангардист»). То событие в истории современной живописи, которое произвели Пикассо и Брак изобретением кубизма, столкнулось не только с выхолащиванием его потенциала путем превращения кубизма в очередной «-изм» художественного течения, но и с радикализацией «момента кубизма» средствами и техниками, логически вытекающими из кубистской интенции. Согласно Краус, Пикабиа представлял собой позицию не внешнюю кубизму, но внутренне ей присущую, следствия которой Пикассо не мог принять в силу своего представления об искусстве в терминах уникальной ремесленной практики. «Страх абстрактного» у Пикассо представляется своего рода возвращением вытесненного, в данном случае деполитизацией художественного жеста: авангардизм Пикассо уклоняется от эмансипаторной задачи искусства. Его художественный проект смещает границу властного различения, но не отменяет ее.
Вспоминая об отношениях Пикассо и сюрреалистов, Брассай очень точно ухватил основной мотив напряженного согласия между ними. «Бретон хвалил Пикассо за то, что тот сумел преодолеть кубизм благодаря «могучему и страстному, хотя и неосознанному стремлению», от которого эта жесткая доктрина сотрясалась, как под натиском «мощных и не стихающих бурь»». Выделяя Пикассо из общего ряда кубистов за «свойственный только ему лиризм», но критикуя его же за «слепоту к воображаемому», Бретон хотя и ошибается в оценке того, что именно было ценно и революционно в кубизме, но метко проводит различие, на основе которого проблематика абстрактного оказалась расколота. С самого начала ХХ века революционность авангарда проходила не по линии напряжения «предметное-абстрактное», но, аналогично философской оппозиции картезианства и спинозизма, по линии трансверсальной критики субъект-объектной модели мышления с позиции логики сил и аффектов. То, что самим фактом своего творчества выявил Пикабиа у Пикассо, — это неверная постановка проблемы. Вопрос не в том, чему отдать предпочтение — воображаемому ли миру субъективного самовыражения или переработанной этим же сознанием объектной реальности — тем самым нарушив конвенции фигуративности. И не в том, в какой момент осуществляется переход от предметной живописи к абстрактной. Вопрос в том, как ввести в повестку дня авангарда проблематику (в терминах Альтюссера) «реального абстрактного», т. е. проблематику, понимающую «всякое противоречие как противоречие сложного структурированного целого с доминантой», т. е. как противоречия «сверхдетерминированного».
СЦЕНА 2. ФРЭНСИС БЭКОН — ДЖЕКСОН ПОЛЛОК/АНРИ МИШО
Фрэнсис Бэкон имел перед глазами иные версии абстрактной живописи, нежели Пикассо в 1910-е годы, а потому неудивительно, что его критическая аргументация обнаруживает иную проблематику. «Понимаете, искусство — это, по-моему, отчет, репортаж. А в абстрактном искусстве, где репортажа нет, не остается, на мой взгляд, ничего, кроме эстетики художника и
Делез связал переход живописи к абстракции с необходимостью ответить на вызов, брошенный фотографией и кинематографом. Раз живопись лишилась «модели для изображения», чью функцию взяла на себя фотография, и «истории для рассказа», которая воплотилась в кинематографе, то художникам пришлось уклоняться одновременно от фигуративности, воспроизводящей реальность (миметическая функция искусства), и фигуративности, рассказывающей историю (нарративная функция). Переход к абстрактной живописи представляется в этой перспективе аналогичным экспериментам в модернистской литературе: «реализм» и «повествовательность» отбрасываются не сами по себе, не как проблемы, устаревшие для живописи или литературы, но переосмысляются в иных терминах. Иначе говоря, дело не том, что фотография и кино начали лучше выполнять функции живописи и литературы, которые, как показал Гринберг, в определенный момент тесно сплелись, а в том, что они завладели «зрением» читателя-зрителя, изменив сами навыки чтения и смотрения. Или, как это точно сформулировал Делез, фотография, согласно Бэкону, «опасна не просто потому что фигуративна, но потому что претендует на владычество над зрением, а, следовательно, и над живописью».
Таким образом, вопрос об абстракции поставлен здесь в контексте основного мотива Просвещения — критики и развенчивания предрассудков, а применительно к искусству — иллюзионизма. Акт творения как акт сопротивления в случае с визуальными искусствами предполагает сопротивление инерции зрения и магистральным техникам видения. Следовательно, задача живописца заключается в том, чтобы сделать видимыми (в терминах Делеза) «невидимые силы», (в терминах Альтюссера) «невидимые (т. е. реальные) отношения». Неудивительно в этой перспективе, что письмо, по Делезу, предполагает необходимость «не заполнить белую поверхность, а, скорее, освободить, разгрести, расчистить». Всегда уже есть некая данность, которая представляет собой упрощенный (=искаженный) образ действительности, следовательно, требуется работа по его развоплощению, выявлению его неистинности и редуцированности. Так, вопрос об абстрактном помещается в контекст иной проблематики — формальное/телесное, упорядоченное/хаотическое.
«В искусстве, и в живописи так же, как в музыке, речь идет не о воспроизведении или изобретении форм, а о поимке сил». Работа с формами легко может скатиться к схематизации (=упрощению), либо к иллюстративности, что в обоих случаях исключает эмансипаторный потенциал художественного жеста. Именно поэтому, анализируя работы Бэкона, Делез постоянно удерживает вопрос об абстрактном искусстве как опцию возможную, но и потенциально бесперспективную. В тех случаях, когда абстрактная живопись сводится к «символическому коду», то визуальное утрачивает связь с хаосом данного, изымая «реальное» из «абстрактного». Если верно, что задача художника — расчистить уже имеющееся, то, когда «квадрат Мондриана выходит из фигуративности (пейзажа) и перепрыгивает хаос», художественный жест уклоняется от актуального вызова. Здесь следует вспомнить, что хаос, по Делезу, представляет собой не максимальную степень беспорядка, а наивысшие скорости возникновения неопределенности. Поэтому живопись как «поимка сил» не броская метафора, а концептуальная альтернатива оппозиции «фигуративное-абстракт-ное». Основная проблема для Бэкона-Делеза — не степень деформации формы тела, а точка перехода от формы к телу. Аналогично тому, как абстрактная и фигуративная живопись «могут преобразовать форму, но деформировать тело им не под силу», критическая сила живописи заключается в ее способности переопределить саму проблематику, сформулировать вопрос иным образом, т. е. сделать видимым напряжение/противоречие, которые могут попасть в ловушку двух полярностей: фигуративного упорядочения либо абстрактно-экспрессионистского уподобления хаосу.
«Мишо — очень, очень умный и проницательный человек… Я думаю, что он создал лучшие произведения в стиле ташизма, или с применением свободных меток. По-моему, в этой области, в свободных метках, он далеко превосходит Джексона Поллока». Противопоставляя Мишо Поллоку, Бэкон интуитивно указывает на ту тонкую линию, которая различает весьма близкие на первый взгляд формы абстрактного. «Мистическая мощь линии» экспрессионизма Поллока не может быть удовлетворительной для Бэкона, так как она отдается слепому следованию случаю, тогда как «в живописи, в отличие от азартной игры, случай можно повернуть себе на пользу». То есть сделать так, чтобы бесформенное служило указателем на выход из состояния кантовского «несовершеннолетия», чего не в состоянии предложить письмо, ориентированное на спонтанность ручного жеста на полотне. Ошибочно называя себя фигуративным художником, Бэкон стремился уклониться от опасности впадения в новый культ, возводимый на основе абстрактного экспрессионизма теоретиками вроде Гринберга, примирительная интонация (=логика консенсуса) работ которых не вызывает сомнений в идеологических импликациях. Казус Поллока «пугал» Бэкона тем, как легко проблематика критики и эмансипации превращается в дискурс умеренности и уместности.
3. МАРСЕЛЬ ДЮШАН — МЕЖДУ КУБИЗМОМ И АБСТРАКЦИОНИЗМОМ
В главе «Реди-мейд и абстракция» в книге «Живописный номинализм» Тьерри де Дюв обнаруживает неожиданную симметрию: аналогично тому, как абстракция представляет собой отказ от изображения, реди-мейд суть отказ от живописи. Понимая уход Дюшана от живописи как «стратегический», де Дюв доказывает, что «эта стратегия в принципе равнозначна отказу Мане от светотени, Сезанна — от перспективы и Малевича — от предметности». Случай Дюшана тем более интересный, что во времена своих кубистских работ он стремился преодолеть «кубизм как магистральный путь» путем введения движения в изображение, соглашаясь в целом с кубистской конвенцией относительно формы. И лишь последующие отказ со стороны Салона, поездка в Мюнхен и знакомство с немецкоязычной традицией авангарда, принципиально отличной от французской, привели к возникновению новой перспективы для Дюшана, завершившейся «изобретением» реди-мейдов. Таким образом, не близость к абстрактному стала причиной отказа от (кубистской) живописи, но следствие определенного неосознания проблематики абстракционизма в кубизме.
Стратегия Дюшана может быть схематично изображена следующим образом. В той мере, в какой кубизм был им воспринят как недостаточно радикальный критический жест, проблематика работ и текстов Кандинского, Мондриана, Малевича и Клее, напротив, представлялась более адекватной, актуальной, но и чрезмерно серьезной, что возвращало для Дюшана в живопись вопрос об Абсолютном. Если, согласно де Дюву, перечисленные живописцы пытались «разговорить визуальное, а именно заставить его говорить на языке чистой живописи», то «ирония», «праздность» и «непрофессионализм» Дюшана задают такой режим художественных поисков авангарда, который не может быть описан на языке «чистого». Проблема в том, что «абстракционистский отказ от ремесла» Малевича и Мондриана не аналогичен отказу Дюшана, как это пытается представить де Дюв. Если отказ первых означает перевернутую стратегию признания, аналогичную той, что Бурдье описал в «Поле литературы» на примере непризнанных авторов, то жест Дюшана хотя и был ретроспективно признан как художественный, вводил искусство в игру тотального (не)признания как потенциального признания всех и каждого. Тогда как абстракционисты, разумеется, вопреки своим интенциям, в итоге переопределили правила рынка и способы существования такого товара, как «произведение искусства», Дюшан пытался придать иную скорость уже существующей рыночной ситуации. Если теория Кандинского, внимательная к цвету как имени, вводила теологические структуры мышления и творчества с «черного входа», то практика Дюшана, утверждавшая безразличие к вкусу и субъективности, исключала возможность «любой обращенности вовне». Из философов наиболее точно сформулировал эту особенность жестов Дюшана Лиотар, когда указал, что его «практика» не оставляет «никакого места мистицизму». Реди-мейд — как критика «капитализма как религии» — отделяет искусство от его привязанности к религиозному аппарату почитания, но стремится осуществить это не изобретением новых форм (жизни или творчества), а выхолащиванием уже данного.
Абстракция, будучи потенциально близка Чистому, а следовательно, Абсолютному, в глазах Дюшана представлялась амбивалентной формой сопротивления рыночной логике принуждения. Параллельно тому, что она могла проявить «реальное отношений» и осуществить десакрализацию положения вещей, переводя режим «простого» в «сложное», обратной стороной могла стать ресакрализация в терминах «нового языка», «чистой формы» или «Абсолюта спонтанности». Опыт Дюшана представляет собой такой выход из апории живописи начала ХХ века, который переопределяет сам вопрос, нежели стремится найти новый, неожиданный ответ. И вопрос Дюшана избегает ловушки оппозиции «фигуративное-абстрактное». Оказавшись в ситуации между двумя авангардами (немецким и французским) Дюшан предложил отказ, как «упорствование в невыборе».
***
«Страх» Пикассо перед ощущением близости к работам Пикабиа; неприятие Бэконом абстрактного экспрессионизма; колебание и неожиданное решение Дюшана в ситуации (не)выбора между французской и немецкой моделями авангарда — все это результат не всегда внимательного зрительского опыта со стороны художников. Очевидно, что то, что видят и как реагируют Пикассо, Бэкон и Дюшан, не может служить образцом проницательной «критики». Однако рассмотренные «сцены» позволяют указать на неоднородность и амбивалентность проблематики абстрактного, которая в терминологии актуальной теории и философии искусства зачастую равно утрачивает политические и эстетические импликации. Проблема не в том, что оппозиция «фигуративное-абстрактное» или дискуссии о (не)предметном искусстве упрощают ситуацию, а в том, что подобное упрощение искажает перспективу «наблюдателя». Видимое помещается в теоретический контекст неверно поставленных проблем, скрывающих противоречие «реального абстрактного» актуальных отношений. Не авангард утрачивает свое политическое назначение, но концептуальная рамка, в которую он помещен, побуждает мыслить в лучшем случае в модусе «демократия-тоталитаризм». Микрофизика власти, биополитика ее языка требуют аналогичного подхода к дискурсу о живописных практиках. Чтобы противостоять теологическому ресурсу мысли об искусстве и переопределить скорости капиталистической экспроприации «акта творения как сопротивления», уместно расширительно, т. е. применительно не только к Дюшану, прочитать установку Лиотара: «…необходимо говорить механически о Дюшане, как о
