Сергей Огуцов. Кроме тел и языков
Концепты архивируются в термины, множественное разворачивается как партикулярности, дезобъективацию подменяет десубъективация — так с философии снимается поэтический шов, оставляя на самой поэзии шрам теории: «Век поэтов» сменяет эпоха языка. Здесь поэтическое произведение уже не следует принципу Пессоа «опирать слова на идею», то есть на «такую мысль, которая не есть мысль мысли» (Бадью), а организовано как рефлексия, что в случае языковой поэзии означало деконструкцию текста и непрерывное остранение референциальности как таковой вместо «дезориентации мышления». Идеи теперь будто бы умещаются в пропозиции: предложение признается «минимальной единицей социального высказывания, а значит, основой дискурса» (МакКаффри). Начинает казаться, что язык состоит из слов, или означающих, а его основным медиумом является печатный текст.
То, что такая эстетическая хирургия мышления удалась именно в США конца 1960-х, не случайно. С одной стороны, новая европейская мысль, мысль о языке par excellence — от
Между полюсами позитивистского прочтения (пост)структурализма и постиндустриального общества потребления возникает особое поле идеологии, формулу которой Ален Бадью позже назовет демократическим материализмом: «нет ничего, кроме тел и языков». И ретроспективно не удивляет, что в этой формуле постепенно совпадают дискурсы контроля и критики, власти и искусства. Брюс Эндрюс в своем эссе «Конституция / Письмо, политика, язык, тело» описывает политику как «борьбу за нормы, над телом», а политику письма как «политику тела», где «разум это часть тела», а «опыт есть всегда опыт тела». Мэрджори Перлофф самозабвенно характеризует «то, что можно назвать пост-языковыми поэтиками» как практику партикуляристских дискурсов гендера, расы и нации — в этой точке универсализм критической, левой мысли окончательно растворяется в неолиберальном «демократическом материализме» империи. Далее «языковая» поэзия уже повторяет траекторию власти, следуя к (нео)консерватизму: «Эти тексты объединяет то, что можно назвать духовным началом», задает основания объединения поэтов (пост) «языковой» среды в своих антологиях конца 1990-х Леонард Шварц. Это «духовное» поэзии отнюдь не эвфемизм нематериального — идеи или даже знака — напротив, языковая поэзия 90-х и нулевых применяет былые методы, ставшие приемом, к «догмам нашей конечности, к <…> наслаждению, страданию и смерти» (Бадью).
Critical Writing, частью которого мыслили свое поэтическое творчество основатели журнала L=A=N=G=U=A=G=E, довольно быстро адаптируется к академическим резиденциям в качестве Creative Writing: исследование пробелов знания институционализируется в
Критическую альтернативу демократическому материализму Бадью именует «материалистической диалектикой» и формулирует следующим образом: «Нет ничего, кроме тел и языков, за исключением истин». Последние оказываются вне бытия (чистой множественности, онтологию которой Бадью перепоручает математике) и при этом не в
Язык — это общее для всех четырех генеративных процедур (искусства, любви, науки, политики) поле существования, но не средство производства истин. Истины являются транслингвистическими, однако записываются в том или ином языке. Бадью посвящает свою последнюю и наиболее объемную книгу «Логики миров» тому, как истины проявляются в порядке существования (где есть «только тела и языки»), и тому, что нужно тогда понимать под объектами (в частности, телами) — разумеется, здесь мы даже бегло не можем суммировать эти вопросы. Важен следующий момент: можно помыслить язык состоящим не из знаков, а из (следов) истин, тогда наименьшей значимой лингвистической единицей будет не слово, а концепт, наименьшей смыслообразующей формой — не высказывание, а идея.
Если язык состоит не из слов, а из идей, то письмо (текст), равно как и речь, не является медиумом языка — или же является лишь одним из многих его средств. Гетерогенность поля искусства определяется не видовыми различиями (согласно различиям медиа как продолжения тех или иных органов чувств тела) или историцистской периодизацией (всегда апостериори вводящей телеологию); искусство неоднородно относительно тех истин, траекторию которых отмечают в языке его субъекты (коими являются произведения). Не существует никакой отдельной процедуры истины по имени «поэзия» — есть только искусство; более того, у поэзии нет эксклюзивного или даже особого доступа к языку как полю проявления истин. Отождествляя себя с текстом, поэзия одновременно выпадает из генеративной процедуры искусства и оказывается в зависимости от материальной судьбы текста как носителя информации.
Нынешний кризис поэзии, о котором размышляют, в частности, Кристиан Прижан («К чему поэзия?») и Александр Скидан («Поэзия в эпоху тотальной коммуникации»), является кризисом текста как медиума, или шире, линейного письма. Текст Скидана симптоматичен своим отказом признать это: говоря сегодня о кризисе поэзии, критика пользуется моделями идеалистической социологии. Социологии — потому что поэзия (в ее кризисности) рассматривается как отношение самоописания к рецепции. Идеалистической — потому что подразумевая, что поэзия не есть самоописание или рецепция, авторы не анализируют материальные основания поэзии: ее средство/медиум (линейное письмо, печатный текст) и материал (язык в широком смысле). По сути, скрытой исходной операцией такой логики является предполагание некоей «сущности» поэзии — сущности принципиально транс-историчной, транс-экзистентной, онтологической аксиомы. Скидан не называет имя этой эссенции, но если отбросить обскурантистские варианты, то следуя анализу письменности Флюссера можно предположить, что сущность эта не что иное как «концептуальное мышление», или «историческое сознание» — то есть те истины, которые возникли в событии линейного письма, но оказались приписаны «самому» языку и переведены в статус вечных. Поэзия приравнивается к письму, слипается с текстом — что позволяет скрыть трансформации поэзии и самого языка. Так натурализуется язык как якобы априори человеческое, неотъемлемо-человеческое и онтологизируется поэзия (ср. у Хайдеггера). Но имя сущности поэзии остается неназванным именно потому что кризис сегодня — это кризис этой самой «сущности»: кризис истин события линейного письма, текста, с которым поэзия отождествила себя.
Этот кризис не похож ни на один из тех, что обычно приводятся в пример (тем же Скиданом). Неслучайно все они приходятся на период до появления массовой культуры (той самой эпохи воспроизводимости), до развития информационных технологий (пост-индустриальное общество) и тем более, до аугментирования ими реальности (когнитивный, или коммуникативный капитализм). Нынешний кризис не имеет исторических прецедентов и представляется необратимым. Говоря точнее, не известно прецедентов кризиса письма как средства, зато есть ряд примеров исчезновения других медиумов, и прежде всего — переход в само письмо устной речи, а также, с не менее драматичными эффектами, переход от рукописного текста к печати — но все эти трансформации вписаны в историю самого письма.[3] То, что приходит ему на смену, располагается уже вне этой истории, более того, вне истории как таковой — ибо историческое сознание само по себе является продуктом письменности; и это отнюдь не выведенный из гипертекстуальности так называемым пост-модернизмом конец истории.
Если поэзия не признает настоящее положение вещей, она обречена даже в случае сохранения письма в том или ином виде (рудиментарном, сведенным до тэгов и мемов, или же активном, но элитаризованным в кругах грамотного меньшинства) — обречена разделить участь всех прочих текстов, становящихся сегодня пре-текстами, про-граммами для технических изображений (Флюссер). Неслучайно та же Перлофф видела в мультимедийности продолжение поисков Language School, а Бернстин выступает одним из организаторов конференций «медиапоэзии». Язык тем временем может найти себе другие способы развития, без букв, даже вне речи —cобственно, именно это и происходило после 1960-х, это, а не рыночная ценность и даже не способность передавать больше информации обусловило успех визуального искусства. Но ценой веры в поэзию как текст, поэзию как менеджмент высказываний, поэзию как язык слов станет глубокая травма нового языка — травма отсутствия в нем следов его письменного прошлого: критического (концептуального) мышления и исторического сознания. Политические последствия этого будут очевидны в первую очередь; все это в сжатом виде представлено в генезе языкового письма. Сохранение текста в виде пре-текста к техническим/коммуникативным образам станет окончательным предательством исходного события письменности — для продолжения верности которому текст, возможно, и не требуется.
«Языковая поэзия», таким образом, и служит именем кризиса понимания языка. Она одновременно констатирует слияние поэзии (языка) с текстом и скрывает то, что пытается защитить: язык (поэзии) как поле проявления истин искусства. Переоткрыть «языковую поэзию» означает сегодня совсем не переход к гезамткунстверку мультимедийности, и даже не отказ от текста как такового, но организацию самого языка поэзии на иных основаниях — связанных с новым пониманием языка в подчиненности грамматике истин, с непрерывной модификацией его структуры по моделям не-лингвистических языковых операций (прежде всего, визуального искусства). Языковая поэзия сегодня возможна лишь как утверждение в языке того, что помимо тел и языков существуют истины.
Примечания
1. В этих же условиях, под влиянием близких теоретических полей, возник концептуальный авангард визуального искусства. Два отличия от «языковой» поэзии определили его более продуктивную судьбу: во-первых, визуальное искусство всегда работает с вещью, и основным вектором напряжения смысла для американского и британского концептуализма стала двойная дистанция вещь/знак и слово/изображение, тогда как поэзии, вещей по определению лишенной, оставалось сосредоточиться на анализе самих означающих, ограничиваясь критикой референциальности; во-вторых, Джозеф Кошут при всей своей увлеченности позитивизмом и бихевиоризмом, однозначно сформулировал концепт, позволивший искусству иначе понимать сам язык: «Искусство как идея как идея».
2. Как пример обратной стратегии стоит вспомнить стремление сюрреалистов изъять некоторые произведения и идеи из уже существующих языков, в частности, академической истории; изъять — а не вписать — из истории саму линию, ведущую к мысли сюрреализма. Производство знания, или «производство смысла», о котором считается прогрессивно рассуждать сегодня в литературной среде, — это то самое «making sense», придание смысла, ради которого искусство и призывается (коммуникативным) рынком: для последнего оно уже не столько производство товаров, сколько создание моделей социализации в отчужденном (т. е. бессмысленном) мире.
3. В данных условиях некоторые исследователи (наиболее известным, пожалуй, остается Маклюэн) оптимистично надеялись на то, что новый этап будет своего рода возвращением к устной речи. Соответственно, и поэзия выживет в устной традиции. Но
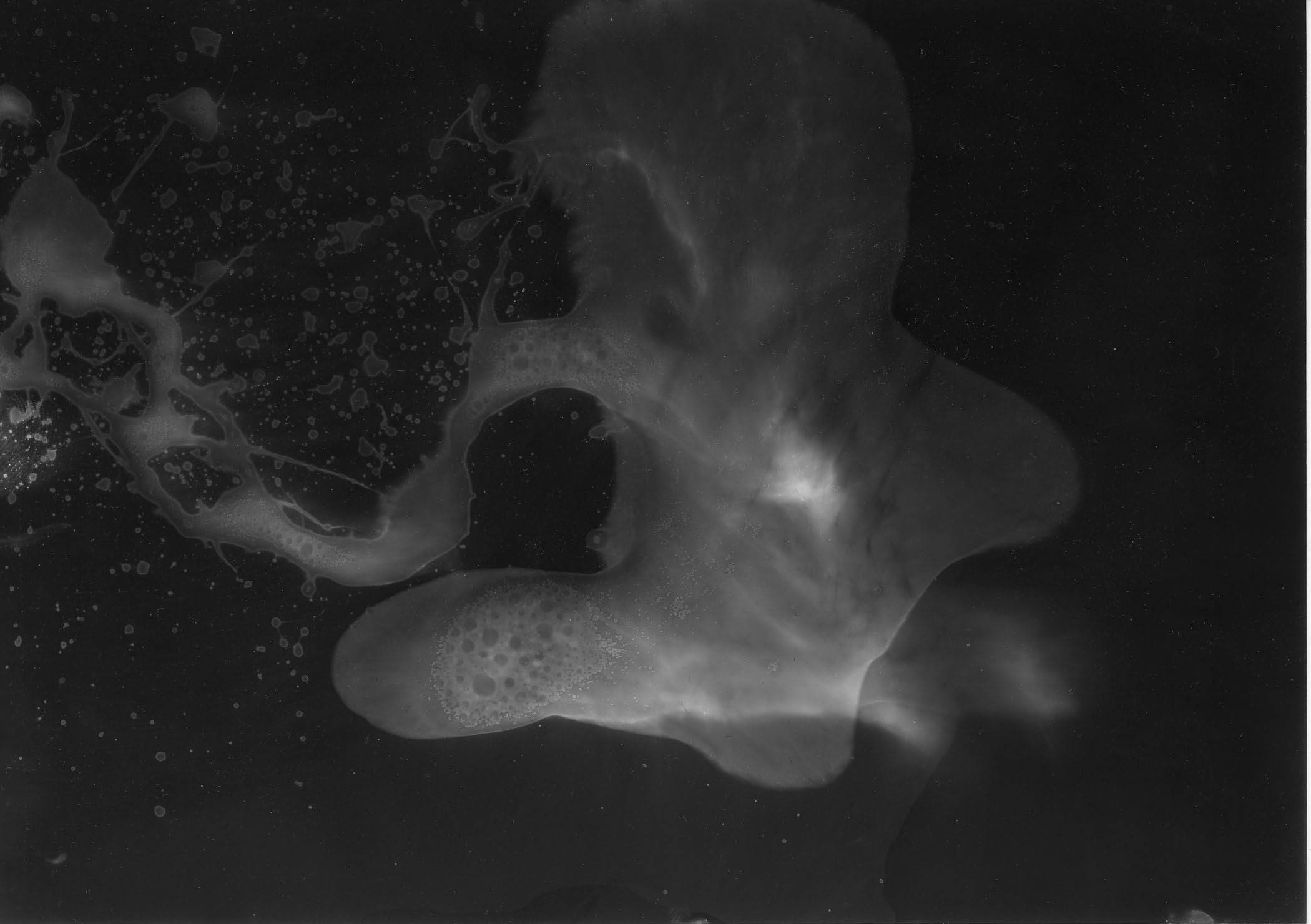
ФРАГМЕНТЫ ЛОГИКИ ВИДИМОГО
Undazl’d, farr and wide his eye commands —
все, кто прочли это первыми, уже мертвы:
их веки срезаны, их видения переведены
в раздражение фотофор,
а затем в сновидный набор команд,
или чувств, то есть знаков, лишённых средств:
многие наблюдают за путешественниками,
те же притворяются единицами —
части среднего действия
«Ты лишь одно из случайных мест, которое может занять любой»
Повторяя это, мне остаётся лишь то, с чего начался этот адский зной
когда-то давно, когда ещё было видимо небо:
две фотографии, медные гвозди, имя, прозрачные листы А3
(там I w ill k il l af e wm in u t es o fy our l i fe)
Можно придать им определённый порядок слов,
из которых машина в конце восстановит несколько дней,
где летающая шляпа, джут, пропитанный стекловолокном,
рассказы шёпотом о последних снах, здания книги и запах масла —
все обращалось в историю, между нами
мы радовались всему, что в ней потеряли
Теперь утро, оно одно, бесконечное, и нужно как-то принять это
*
Заменяя по настоящему правилу буквы слова,
получишь то, что не требует дешифровки
Это может быть трещина или бизон, мертвый божок
или октаэдр, но не «потом», не «два», даже не «ты»
Результирующее является достаточным приближением
холодной стены, варварства перспективы книги,
гения мастера аллегории, но внимание — тоже формула,
и в определённое время иллюзия исчислима
Заметим, поиск источника речи даётся куда быстрее,
чем развитие мозжечка или даже трахеи,
за сценой встречи история не сжимается в алеф,
слышащий — неизбежное чудо, загадка скорее лев,
или его далёкие предки, голубоглазые саблезубые кошки,
за которыми тащатся падальщики-гоминиды
(Помнишь цвет того неба? Помнишь, как долго тянулись дни?)
Во времена, когда светятся даже книги,
опасно ставить задачи по законам самого текста
*
Орфей, дважды
Правило устной грамматики: рассказ
не складывается из рассказов
Или «распыление и сосредоточение»
не переводится «в этом всё»
Значит, Чэ никогда не была чашей, а Тэ — трубой;
объем одного […] не пополняет пустоту,
с тобой случается лишь то, что сказано:
[…]
те двое живут в глазу,
но грёзы поработили числа:
один из них никогда не свернёт назад
другой не обернётся, остановившись
*
Весы Сангля
Им нельзя жить у моря: в её сердце тоже
плещется ртуть, она балансирует
каждый её изгиб, и каждая капля в ней
слышит и следует математике волн:
она становится похожей на тело
Alatina Alata, прозрачная и плывущая:
Адали собирает цветы и падает,
ложится спать и падает
Дверь, ведущая в сад, говорит,
и дверь, открывающаяся вовнутрь —
это одно? Здесь, внизу, с другой стороны
облака in Arcadia Ego, чем становится жизнь глупцов?
У меня не хватает глаз удержать её
«Дерево называет тебя Иксионом,
июнксом, Санглем — ты обернулся,
и следы за тобой исчезли»
Да, в зеркале застряла перчатка,
мы не можем покинуть стены этого дома
до утра, если один из них не обернется
летающим шаром, или стеклянной
цепью, если наложится каждый замеченный
контур фигуры — пустой, то есть горящей,
как принято говорить в племенах, которые ты
различаешь в коре дерева,
подпирающего эту упавшую с неба цементную полусферу
*
Спиральный мол
Есть запись в непосредственной близости
от огня. Его не интересует огонь, только
кембрий, базальт, Mundus Subterraneus:
спиральная пристань как веко для первых глаз:
переливается под ногами, силится размотать
абстракцию движения вперёд, не умещается
в найденной фотографии. «Берег озера
загорается краем солнца…» — он отличает не-место,
но не останавливается:
«Состав твоей крови аналогичен
первобытным морям». Что ты видишь,
бродя там по голой земле, копирующей ландшафт?
Чем те образы ближе здешних? И почему
ты не можешь вспомнить историю каждой вещи,
которых мы не замечали четыре года, говоря
об отсутствии среднего рода в исчезнувших языках?
«Север — Грязь, соляные кристаллы, скалы, вода»
(повторяется 20 раз, для каждого возможного направления)
*
Жасминовый человек
Ты рассказываешь только о том, чего нет,
стянутое проволокой тело: Orakel
и Spektakel, плен языка, бесчисленные глаза —
тени кукол, безумие для которых как
шибболет. Семантика, синтаксис,
интонация и тезаурус — что ответ?
Ты извиваешься, как метафора, лишаясь условности,
присущей пейзажу; ты фотография:
всякое до и после — домысливается
уже в бездействии бликов, как складки
постели, занятой манекеном безногим
Тебе не посвятить даже найденных строк:
лезвие вырезает глаза, огонь удаляет веки,
игла заменяет взгляд. От стёртых слов
остаются какие-то люди
когда-то бумага не терпела и этого
*
Против меланхолии подходит всё:
метафора гула дамбы, метонимии осенних листьев,
мумии трёхметровых мёбиусов, μέσαι δέ νύκτες:
к условностям необходимо привыкнуть,
сопоставляя цвет и перечисления в естественном языке
на срезе плоскости ониче арко ириде
с воспоминаниями о книге: инициалы,
дробная стрелка, дата. «Не записать ничего, когда думаешь,
о чем думаешь ты». Примерно так же идеи
твердеют в акриле поверх стекла,
скол повторяет контур облака, случай
за ним или чья-то рука. В их наслоении
обнаружится бесчеловечный порядок, рассказ,
вдавленный в неотменимость вещи: азул сиело,
бримстоун, покалывающая склеры роза
имп. кларо стирают отражения призраков с тизера
Черно-белая копия «Регула»: зрители мимикрируют
под край того, что сгорело из репродукции:
«стать этой мыслью». Большее как бельмо
*
