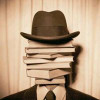Ежи Гротовский. Игра в Шиве (Послесловие к практике)
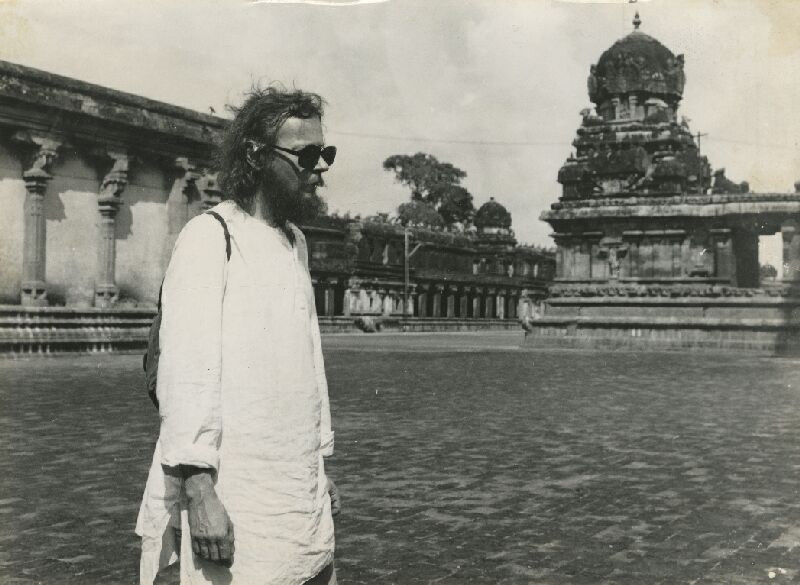
1
Нижеследующие заметки были сделаны на полях работы над «Шакунталой». Они не связаны непосредственно с этой сценической работой. Скорее, я хотел бы, пользуясь случаем, задаться здесь вопросом о
Долг, о котором идет речь, состоит в систематической инспирации определенным мотивом из индийской мифологии (миф о танце Шивы), который — очищенный от налета наивной религиозности — откликается во мне волнующими ассоциациями, «вынуждает» искать в его метафоре формулу «современного театра».
2
Мифологическим покровителем древнеиндийского театра был Шива, «Космический Танцор», который, танцуя, «порождает все, что существует, и разрушает все существующее»; который «танцует ЦЕЛОЕ».
Махабхарата:
«Смеется, поет и в изящном качается танце […]
И если он плачет, то плачут и люди; […]
Легко, легко его стопы танцуют —
Как в опьянении или безумии […]»
Шива в мифологических рассказах выступает как «творец противоречий». На древних скульптурах он изображен со слегка прикрытыми глазами, с полуулыбкой; его лицо несет на себе печать знания об относительности вещей.
3
Если бы мне нужно было определить наши сценические исследования одной фразой, одним термином, я бы обратился к мифу о Танце Шивы; я сказал бы: «мы веселимся в Шиве», «играем в Шиве».
В этом есть попытка охватить реальность как бы со всех сторон, во всем многообразии ее аспектов, в то же время оставаясь как бы снаружи, в отдалении, на предельной дистанции. Или, говоря иными словами — танец формы, пульсация формы, поток, расходящийся на множество театральных концепций, стилей, традиций игры; выстраивание противоречий: интеллектуальной игры в стихийности, серьезности в гротеске, юмора в боли; танец формы, который разбивает все театральные иллюзии, все жизненные правдоподобия, а вместе с тем и живые амбиции (очевидно, ненасытные), для того чтобы замкнуть их в себе, вобрать, объять ЦЕЛОЕ, целое человеческой судьбы, и через это — ЦЕЛОЕ «реальности вообще»; и все это со слегка прикрытыми глазами, с полуулыбкой, дистаницей, знанием относительности вещей. Вот что такое танец Шивы. Вот что значит веселиться в Шиве, играть в Шиве.
4
Древнеиндийский театр, как и древнекитайский, древнеяпонский, греческий, был ритуалом, соединяющим в себе танец, пантомиму и речитацию.
Спектакль был не «представлением» реальности (созданием иллюзии), но «танцем» реальности: это искусственная конструкция, наподобие «ритмического видения», отсылающего к реальности. Мифический танец в литургии пашупатов (одна из шиваитских сект) являлся одним из шести важнейших ритуальных актов.
Если мы возьмем термин «ритуальный акт» в кавычках и если не станем отделять его от контекста современной чувственности с присущими ей юмором и самоиронией, то окажется, что мы имеем дело с проблематикой театрального ремесла, актуальность которого сегодня больше чем когда-либо.
Попытка объять, вместить в себе ЦЕЛОЕ (вопрос о человеческой судьбе, о человеческом состоянии). Многоаспектность. Дистанция. На это не способен не только театр иллюзии жизни, но даже и умеренная условность, «стилизация». Спектакль должен стать совместным «жестом синтеза», «танцем» реальности, «ритуальной» игрой. Очевидно, что здесь ритуальность, породившая определенный тип религиозной психотехники, должна кристаллизоваться в светской психотехнике, в псевдоритуале, в ИГРЕ.
«Ритульная игра» — такая же, как и «маскарадная игра», «игра в мяч» или «игра в интеллигенцию». Своего рода физический тренинг. Мы не показываем зрителям действие, но приглашаем мыслящего зрителя вступить в игру в абсолютную условность, вплоть до «совместного шаманства», в котором жизнь, непосредственное присутствие зрителя становится частью сценической игры.
«Ритуальная» игра, как она видится нам в идеале, игра (я снова воспользуюсь мифологической метафорикой) в Шиве, в танце Шивы, является собственно терапевтической процедурой, психотерапией. Мы просто исследуем определенные методы воздействия на психику, которые те эсхатологические комплексы (связанные с ощущением хрупкости жизни), что обычно компенсировала религия, извлекали бы на поверхность сознания и (хотя бы потенциально) рассеивали их в артистической игре, а стало быть, на основе, назовем это так, светской культуры.
Может показаться, что наши «лекарства» тавтологичны: необходимость смерти объясняется через необходимость смерти, поток реальности через поток реальности, удел человека через удел человека. Но эта тавтология кажущаяся, потому что между вопросом и утверждением произошла смена точки зрения и перспективы. Мы теперь пытаемся смотреть как бы «снаружи» и как бы «со всех сторон». И в то же время пытаемся понять свои собственные, повседневные отношения.
5
«Играя в Шиве», в многоаспектности и дистанции в видении реальности, мы воспринимаем себя в аспекте общих процессов, прежде всего процессов между людьми, в «диалектике реальности». Вопрошание о судьбе человека, если оно поднято мыслящим человеком, должно ассоциироваться с общественным стилем мышления, жизни, чувственности и т.д. То же самое относится и к «ритуальной» игре, ее правилам, ее условиям.
Отсюда следует, что выдвижение общественного театра, о котором идет речь, есть необходимость не только идейная, но и ремесленная, техническая.
6
Цитата из мифологии:
«Шива сказал:
[…] У меня нет имени, нет формы и действия […]
Я есмь пульсация, движение и ритм […]»
(Шива-гита)
Сущность театра, который мы ищем, есть «пульсация, движение и ритм». «Пульсация, движение и ритм» представления строятся целенаправленно, но эта целенаправленность отсылает не к «имени» драмы (ее традиции, ее стилю), не к «форме (гладкости, «эстетической форме» спектакля), не к «действию» (фабуле), но только к мыслящему зрителю, его внутреннему темпу, его психике. Целью сценической «пульсации, движения и ритма» является не иллюстрация чего бы то ни было, а провоцирование в думающем зрителе внутреннего процесса, целенаправленного с точки зрения той «психотерапии», о которой шла речь. Слово «психотерапия» я ставлю в кавычках — с долей самоиронии. Ибо нам еще далеко до такого театра.
Впервые фрагменты этого текста, датируемого 1960-м годом, были опубликованы Збигневом Осиньским в книге «Гротовский и его лаборатория» (Варшава, 1980).
Перевод с польского языка выполнен по изданию Grotowski. Teksty zebrane. Варшава, 2012.
Перевел П. Куликов