Жак Деррида. Восхищени(я) Нельсона Манделы, или законы отражения
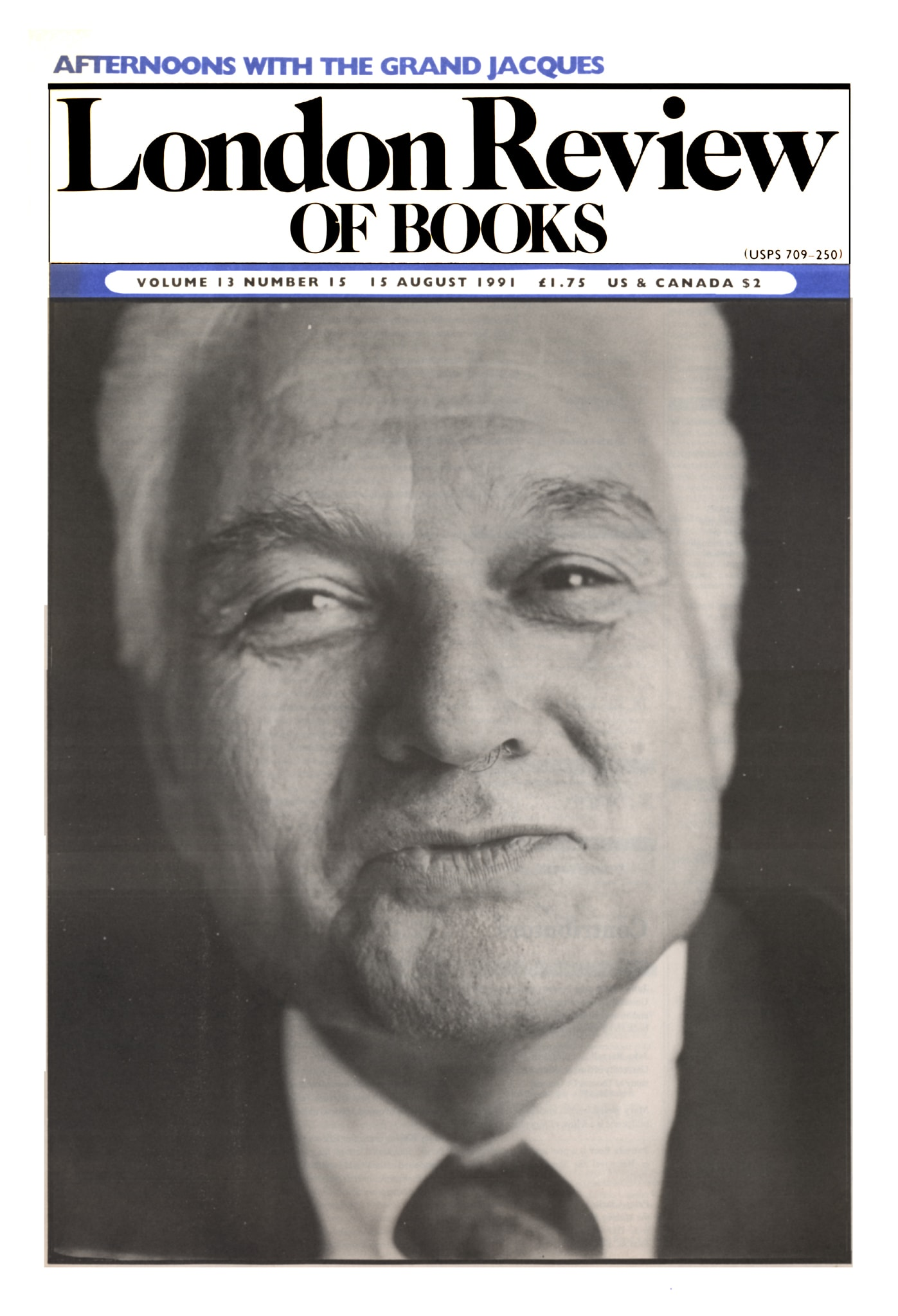
1.
Достойный восхищения Мандела. [1]
Точка, без восклицания. Я расставляю знаки препинания таким образом не для того, чтобы умерить энтузиазм или сбить спесь. Вместо того, чтобы говорить исключительно в честь Нельсона Манделы, я скажу что-то о его чести, не поддаваясь, по возможности, превозношению, без возглашений и восхвалений.
Оммаж будет более справедливым, возможно, как и его тон, если он уступит хладности анализа, тому нетерпению вопроса, без которого нет восхищения. Восхищение обосновывает, кто бы что ни говорил, оно объясняет себя с помощью разума, оно изумляет и вопрошает: Как некто может быть Манделой? Почему он является образцом — и достойным восхищения — в том, что он думает и говорит, в том, что он делает или в том, как он страдает? Восхищающий сам по себе, не много не мало за то, что он несет в своих свидетельствах, выступающих синонимом другого слова — мученичество, а именно — опыт своего народа?
“Мой народ и я”, — всегда говорит он, не разговаривая как король.
Почему он также заставляет восхищаться? Это слово предполагает некоторое сопротивление, ибо его враги восхищаются им, не признаваясь в этом. В отличие от тех, кто любит его — в среде его народа, вместе с единственным человеком, неразлучной Винни, от которой они всегда, тщетно, держали его отдельно, — они боятся его. Если самые ненавистливые из его гонителей втайне восхищаются им, то это хорошо доказывает, что он заставляет, как говорят, восхищаться.
Теперь вот в чем вопрос: Откуда берется эта сила? Куда она направлена? Ее применяют или она применяется, но к чему? Или, скорее: Что она складывает? Какую форму распознать в этой складке? Какую линию?
Различим в ней прежде всего, без всяких иных предпосылок, линию рефлексии. [2] Это, прежде всего, сила рефлексии. Начнем с того, что, очевидно, политический опыт или страсть Манделы никогда не отделяются от теоретической рефлексии: об истории, о культуре, о праве, прежде всего. Непрерывный анализ проливает свет на рациональность его действий, его деклараций, его речей, его стратегии. Даже до того, как тюрьма вынудила его отойти от дел — а на протяжении четверти века своего заключения он не переставал действовать и направлять борьбу — Мандела всегда был человеком мысли. Как и все великие политики.
Но под “силой рефлексии” можно понимать и нечто другое, то, что сигнализирует о литеральности зеркала и сцены размышления. Не столько относимой к физическим законам отражения, сколько к некоторым зеркальным парадоксам в опыте закона. Без зеркала нет закона. И в этой предельно вывернутой и изумляющей структуре [cette structure precisement renversante] мы никогда не избежим момента восхищения.
Восхищение, как следует из самого слова, скажет некто, etc. Нет, внезависимости от слова или от того, что оно всегда позволяет увидеть, восхищение не принадлежит одному лишь взгляду. Оно передает эмоцию, изумление, удивление, сомнение, прежде того, что не поддается осмыслению: прежде “необычайного”, говорит Декарт, и он считает это страстью, первой из шести примитивных страстей, прежде любви, ненависти, желания, радости и печали. Оно дает возможность знать. Кроме него есть только невежество, добавляет он, и оно черпает “немалую долю силы” из “удивления” или же из “внезапного впечатления”. Восхищенный взгляд удивляет сам себя, вопрошает собственную прозорливость, он открывает себя свету вопроса, но вопроса полученного в не меньшей степени, чем поставленного. Этот опыт позволяет лучу вопроса пересечь себя, но не по этой причине не способен его отразить. Луч исходит от той самой вещи, что заставляет восхищаться; он делит и разделяет восхищение [il la partage], затем, в зеркальном движении, которое кажется странным образом завораживающим.
Мандела становится достойным восхищения за то, что сам знал как восхищаться. И то, что он знал, он знал в восхищении. Он также очаровывает, как мы увидим, тем, что сам был очарован.
Так он говорит — в определенной манере, которую нам предстоит расслышать. Он говорит о том, что он делает, и что с ним произошло. Этот свет, отраженное пересечение, опыт, как пришествие и ушествие вопроса, был бы, таким образом, еще и воскликом голоса.
Голос Нельсона Манделы — о чем он напоминает нам, чего взыскует, к чему побуждает нас? Какое отношение он может иметь ко взгляду, отражению, восхищению? Я имею в виду энергию этого голоса, а также тех, кто скандирует от его имени (послушайте крик его народа на демонстрациях в его честь: “Ман-де-ла!”).
Восхищение Нельсона Манделы, а
Ибо чем он восхищался в конечном итоге?
Одним словом: Законом.
И тем, что вписало его в дискурс, в историю, в институцию, а именно — Правом.
Первая цитата — адвокат говорит во время судебного процесса, своего процесса, в котором он также предъявляет обвинения, в котором он судит своих обвинителей, во имя и от имени права:
Основной задачей в настоящее время является устранение расовой дискриминации и достижение демократических прав на основе Хартии свободы.
Из прочтения марксистской литературы и бесед с марксистами у меня сложилось впечатление, что коммунисты рассматривают парламентскую систему Запада как недемократическую и реакционную. Я же, напротив, являюсь почитателем (меня восхищает) сей системы.
Великая Хартия Вольностей, Петиция о праве и Билль о правах — это документы, которые почитаются демократами во всем мире.
[…] независимость и беспристрастность его [британского] суда не перестают вызывать мое восхищение.
Американский Конгресс и доктрина разделения властей в этой стране, а также независимость ее судебной системы вызывают у меня аналогичные чувства.
Он восхищается законом, давая ясно это понять; но закон, который главенствует над Конституциями и Декларациями — является ли он, по сути, сугубо Западным? Сохраняет ли его формальная универсальность нерасторжимую связь с европейской, более того, англо-американской историей? Если бы это было так, все еще необходимо было бы рассмотреть, конечно, эту странную возможность: формальный характер закона был бы столь же существенным для его универсальности, как и событие его появления в определенное время и в определенном месте истории. Как же тогда мыслить такую историю? Везде, где она имеет место, и, по крайней мере, так, как ее осуществляет и осмысляет сам Мандела, борьба против апартеида будет оставаться своего рода зеркальной оппозицией, междуусобной войной, которую Запад поддерживает внутри себя, от своего собственного имени? Внутреннее противоречие, которое не страдает ни от радикальной изменчивости, ни от сущностной диссимметрии?
В таком виде эта гипотеза включает в себя слишком много неопределенных пресуппозиций. Мы попытаемся определить их далее. Пока же сохраним более ограниченную, но в то же время более определенную точку воззрения: то, чем Мандела восхищается и чему декларирует свое восхищение есть традиция, заложенная в Великой Хартии Вольностей, Декларации прав человека в ее различных формах (он часто апеллирует к “человеческому достоинству”, к человеку, “достойному сего именования”); это также парламентская демократия и, еще точнее, доктрина разделения властей, независимость судебной власти.
Но если он восхищается этой традицией, является ли он по этой причине ее наследником, ее простым преемником? Да и нет, в зависимости от того, что понимать под наследием или наследованием. Подлинным наследником можно признать того, кто сохраняет и воспроизводит наследие, но также и того, кто уважает его логику, вплоть до того, что иногда обращает ее против тех, кто претендует на роль его депозитариев, вплоть до того, что дает увидеть, выступая против узурпаторов, ту самую вещь, которая в наследии никогда прежде не была видна — вплоть до рождения [jusqu“a donner le jour], путем неслыханного акта рефлексии того, что никогда не видело белого света [n”avait jamais vu le jour].
2.
Эта несгибаемая логика мысли была также и практикой Манделы. Вот, по крайней мере, два свидетельства этого:
1. Первое свидетельство. Африканский национальный конгресс, одним из лидеров которого он был, вступив в него в 1944 году, стал преемником Южноафриканского национального конгресса коренного населения. Структура последнего уже отражала структуру Конгресса США и Палаты лордов. В частности, у него была верхняя палата. Таким образом, парадигма уже выступала той парламентской демократией, которой восхищался Мандела. В Хартии свободы, которую конгресс обнародовал в 1955 году, схожим образом были провозглашены демократические принципы, вдохновленные Всеобщей декларацией прав человека. И все же Мандела с образцовой строгостью отказывается от чистого и прямого союза с белыми либералами, которые выступали за ограничение борьбы конституционными рамками, по крайней мере, такими, какими они были установлены на тот момент. Мандела напоминает, по существу, истину: установление текущего конституционного законодательства, практически как и всегда, приняло форму единичного coup de force, того coup de force, который одновременно производит и обеспечивает единство нации.
В данном случае coup de force остался coup de force, а значит, потерпел неудачу [un mauvais coup], провал закона, который не преуспел в учреждении себя. На самом деле, его авторами и бенефициарами были лишь отдельные волеизъявители, одна часть населения, ограниченная доля частных интересов, то есть интересы белого меньшинства. Последние становятся привилегированным субъектом, единственным субъектом, по сути, этой антиконституционной конституции. Несомненно, скажет кто-то, такой coup de force всегда оставляет свой след в становлении нации, государства или национального государства. Должный перформативный акт такой институции обязан, в сущности, производить (провозглашать) то, что он утверждает, декларирует, стремится описать в соответствии с констативным актом. Симулякр или фикция заключается, таким образом, в том, чтобы вывести на белый свет, осветить [a mettre au jour, en lui donnant le jour], то, что некто пытается помыслить, чтобы принять во внимание, как если бы речь шла о регистрировании того, что уже было, единства нации, основания государства, события, которое, тем временем, находится в процессе порождения. Но легитимность — вестимо, и законность — устанавливается прочно, прикрывая первоначальное насилие, и позволяя забыть о себе только при определенных условиях. Не все перформативы, сказал бы теоретик речевых актов, “радостны”. Это зависит от большого количества условий и конвенций, формирующих контекст такого рода событий. В случае с Южной Африкой некоторые “конвенции” не были соблюдены, насилие было слишком велико, заметно слишком сильно в тот момент, когда эта видимость отобразилась на новой международной сцене, etc.
Сообщество белых было в слишком сильном меньшинстве, непропорциональность богатств была слишком вопиющей. Отныне это насилие остается одновременно чрезмерным и бессильным, в конечном счете недостаточным, затерянным в собственном противоречии. Оно не может заставить о себе забыть, как в тех государствах, которые основаны на геноциде или на почти полном истреблении. Здесь насилие по происхождению должно повторяться бесконечно и имитировать свою законность посредством законодательного аппарата, чудовищность которого не удается замаскировать: патологическое разрастание юридических протезов (законов, актов, поправок), призванных узаконить до мельчайших деталей самые будничные следствия фундаментального расизма, государственного расизма, единственного и последнего в мире.
Следовательно, конституция такого государства не может с должной степенью убедительности ссылаться на народную волю. Как говорится в Хартии свободы: “Южная Африка принадлежит всем, кто в ней живет, черным и белым, и […] ни одно правительство не может справедливо претендовать на власть, если оно не опирается на волю всего народа”. Обращаясь к общей воле, которая, к слову, не сводится к сумме волений “всего народа”, Мандела часто напоминает нам о Руссо, даже если никогда его не цитирует напрямую. И таким образом он оспаривает власть, законность, конституционность самой Конституции. Тем самым, он отказывает в предложении — и в союзе — белым либералам, которые будут бороться против апартеида, заявляя при этом, что уважают правовые рамки:
Кредо либералов гласит, что для достижения своих целей партия будет использовать “только демократические и конституционные средства и будет выступать против всех форм тоталитаризма, таких как коммунизм и фашизм”. Разговоры о демократических и конституционных средствах могут иметь под собой реальную основу только для тех людей, которые обладают демократическими и конституционными правами и пользуются ими.
Что Мандела противопоставляет coup de force белого меньшинства, установившего якобы демократический закон в угоду одному этнонациональному образованию? “Весь народ”, то есть другое этнонациональное образование, другое народное множество, сформированное всеми группами, включая белое меньшинство, населяющее территорию под названием Южная Африка. Это другое образование смогло бы, или сможет в будущем, институализировать себя в качестве субъекта Государства или Конституции “Южной Африки” только посредством перформативного акта. Последний, очевидно, не будет ссылаться на
Таков, по крайней мере, ее регулятивный идеал. Который, как представляется, здесь не более достижим, чем где-либо. Определение “весь народ” регистрирует — и, как кажется, отражает — событие сего coup de force, которым была белая оккупация, а затем основание Южно-Африканской Республики. Без этого события как установить хотя бы малейшую связь между общей волей и тем, что “Хартия свободы” называет “волей всего народа”? Последняя парадоксальным образом оказывается образованной насилием, совершаемым над ней, насилием, стремящимся расчленить или разрушить ее навсегда, вплоть до ее самой непосредственной сущности. Данный феномен лежит в основе почти всех государств после процесса деколонизации. Мандела знает это: каким бы демократическим оно ни было, и даже если оно внешне соответствует принципу равенства всех перед законом, абсолютный институт государства не может допускать ранее легитимированного существования национального образования. То же самое относится и к первой Конституции. Всеобщее единство народа впервые идентифицирует себя только посредством договора — формального или неформального, письменного или нет — который устанавливает некий фундаментальный закон. Тем не менее, этот договор никогда не подписывается никем, кроме как предполагаемыми представителями того, что должно являться “всем” народом. Сей фундаментальный закон не может просто предшествовать, ни по праву, ни фактически, тому, что одновременно учреждает и подразумевает его, проектирует и отражает его! Он не может предшествовать тому чрезвычайному перформативу, посредством которого подпись уполномочивает себя подписывать — одним словом, легализует себя — по собственной инициативе, без санкции ранее установленного закона.
Это аутографическое насилие и фикцию можно обнаружить в действии как в том, что называют индивидуальной автобиографией, так и в “историческом” происхождении государств. В случае Южной Африки фикция следует из этого — получается фикция против фикции: Единство “всего народа” не могло соответствовать декупажу, которым оперировало белое меньшинство. Теперь оно должно представлять множество (белое меньшинство + все жители “Южной Африки”), конфигурация которого смогла образоваться — во всяком случае, удостоверить себя — только на основе насилия меньшинства. То, что она может впредь противопоставлять себя последнему, нисколь не меняет само неумолимое противоречие. “Весь народ”, единство “всех национальных групп” обретет свое существование и силу закона только в акте, к которому как раз и апеллирует Хартия свободы. Последняя обращается к настоящему, настоящему, которое, как можно предположить, основано на описании прошлого, которое должно быть признано в будущем. Она обращается к будущему, будущему, обладающему ценностью предписания:
[…] что Южная Африка принадлежит всем, кто в ней проживает, белым и черным, и что ни одно правительство не может справедливо претендовать на власть, если оно не основано на воле всего народа.
— Народ должен властвовать!
— Все национальные группы должны иметь равные права!
— Все равны перед законом!
Хартия не упраздняет учредительный акт закона, который неизбежно в-себе выступает как
2. Второе свидетельство. “Восхищение”, выказываемое в отношении парламентской демократии англо-американского типа и доктрине разделения властей, верность Хартии всем принципам такой демократии, логика радикализации, которая противопоставляет эти же принципы западным сторонникам апартеида — все это может напоминать coup de force, совершаемый простым зеркальным разворотом: борьба “черного” сообщества (не-“белого”) будет вестись во имя модели и закона, которые были заимствованы — и преданы в первую очередь их первоначальными заемщиками. Чудовищная асимметрия. Но она сама, похоже, редуцируется, или, скорее, отражается, вплоть до того, что ускользает от всякого объективного представления: ни симметрия, ни асимметрия. И это потому, что для истории закона не существовало бы никакого заимствования, никакого просто объясняемого истока; только отражающее устройство, с проекциями образов, инверсиями траектории, mises-en-abyme, эффектами истории, для закона, структура и “история” которого заключаются в отходе, удалении от истока. Такого рода устройство — под этим словом я подразумеваю только то, что этот X не является естественным, а это не обязательно подразумевает определение его в качестве артефакта, созданного руками человека — не может быть представлено в пространстве объективного. По крайней мере, сообразно двум причинам, которые я здесь буду относить к рассматриваемому нами случаю.
A. Первая причина вытекает, следовательно, из структуры закона, рассматриваемого принципа или модели. Независимо от исторического места его формирования или формулирования, его явления или представления, такая структура стремится к универсальности. Это, если можно так выразиться, ее интенциональное содержание: ее значение требует, чтобы она немедленно переступала исторические, национальные, географические, языковые и культурные пределы своего чувственного первоначала. Все должно начинаться с извлечения, перемещения, вырывания. Пределы тогда будут выглядеть как исторические случайности. Они могут даже скрывать то, чему они, как кажется, позволяют появиться. Можно помыслить, что “белое меньшинство” Южной Африки скрывает и затемняет сущность принципов, на которые ссылается — приватизирует, детализирует, присваивает их и таким образом экспроприирует и распоряжается ими [les arraisonne] вопреки причине их существования, вопреки самому разуму. И, напротив, в борьбе с апартеидом, “отражение”, о котором мы здесь говорим, позволяет увидеть то, что более не было заметно в политической феноменальности доминации белых. Оно бы обязывало разглядеть то, что уже не было или еще не было видно. Оно пытается раскрыть глаза белых; оно не воспроизводит видимое — оно его производит. Сие отражение делает видимым закон, который, на самом деле, оно не просто отражает, поскольку закон в своей явленности был невидим — стал или продолжал быть невидимым. И, перенося невидимое в область видимого, это отражение не исходит из видимого, но обходит способы понимания стороной. Точнее, оно дает понять то, что превосходит понимание и согласуется только с разумом. Это была первая причина, сам разум.
B. Вторая причина представляется более противоречивой. Она касается именно этого чувственного явления, исторического конституирования демократического закона, принципов и модели. Здесь снова опыт явного восхищения, на этот раз восхищения, которое само претендует на то, чтобы быть завороженным, восхищенным, следует за складкой отражения. Отражение закона: Мандела ощущает, воспринимает, он видит — некоторые сказали бы, он проецирует и отражает, сам того не видя, — само присутствие этого закона в недрах африканского общества. Еще до “прихода белого человека”. Из того, что он сам говорит на эту тему, я выделю три мотива:
a) мотив восхищения: пристальное внимание взгляда, застывшего на перепутье, словно пораженного чем-то, что, не будучи просто видимым объектом, смотрит на тебя, уже касается тебя, постигает тебя и призывает тебя продолжать наблюдать, реагировать, делать себя ответственным за взгляд, который рассматривает тебя и который зовет тебя за пределы видимого: не восприятие и не галлюцинация;
б) мотив семени: оно вручает схему, необходимую для интерпретации. Это как потенциальная возможность того, что демократическая модель присутствовала бы в исконном, родовом обществе, даже если бы она была явлена, разработана как таковая, в отражении, только apres-coup, после насильственного вторжения “белого человека”, носителя той же модели;
в) мотив родины, Южной Африки, колыбели всех народностей и групп, призванных жить по закону новой Южно-Африканской Республики. Эту родину не следует отождествлять ни с государством, ни с нацией:
Много лет назад, когда я был мальчиком, выросшим в деревне в Транскее, я слушал, как старейшины племени рассказывали истории о старых добрых временах, до прихода белого человека. Тогда наш народ жил мирно, под демократическим управлением своих королей и их amapakati [ — “внутреннего круга” тех, кто занимал высокое положение рядом с королем], свободно и уверенно передвигался по стране без помех и препятствий. Тогда страна была нашей.
Я надеялся в то время и поклялся, что среди сокровищ, которые жизнь сможет мне предложить, появится возможность служить моему народу и внести свой скромный вклад в борьбу за его свободу.
Структура и организация ранних африканских обществ в этой стране восхищала меня и оказала большое влияние на эволюцию моих политических взглядов. Земля, тогдашние средства производства, принадлежали всему племени, и не было никакой индивидуальной собственности. Не было классов, богатых и бедных, не было эксплуатации человека человеком. Все люди были свободны и равны, и это было основой государственного правления. Признание сего общего принципа нашло свое выражение в Конституции совета, называемого по-разному — Imbizo, Pitso или Kgotla, который управляет делами племени.
В таком обществе было много примитивного и небезопасного, и оно, конечно, не смогло бы соответствовать требованиям современной эпохи. Но такого рода общество содержит семена революционной демократии, при которой никто не будет находиться в рабстве или подневольном состоянии, и в которой не будет больше нищеты, нужды и незащищенности.
Африканский национальный конгресс далее считал, что все люди, независимо от национальных групп, к которым они могут принадлежать, и независимо от цвета их кожи, все люди, родиной и домом которых является Южная Африка и которые верят в принципы демократии и равенства людей, должны рассматриваться как африканцы; что все южноафриканцы имеют право жить свободной жизнью на основе полного равенства прав и возможностей в каждой области и сфере.
То, что, кажется, восхищение позволяет увидеть, то, что мобилизует и сковывает внимание Манделы, — это не просто парламентская демократия, принцип которой, в качестве образца, хоть и не образцовым образом, был бы представлен на Западе. Это переход, уже практически осуществленный, если можно так выразиться, от парламентской демократии к революционной демократии: обществу без классов и частной собственности. Таким образом, мы только что констатировали следующий сопутствующий парадокс: настоящее завершение, воплощение демократической формы, реальное формальное установление будет иметь место в этом не-западном обществе лишь в форме потенциального, или, говоря иначе, “семян”. Мандела позволяет себе быть восхищенным тем, что он видит, отражающим себя заранее, тем, чего еще нет, чтобы стать увиденным, тем, что он пред-видит: правильная революционная демократия, о которой англо-американский Запад сам предоставил, в
В наши дни меня привлекает идея бесклассового общества, которая частично исходит из марксистских чтений, а частично — из моего восхищения структурой и организацией ранних африканских обществ в этой стране. Земля, в то время главное средство производства, принадлежала племени. Не было ни богатых, ни бедных, не было эксплуатации.
3.
Мандела, таким образом, остается, во всех смыслах этого слова, человеком закона. Он всегда обращался к закону [au droit], даже если с виду ему приходилось противопоставлять себя той или иной непреложности закона, или же если некоторые судьи в определенный момент делали из него преступника.
Человек закона, прежде всего, по призванию. С одной стороны, он всегда апеллирует к закону. С другой, он всегда чувствовал себя влекомым, призванным законом, законом, пред которым его хотели заставить предстать. Он, помимо прочего, принимал это приглашение, даже если его к этому и принуждали. Он пользуется случаем — не будем говорить возможностью. Почему возможность? Просто перечитайте его “слово в защиту”, которое на самом деле предстает обвинением. В нем можно обнаружить неразрывную политическую автобиографию его и его народа. “Я” этой автобиографии основывает и обосновывает себя, оно доказывает и подписывает от имени и во имя “нас”. Мандела всегда говорит “мой народ”, как мы уже отмечали, прежде всего, когда ставит вопрос о субъекте, ответственном перед законом:
Меня обвиняют в подстрекательстве людей к совершению правонарушений путем протеста против закона, закона, в подготовке которого ни я, ни
Он сам представляет себя таким способом. Он сам предстаёт, в своём народе, пред законом. Перед законом, который он, несомненно, оспаривает, но оспаривает во имя высшего закона, того самого, который его восхищает, и перед которым он соглашается предстать. В такой самопрезентации он обосновывает себя, обращаясь к собственной истории — которую он отражает в единичном фокусе, единичном и двойном фокусе: своей истории и истории своего народа. Со-явление [comparution]: они появляются вместе, он собирает себя в явленности, представая перед законом, к которому он взывает в той же мере, в какой он призывает его. Но Мандела не представляет себя перед взором оправдательного вердикта, который может последовать. Самопрезентация не служит закону, она не является средством. Разворачивание этой истории является обоснованием, оно, возможно, и имеет смысл только перед законом. Он (Мандела) есть тот, кто он есть, он, Нельсон Мандела, он и его народ, он присутствует только в этом движении справедливости.
Мемуары и исповеди адвоката. Этот адвокат “исповедуется”, по сути, оправдывая и обосновывая, более того, беря на себя ответственность за нарушение юридических положений. Призывая в свидетели весь род людской, он обращается к универсальному суду [“a la justice universelle”], над главами тех, кому случится предстать в качестве его судей. Отсюда парадокс: в этой истории мученика можно уловить некий радостный трепет. А порой кажется, что в этих признаниях можно различить акцент Руссо, голос, который не перестает взывать к голосу совести, к непосредственному и непогрешимому чувству справедливости, к тому закону законов, который говорит в нас до нас, потому что вписан в наши сердца. Согласно той же традиции, это также место категорического императива, морали, несоизмеримой с условными гипотезами и стратегиями интереса, как с фигурами того или иного гражданского права:
Я не верю, Ваша Честь, что этот суд, назначая мне наказание за преступления, за которые я осужден, должен руководствоваться убеждением, что наказания сдерживают и уводят людей с курса, который они считают правильным. История показывает, что наказания не удерживают людей, когда их совесть пробуждена.
Какой бы приговор Ваша Честь не сочла нужным вынести мне за преступление, за которое я был осужден в этом суде, пусть она будет уверена, что после отбытия наказания я буду по-прежнему движим, как всегда бывает движим человек, своей совестью; я буду по-прежнему движим своим неприятием расовой дискриминации моего народа, когда я выйду после отбытия наказания, чтобы снова, насколько смогу, начать борьбу за устранение этих несправедливостей, пока они не будут окончательно упразднены раз и навсегда.
Это был акт неповиновения закону. Мы осознавали, что это так, но, тем не менее, этот акт был навязан нам против нашей воли, и мы не могли поступить иначе, кроме как выбрать между соблюдением закона и следованием нашей совести.
Тут мы […] столкнулись с конфликтом между законом и нашей совестью. Пред лицом полной неспособности правительства прислушаться, рассмотреть и даже ответить на наши всерьез предложенные возражения и решения для грядущей республики, что нам оставалось делать? Неужели мы должны были позволить закону, который гласит, что нельзя совершать правонарушения в знак протеста, действовать по своему усмотрению и тем самым предать нашу совесть и наши взгляды? […] Вот дилемма, которая стояла перед нами, и исходя из такой дилеммы у людей честных, людей с целью, людей общественной морали и совести может быть только один ответ. Они должны следовать велениям своей совести, независимо от последствий, которые могут настигнуть их за это. Мы, члены Совета Действия, и я, в частности, как секретарь, следовали своей совести.
Совесть и сознание закона [conscience et conscience de la loi], эти два понятия — одно и то же. Само-представление и представление своего народа — две единые истории в единичном отражении. В обоих случаях, как мы уже говорили, единичный и двойной фокус. Фокус восхищения, ибо это сознание представляется, сплачивается, собирается, [se presente, se rassemble, se recueille] отражаясь перед законом. То бишь, не будем забывать, перед тем, что вызывает восхищение.
Сей опыт восхищения также дважды внутреннен. Он отражает отражение и черпает из него всю силу, которую обращает обратно против своих западных судей. Это драматическим образом происходит из двойной интериоризации. Сначала Мандела интериоризирует, принимает внутри себя идеальное представление о законе, которое, как может показаться, пришло с Запада. Но он также интериоризирует, тем же штрихом, принцип интериорности в той форме, которую придал ему христианский Запад. Все характеристики сего принципа можно найти в философии, политике, юриспруденции и морали, господствующей в Европе: закон законов покоится в самой прикровенной совести, именно исходя из этой последней инстанции следует судить о намерении и доброй воле, etc. Предваряя все юридические или политические рассуждения, предваряя тексты позитивного права, закон говорит через голос совести или же записывает себя в глубинах сердца.
Будучи человеком закона по призванию, Мандела был им и по профессии. Мы знаем, что сначала он изучал право по совету Уолтера Сисулу, тогдашнего секретаря Африканского национального конгресса. В частности, речь шла о том, чтобы овладеть западной юриспруденцией, оружием, которое можно было бы обратить против угнетателей. В конце концов, вопреки всем юридическим уловкам, последние не оценили реальную силу закона, которым они манипулируют, который нарушают и предают.
Чтобы занять свое место в системе, и в первую очередь на юридическом факультете, Мандела проходит заочные курсы. Он хочет получить, прежде всего, степень по литературе. Выделим этот эпизод. Не имея непосредственного доступа к обмену мнениями, прямому и “личному” [de “vive voix”], приходится начинать с (заочной) переписки. Позже Мандела будет жаловаться на это. Контекст, несомненно, будет другим, но речь все еще идет о политике голоса и письма, о разнице между тем, что говорится “вслух” [la “haute voix”] и тем, что пишется, между “устной речью” [la “vive voix”] и “перепиской”.
История белых правительств в этой стране заставила нас принять тот факт, что африканцы, когда они выдвигают свои требования достаточно сильно и мощно, чтобы иметь хоть какой-то шанс на успех [lorsqu’ils expriment a haute voix leurs exigences], будут встречены силой и террором со стороны правительства. Это не то, чему мы научили африканский народ, это то, чему африканский народ научился на собственном горьком опыте.
[…] В этой стране уже есть признаки того, что народ, мой народ, африканцы, переходят к преднамеренным актам насилия против правительства, дабы убедить правительство на единственном языке, который это правительство, демонстрируя это своим поведением, понимает.
В других странах мира суд сказал бы мне: “Вы должны были (письменно) обратиться к правительству” [“Vous auriez du ecrire a vos gouvernants”]. Уверен, этот суд так не скажет. Обращения были сделаны людьми до меня, снова и снова [nous avons ecrit a plusieurs reprises au gouvernement]. В этом деле я сам выступаю с заявлением; я не хочу снова повторять опыт прошлых обращений. Суд не может ожидать, что уважение к процессам обращений и переговоров будет расти среди африканского народа [la Cour ne saurait s“attendre a ce que le peuple africain continue d”user de la correspondance], когда правительство своим поведением каждый день показывает, что оно презирает такого рода процессы, осуждает их и не будет им содействовать. Я полагаю, суд также не скажет, что в данных обстоятельствах мой народ навсегда обречен ничего не говорить и ничего не делать.
Чтобы не слышать и не понимать [entendre], белое правительство требует, чтобы ему писали. Но при этом оно рассчитывает [entendre] не отвечать, а прежде всего не читать. Мандела вспоминает письмо, которое Альберт Лутули, тогдашний президент АНК, направил премьер-министру Стрейдому. Это было обширное исследование ситуации, сопровождавшееся просьбой о встрече. Ответа не последовало.
Стандартное поведение правительства ЮАР по отношению к моему народу и его чаяниям не всегда было таким, каким оно должно было быть, и не всегда является стандартом, которого следует ожидать в серьезных отношениях на высоком уровне между цивилизованными народами. Лидер Лутули даже не удостоился любезности получить подтверждение из офиса премьер-министра.
Белая власть не считает себя обязанной отвечать, она не считает себя ответственной перед черным народом. Последние даже не могут быть уверены в том, что с помощью какого-то ответного сообщения, речевого обмена, взглядами или знаками, на другой стороне был сформирован их образ, который затем может быть возвращен им каким-то образом. Ибо белая власть не довольствуется тем, что не отвечает. Она поступает еще хуже: она не признает факт приема сообщения. После Лутули Мандела сам проводит такой же эксперимент. Он написал Фервурду, чтобы сообщить ему о резолюции, принятой Советом Действия, секретарем которого он тогда был. Он также просит созвать Национальное собрание до истечения срока, установленного резолюцией. Ни ответа, ни подтверждения о получении:
В цивилизованной стране глава правительства был бы возмущен тем, что он даже не подтвердил получение письма или не рассмотрел столь разумную просьбу, обращенную к нему широко представленным собранием значимых личностей и лидеров наиболее важного сообщества страны. И снова стандарты правительства в обращении с моим народом оказались ниже того, что ожидает цивилизованный мир. На наше письмо не было получено никакого ответа, не было даже намека на то, что оно было рассмотрено. Здесь мы, африканский народ, столкнулись с конфликтом между законом и нашей совестью.
Не признать факт получения сообщения — значит преступить законы цивилизованности, но прежде всего законы цивилизации: дикарское поведение, возвращение к состоянию природы, к
Возможно, суд скажет, что, несмотря на наши человеческие права протестовать, возражать, заявлять о себе, мы должны оставаться в рамках буквы закона. Я бы сказал, сэр, что это правительство, его исполнение закона, приводящее закон в такое презрение и позор, что в этой стране больше не заботятся о том, чтобы оставаться в рамках буквы закона. Я проиллюстрирую это на собственном опыте. Правительство использовало правовые процедуры, чтобы помешать мне в моей личной жизни, в карьере и в моей политической деятельности таким образом, который, по моему мнению, рассчитан на то, чтобы вызвать презрение к закону.
Презрение к закону (симметричная изнанка уважения к моральному закону, сказал бы Кант: Achtung/Verachtung) таким образом не его собственное, не Манделы. Он в некотором смысле отражает, обвиняя, отвечая, признавая получение [en accusant reception], презрение белых к их собственному закону. Это всегда отражение. Те, кто однажды поставил его вне закона, просто не имели на это права: они сами уже поставили себя вне закона. Описывая свое состояние вне закона, Мандела анализирует и отражает бытие-вне-закона самого закона, во имя которого его будут не судить, а преследовать, выносить решение о предварительном судебном разбирательстве, уже заранее считать преступником, как будто в этом бесконечном судебном процессе суд уже состоялся, еще до рассмотрения дела, в то время как оно без конца откладывается:
Закон сделал меня преступником не за то, что я совершил, а за то, что я отстаивал и защищал, за то, что я думал, за мою совесть. Можно ли удивляться тому, что такие условия ставят человека вне закона общества? Можно ли удивляться, что такой человек, будучи объявленным правительством вне закона, готов вести жизнь вне закона, которую я и вел в течение нескольких месяцев, если верить доказательствам, представленным в этом суде?
Но наступает момент, как это было в моей жизни, когда человеку отказывают в праве жить нормальной жизнью, когда он может жить только жизнью вне закона, потому что правительство приняло решение использовать закон, дабы навязать ему положение беззаконника.
Так Мандела обвиняет власть Белых в том, что они никогда не отвечают, и в то же время просит черных молчать и “пользоваться корреспонденцией”: смиритесь с необходимостью корреспонденции и переписывайтесь в полном одиночестве!
Зловещая ирония контрапункта: после вынесения приговора Мандела находится в изоляции двадцать три часа в день в центральной тюрьме Претории. Он работает, штопая почтовые мешки.
4.
Человек закона по призванию, Мандела подвергает такому же осмыслению законы своей профессии, профессиональную деонтологию, ее суть и ее противоречия. Как мог этот адвокат, связанный кодексом деонтологии “соблюдать законы страны и уважать ее обычаи и традиции”, вести кампанию и призывать к забастовкам против политики этой же страны? Он сам ставит этот вопрос перед своими судьями. Чтобы ответить на него, потребуется не что иное, как история его жизни. Решение о соответствии или несоответствии деонтологическому кодексу не входит в сферу действия деонтологии как таковой. Вопрос: “Что делать с профессиональной деонтологией? Должен ли человек соблюдать ее или нет?” не является вопросом профессионального характера. На него можно ответить решением, которое затрагивает все бытие в его моральном, политическом и историческом измерениях. Поэтому, чтобы объяснить или, скорее, оправдать нарушение профессиональной нормы, необходимо, в известной мере, рассказать о его жизни:
Для того чтобы суд понял, какой порыв мыслей привел меня к подобным действиям, мне необходимо объяснить историю моего политического развития и попытаться донести до суда факторы, которые повлияли на мое решение действовать так, как я поступил.
Много лет назад, когда я был мальчиком, выросшим в своей деревне в Транскее…
Относится ли Мандела к профессиональным обязанностям легкомысленно? Нет, он старается думать о своей профессии, которая не является попросту еще одной профессией в стане других. Он осмысляет деонтологию деонтологии, глубокий смысл и дух деонтологических законов.
И, снова с восхищением и уважением, он приходит к решению во имя деонтологии деонтологии, которая также является деонтологией по ту сторону деонтологии, законом по ту сторону законности. Парадоксальность этой рефлексии (деонтологии деонтологии), которая ведет за пределы того, что она отражает, заключается в том, что ответственность вновь обретает свой смысл в недрах профессионального аппарата. Она вновь прописывается там, якобы вопреки кодексу, поскольку Мандела решает заниматься своей профессиональной деятельностью там, где ему хотели воспрепятствовать это делать. Как достойный адвокат, он ведет себя в рамках кодекса вопреки кодексу, отражая его, одновременно давая увидеть в нем то, что действующий кодекс делал недоступным к прочтению. Его отражение, еще раз, демонстрирует то, что феноменальность по-прежнему скрывает. Оно не воспроизводит, оно производит видимое. Это производство света и есть справедливость — моральная или политическая. Ибо сокрытие на уровне феномена нельзя смешивать ни с каким естественным процессом; в нем нет ничего нейтрального, невинного или неизбежного. Здесь оно воплощает политическое насилие Белых, следует их интерпретации законов, тому распространению юридических постановлений, буква которых призвана противоречить духу закона. Например,
Это было равносильно тому, чтобы попросить нас отказаться от адвокатской практики, отказаться от оказания юридических услуг нашему народу, на подготовку к практике мы потратили много лет. Ни один достойный адвокат [digne de ce nom] не согласится так просто сделать это. Поэтому в течение нескольких лет мы продолжали незаконно занимать помещения в городе. Угроза судебного преследования и изгнания грозно висела над нами на протяжении всего этого периода. Это был акт неповиновения [mepris] закону. Мы осознавали, что это так, но, тем не менее, этот акт был навязан нам против нашей воли, и мы не могли поступить иначе, как выбрать между следованием закону и следованию нашей совести.
Я считал своим долгом, не только перед своим народом, но и перед своей профессией, перед юридической практикой и перед справедливостью для всего человечества, выступить против этой дискриминации, которая по своей сущности несправедлива и противоречит всей основе отношения к правосудию, которое является частью традиции юридического образования в этой стране.
Человек закона по призванию: мы сильно упростим ситуацию, если скажем, что он ставит уважение к закону и некий категорический императив выше профессиональной деонтологии. Эта профессия, “практика закона”, не является ремеслом, подобным любому другому. Она делает профессией, можно сказать, то, чего мы все придерживаемся, даже вне наших профессий. Юрист — это эксперт в деле уважения, или восхищения. Он судит себя и подчиняется суду с избыточной строгостью; во всяком случае, так должно быть. Следовательно, Мандела должен найти в рамках профессиональной деонтологии наилучшую причину для того, чтобы порвать с законодательным кодексом, который уже предал принципы всей добросовестной профессиональной деонтологии. Как будто, поразмыслив, путем отражения, он должен был также компенсировать, восполнить, реконструировать, присоединить избыток деонтологии в том месте, где Белые в конечном счете не выполнили свои обязательства, допустили промах.
Дважды он признается в определенном “пренебрежении [mepris] законом” (все еще это его выражение), чтобы протянуть своим противникам зеркало, в котором они должны будут признать и увидеть отражение собственного презрения к закону. Но с этой добавочной инверсией: со стороны Манделы презрение к закону, похоже, означает прибавочное [surplus] уважение к закону.
И все же он не обвиняет своих судей, не сразу, меньше всего в тот момент, когда предстает перед ними. Несомненно, сначала он признает их негодными: во-первых, в составе суда нет ни одного чернокожего, а значит нет и необходимых гарантий беспристрастности (“[…]истина заключается в том, что в отношении нашего народа фактически не применяется равенство перед законом, утверждения об обратном, безусловно, неверны и вводят в заблуждение”); а, во-вторых, так случилось, что судья-председатель в перерывах между заседаниями поддерживал контакты с сотрудниками полиции. Но когда Мандела предстал перед судьями, эти возражения, естественно, не были поддержаны, он перестает призывать трибунал к ответу. Прежде всего, Мандела продолжает хранить глубоко внутри себя уважительное восхищение теми, кто выполняет образцовую в его глазах функцию и самим достоинством судебного процесса. Далее, уважение к правилам позволяет ему удостоверить безупречную законность инстанции, перед которой ему также необходимо предстать. Он хочет воспользоваться случаем — не говоря уже о возможности — этого суда, дабы выступить, придать своей речи резонанс, публичный и практически всеобщий. Необходимо, чтобы эти судьи представляли собой всеобщий авторитет. Таким образом, он сможет обращаться к ним, одновременно говоря по ту сторону их понимания. Это двойное положение позволяет ему уловить смысл собственной истории, своей и своего народа, затем изложить ее в виде связного рассказа. Образ того, что связывает его историю с историей его народа, должен быть сформирован в этом двойном фокусе, который одновременно принимает его, собирает его, призывая к жизни, и сохраняет его, да, прежде всего, сохраняет его: присутствующие здесь судьи, которые слушают Манделу, а за их спинами, намного выше и больше их, вселенский, универсальный судебный орган. Через мгновение мы встретимся с человеком и философом этого трибунала. В
5.
Этот текст, одновременно уникальный и образцовый — является ли он завещанием [4]? Что с ним стало спустя более чем двадцать лет? Что сделала и что сделает история из него? Что станет с примером? И с самим Нельсоном Манделой? Его тюремщики решаются говорить о его обмене, о переговорах по поводу его освобождения! Торговаться за его свободу и за свободу Сахарова!
Есть, по крайней мере, два способа получить свидетельские показания — и два понимания этого слова, в общем, два способа признать получение. Можно изогнуть их в сторону свидетельствования лишь о прошлом; такой подход будет обречен на отражение того, что не подлежит возвращению: своего рода Запад в целом, конец пути, который одновременно является и траекторией, удаляющейся от источника света, завершение эпохи, например, христианской Европы (Мандела говорит на ее языке; это также христианский английский). Но — другой изгиб — если свидетельство всегда представляется перед свидетелями, свидетель перед свидетелем, то это также раскрытие и повеление, передача другим ответственности за грядущее. Дать показания, оставить свидетельство/завещание, свидетельствовать, оспаривать, предстать перед свидетелями — для Манделы это значило не только показать себя, сделать себя известным, себя и свой народ; это означало переутверждение закона для грядущего, как если бы, по сути, его никогда не было. Как если бы, никогда не соблюдаемый и не уважаемый, он, закон, остался, эта архи-древняя вещь, которая никогда не существовала в настоящем, само будущее — все еще невидимое. Дабы быть заново изобретенным.
Эти два изгиба, две модуляции свидетельства не противопоставляются друг другу; они пересекаются в образцовости примера, когда речь идет об уважении к закону. Уважение к человеку, говорит нам Кант, обращается прежде всего к закону, примером которого этот человек нам служит. Уважение должным образом приличествует лишь закону, который является его единственной причиной. И все же — это закон — мы должны уважать другого самого по себе, в его неустранимой единственности и единичности. Действительно, как человек или разумное существо, другой всегда свидетельствует, в самой своей сингулярности, об уважении к закону. В этом смысле другой является образцом. И всегда отражает, в соответствии с той же оптикой, оптикой восхищения и уважения, эти фигуры взгляда. У
Но можно сказать и обратное: его отражение позволяет нам разглядеть — в самой уникальной геополитической конъюнктуре, в той предельной концентрации всей истории человечества, которая сегодня представлена местами или ставками, названными, например, “Южная Африка” или “Израиль” — обещание того, чего до сих пор никогда не было ни видно, ни слышно, в законе, представленном на Западе, в пределе Запада, только чтобы так же быстро ускользнуть от него. То, что будет решаться в этих “местах”, названных так, — которые вместе с тем являются значительными и грозными метонимами, — решило бы все, если бы еще существовало это некое все.
Итак, образцовыми свидетелями часто становятся те, кто проводит различие между правом и законами, между уважением к закону, который непосредственно обращается к совести, и подчинением позитивному праву (историческому, национальному, институциональному). Совесть — это не только память, но и обещание. Образцовые свидетели, те, кто заставляют думать о законе, который они отражают, — это те, кто в определенных ситуациях не уважают законы. Они иногда разрываются между совестью и законами, порой позволяют себе быть осужденными судами своих стран. Такие есть во всех странах, а это хорошо доказывает, что место появления или формулирования также является для закона местом его первого искоренения. Во всех странах, так, например, опять же в Европе, в Англии, скажем, и среди философов, к слову. Пример, выбранный Манделой, самый образцовый из всех свидетелей, которых он, кажется, привел, — это английский философ, пэр Соединенного Королевства (опять восхищение самыми возвышенными формами парламентской демократии!), “самый уважаемый философ западного мира”, который в определенных ситуациях был способен не уважать закон, ставить “совесть”, “долг”, “веру в дело” выше “уважения к закону”. Именно из уважения он не уважал: (никакого) больше уважения [plus de respect]. Уважение
Восхищение Манделы — Бертраном Расселом:
Ваша Честь, я бы сказал, что вся жизнь любого мыслящего африканца в этой стране заставляет его постоянно находиться в конфликте между его совестью, с одной стороны, и законом — с другой. Это не конфликт, характерный только для этой страны. Конфликт возникает у людей совести, у людей думающих и глубоко чувствующих в любой стране. Недавно в Великобритании пэр Соединенного Королевства граф Рассел, возможно, самый уважаемый философ западного мира, был приговорен, осужден именно за те действия, за которые и я сегодня стою перед вами, за следование своей совести вопреки закону, в знак протеста против политики в области ядерного вооружения, проводимой его собственным правительством. Для него долг перед обществом, его вера в моральную правоту дела, за которое он выступал, были выше глубокого уважения к закону. Он не мог поступить иначе, чем выступить против закона и понести за это последствия. Не могу и я, не могут и многие африканцы в этой стране. Закон, как он применяется, закон, как он развивался в течение долгого периода истории, и особенно закон, как он написан и разработан националистическим правительством, является законом, который, по нашему мнению, аморален, несправедлив и нетерпим. Наша совесть диктует нам, что мы должны протестовать против него, должны противостоять ему, и что мы должны попытаться изменить его.
Противостоять закону, незамедлительно начать работать над его изменением: как только решение принято, обращение к насилию не должно быть безмерным и беспорядочным. Мандела скрупулезно объясняет стратегию, пределы, последовательность действий, которые нужно обдумать и проконтролировать. Сначала должна иметь место фаза, в ходе которой, при запрете любого законного противодействия, правонарушение, тем не менее, должно оставаться ненасильственным:
Все законные способы выражения несогласия с этим принципом были пресечены законодательством, и мы были поставлены в положение, в котором нам оставалось либо смириться с постоянным состоянием неполноценности, либо бросить вызов правительству. Мы решили бросить вызов закону. Сначала мы нарушили закон таким образом, дабы избежать любого обращения к насилию.
Правонарушение по-прежнему демонстрирует абсолютное уважение к подразумеваемому духу законов. Но оставить все как есть было невозможно. Правительство изобрело новые юридические уловки для подавления ненасильственных выступлений. Перед лицом этого насильственного ответа, который также был не-ответом, переход к насилию, в свою очередь, был единственным возможным ответом. Ответом на
[…]когда эта форма была законодательно запрещена, после чего правительство прибегло к демонстрации силы, с целью сокрушить противников своей политики, только тогда мы решили ответить на насилие насилием.
Однако даже здесь насилие подчиняется строгому закону, “строго контролируемое насилие”. Мандела настаивает, он подчеркивает эти слова, когда объясняет генезис uMkhonto we Sizwe (“Копье нации”) в ноябре 1961 года. Создавая эту военную организацию, он намеревался подчинить ее политическим директивам АНК, устав которого предписывает ненасилие. Перед своими судьями Мандела подробно описывает правила действий, стратегию, тактику и, прежде всего, ограничения, налагаемые на бойцов, которым поручено проведение диверсий: не причинять никому вреда и не убивать, что бы ни произошло в ходе подготовки или проведения операций. Бойцы не должны были носить оружие. Если он признает, что “подготовил план диверсии”, то не из “авантюризма” и не из “любви к насилию как таковому”. Напротив, он хотел прервать то, что так метко называют циклом насилия: одно насилие порождает другое, потому что другое прежде всего отвечает на него, отражает его, возвращает ему его образ. Мандела намеревался ограничить риск вспышек насилия, контролируя действия бойцов и постоянно предаваясь тому, что он называет “рефлективным” анализом ситуации.
Его арестовывают через четыре месяца после создания uMkhonto, в августе 1962 года. В мае 1964 года, по окончании суда в Ривонии, его приговаривают к бессрочному тюремному заключению.
P.-S.: Постскриптум посвящается грядущему — тому, что в нем сегодня остается самым неопределенным. Ибо я хотел, конечно, говорить о том, что станется с Нельсоном Манделой [de l’avenir de Nelson Mandela], о том, что не позволяет себя предугадать, поймать, запечатлеть никаким зеркалом. Кто такой Нельсон Мандела?
Не перестаешь восхищаться им, им и его восхищением. Но все еще не знаешь, кем в нем восхищаться — тем, кто в прошлом был пленником собственного восхищения, или тем, кто в
Разве он не был (бы) заточен вот уже почти четверть века, в своем восхищении? Не была ли сама цель — я понимаю это в смысле оптического устройства и фотографии — правом доступа, правом осмотра/досмотра [le droit de regard]? Позволил ли он себе быть заключенным? Сделал ли он себя заключенным? Случайно ли это в его случае? Возможно, необходимо поставить себя в положение, когда эти альтернативы теряют свой смысл и становятся заглавием новых вопросов. Выходит, оставить эти вопросы все еще открытыми, как двери. И то, что еще грядет в этих вопросах, которые не сводимы лишь к теоретическими или философским, это также фигура Манделы. Кто это? Кто грядет?
Мы смотрели на него через слова, которые порой являются инструментами наблюдения, могут стать таковыми, в любом случае, если мы не будем от них оберегаться. То, что мы описали, пытаясь избежать спекулятивных рассуждений, было своего рода грандиозной исторической смотровой башней. Но ничто не дозволяет принять на веру единство, а тем более легитимность этой оптики отражения, ее единичных законов, Закона, места ее учреждения, представления или откровения, что слишком быстро складывается, например, под именем Запада. Однако эта презумпция единства — не производит ли она нечто вроде эффекта (я не привязываюсь к этому слову), который такое множество сил пытаются присвоить, всегда, эффекта, который видим и невидим, как зеркало, и тверд, как стены тюрьмы?
Все то, что до сих пор скрывает от нас Нельсона Манделу.
______________________________________________________________________
[1] Отражение мы встречаем уже начиная с заглавия — это одновременно «восхищение Нельсона Манделы» и «восхищение Нельсоном Манделой», что по-русски в одной фразе передать невозможно. — прим. пер.
[2] Здесь и далее, встречая слово «отражение» или «рефлексия» можно подставлять одно вместо другого и наоборот — прим. пер.
[3] Перевод и интерпретацию сего слова мы оставляем на силу и ответственность читателя. Можем только предложить одну вариацию интерпретации: Деррида может сгущать два греческих слова γενεά и óπτικός, что в данном случае будет значить генетический подход, касающийся измерения оптики (за эту интерпретацию спасибо Александру Абрамову) — прим. пер.
[4] Testament это одновременно и свидетельство (свидетельские показания), и завет, и завещание. Деррида обыгрывает все три значения — прим. пер.
_______________________________________________________________________
Оригинал: “Admiration de Nelson Mandela, ou Les Lois de la Reflexion”, Pour Nelson Mandela (Paris: Gallimard, 1986).
Перевод: Ливаднов Георгий
