Как донкихоты в ночь # Фёдор Корандей
Реч#порт публикует подборку стихотворений Фëдора Корандея с вступительным словом Михаила Немцева.
Фëдор Корандей (род. 1980 г.) — историк, географ, поэт, эссеист. Сотрудник Тюменского государственного университета. Автор многочисленных поэтических публикаций, сборника стихов «Новости нулевого канала» (М., 2018).

Несколько слов о поэтике Фёдора Корандея
Фëдор Корандей исследует несерьëзность литературного вымысла в его отношении к серьëзности жизни. Или же, шире, отношения вымысла и реальности, этим вымыслом дополняемой. Классические поэтики говорили о повторении реальности. А мы, теперешние, в мире, где виртуализовано уже всë что угодно, думаем скорее о том, как бы поинтереснее еë дополнить художественным вымыслом. Стихи в этой подборке показывают, как. Их поэтический субъект довольно начитан и в вымыслах явно искушëн. Именно поэтому среди прочих вымыслов он предпочитает старые сказки — добрые и недобрые (вроде хэллоуинской, из прошлой публикации Фëдора Корандея в «Реч#порте»). Пожалуй, этот субъект ожидает такого же предпочтения сказочности от тех, к кому обращается. Оно ему нужно, чтобы сделать выносимой реальность, где «деревни, приветливые, словно катафалки», где если по стене ночью пробегут фары заоконного автомобиля, то тут же жутковатое «старое дерево вспыхнет чëрной бугристой корою, /
Такая мечтательная способность угадывать в предметах окружающего пространства и людях окружающего общества бóльшее, чем они есть, более-менее знакома всем детям. Потом у
То есть способность просто смотреть, понимая, что именно происходит перед глазами.
Такое исследование вымысла, то есть творчества, закономерно не обходится без обращения к детскому восприятию как безусловному образцу. Он постоянно идëт по краю стилизации детского мировидения. Наиболее явно эти повзрослевшие дети выходят на передний план в стихотворении «Нам сообщили, что поэту Ферлингетти».
Очень важно, что у Корандея эта «детскость» совершенно не инфантильна. Его персонаж может оказаться захвачен игрой образов и ассоциаций, совсем как ребëнок. Но несомненно он осознаëт эту свою захваченность, точнее даже — играет в неë. Это расчëтливая игра в детское видение. Зачем? Как ребëнок в игре свободен прямо здесь и сейчас, несмотря на никакие обстоятельства, так взрослый персонаж Корандея, невзирая на разнообразные бытовые ограниченности, свободен увидеть что угодно на месте или за спиной чего угодно, по воле натренированного массой культурных ассоциаций воображения.
В общем, в субъекте стихов Корандея можно различить не кого иного, как акмеиста. Его «взрослая», очень серьëзная «тоска по мировой культуре» (из мандельштамовского определения акмеизма) позволяет ему ëрничать над собой (когда псевдовоспоминание об «ымоциональнейших двадцатых» вдруг прерывается вбежавшей трëногой собакой, так себе зрелище, — не лучше шестиногого пса в одном грустном стихотворении Чарльза Симика…), забавляться ассоциациями — и в то же время всерьëз доверять этому чувству удвоенной и этим расширенной жизни, когда, как в древних мифологиях, что угодно может вдруг оказаться чем угодно или всем.
Михаил Немцев
Как донкихоты в ночь
+ + +
До
Мимо заводов, похожих на древние римы,
Мимо развалин, под небом грозным,
Ехали мы, неутомимы,
Легкомысленные, как обычно,
C хиханьками да хаханьками на заднем сиденье,
Мимо родины с телом бычьим,
Глядящей вслед, пережëвывающей растенье.
О беспечные улыбающиеся рожи,
Проезжая деревни, приветливые, словно катафалки,
Мы комментировали прохожих
Долихокефалов, спешивших к своим долихокефалкам,
Борщевики, исполненные тумана и дыма,
Колесо, упавшее с высокого берега.
Несерьëзно. В искусстве должна быть драма,
Ещë лучше трагедия, хотя бы истерика,
Скажет кто-то: «довольно идиллий!»
Сегодня нельзя быть вне политики!
Но, увы, в борщевики мы не ходили,
И не ели придорожные лютики.
Несерьëзное пламя горело за лесами,
Несерьëзный ветер качал несерьëзную лодку,
Несерьëзная колыхалась под нами
Бездна ночи карасьей, старой, холодной.
+ + +
В этом году повсюду стоят самокаты,
Ночью на тротуаре чëрный стоит самокат,
И темнота, и горят майские только солдаты,
Освещены под луной, антифашистский плакат.
Новая стала теперь в людях, иная отвага,
Раньше никто б не посмел бросить вот так самокат,
Возле солдат бродит печально, бедняга,
Брошенный ночью один, чëрен, как козлик, рогат.
В мае идëшь, увяжется козлик за пьяным,
Или барашек, если проходишь фонарь,
Эй, касатик, постой, кричит за спиною Сагана,
Хочишь, домой забери или ногою ударь!
Новые люди теперь, прежних, конечно, не хуже,
Раньше кладбище было, нынче разбили здесь сад,
И не сломает никто, вообще никому он не нужен,
Козлик пасëтся один, рядом солдаты висят.
Только вот ëкнет порой, мимо проходишь когда ты,
Слишком восторженный в мае, словно летишь в колесе,
Дед твой, с плаката солдат, и деды солдата с плаката,
Так возвращались давно, но воротились не все.
Сто поколений назад, колëса ночные катались,
Козлик за
Тени, шатаясь, домой по темноте возвращались,
Эта трава зелена, танкова эта броня.

+ + +
В ымоциональнейших двадцатых
Зимний закат горел в дымах,
Домов над крышами поднятых,
И бегал пëс на трëх ногах.
А ты заметил, сын, безногую собачку?
— Нет, я нагнулся, чтобы варежку поднять…
Ох, папа, я сейчас заплачу…
Но уж нельзя вернуть, обратно промотать.
Как донкихоты в ночь из детского из сада
Идут отцы в своих сопровожденьи санчо панс:
— Нам, флибустьерам, тщательнее надо
По сторонам смотреть, не упускать свой шанс!
Но ты не плачь, не плачь, пускай их надувает
Бригантина в дальнем море паруса,
Ведь будет новый день, всегда бывает,
И мы опять увидим пса…
Мой пëсик чëрный, во дворе в котором
Ты нынче бегаешь, мохнатый табурет?
Ни у чего на самом деле нет повтора,
Дни эти были, а потом их нет.
+ + +
У каждого поэта бывает такой вечер.
В зале три или четыре неадеквата,
И несколько друзей, в основном — девочек,
И поздний вечер, и ПУСТОВАТО.
Вот эта пустынность, это эхо без крика,
Фасады, которые ты даже не поцарапаешь,
И есть самое главное в нашем ремесле
городских фриков,
А также ночь, от которой ты драпаешь.
И пьяный, который скажет: «У вас великолепные стихи, спасибо».
И пьяный, который скажет: «Что это за говно он читает?»
И серое, набухшее небо России,
И снег, который в ботинках тает,
Грузовики, которые этот снег вывозят,
Тамбуры, наполненные мистическим паром,
И книжный магазин «Поэзия»,
В котором осталась ещë пара экземпляров.
И самое главное — эйфория,
Размахивание руками, развинченная походка,
Длинные перспективы пустые
Ночных бульваров, чернеющих, словно подводная лодка.
И самое главное — внезапный
Филологической девочки смех, врубившейся в тему,
И алкоголик, который зачем-то Фрэнка Заппу
Вдруг встал и вспомнил, позабытого всеми.
А ночью всë оживает в закрытых на клюшку книжных.
Лезет на свет психиатр Лобковский, за ним — Гарри Поттер,
Следом — Вирджиния Вульф с Рэем Брэдбери нежным,
Но поэтические сборники не участвуют в этом
Шабаше выползших литературных тараканов,
Молча стоят на полках, и никуда не двигаются,
Глядя на пляшущую с козлом голую Гермиону.
Это и есть самое главное в нашем бизнесе.
+ + +
Когда любовники лежат под люстрой пыльной,
Глазами ездят полуночные огни
По стенам. Мир пытается, бессильный,
Проведать, где они.
Голов капустных смутный ряд, на пляже
Безлунная волна, темнеющий камыш,
Все знают, но никто об этом не расскажет,
А их не разглядишь.
Их разговор — развод, печальный крах супружеств,
Прогулки по невидимым холмам,
Спасительный осенний мрак и ужас,
Что там уже зима.
Как чëрен человек в пальто своëм, как пусто
На снежных улицах в краю ночном, лихом,
На небесах в углу лежит кочан капусты
Как в подполе глухом.
Трусливая ночная поступь зайца,
Несущего пустой мешок,
В своë голодное домашнее хозяйство,
В свой дом кишок,
Решëтку рëбер, где огонь Самайна
Горит, почти невидимый со стороны,
Багровый, страшный, словно тайна,
Зарытый в валуны.
Ни ëжик, ни кабан, ни рыжая лисица
Не принесут жене его таинственных даров,
Дом, красный дом, уже не будет биться,
Пролилась кров.
+ + +
Вечерами мама смотрела перестрелки.
Шорох и мерцание перестрелок в комнате тëмной.
Начало лета, а на белом потолке
Тень мамы юной.
Ай, влажно блестящие тополя в Тугулыме.
Ай, синий свет сквозь тугулымские ветки.
Ай, в Тугулыме юная мама,
Пули, брюнетки.
Гангстер вспотевший латиноамериканский
Истекает кровавой слюною.
А у юной мамы золотятся
Волосы, и ночь стоит за спиною:
Кущи, чащи, аллеи,
Изумрудные авансцены тëмно-зелëного театра
В тот час пустые.
Единственное розоватое облако утра.
Розовое облако, словно бумажечка напоминания,
Не уходит с летнего неба даже в полночь,
Словно маленькое пышное мексиканское здание,
Глядя на которое, помнишь,
Что жара, печка с изразцами, будет топиться
Целый месяц, а когда на час снизойдëт прохлада,
Бледные полночные мексиканцы
Станут друг другу вышибать мозги из засады.
Потные, словно бутылочка лимонада,
Синие, сквозь заросли палисада.
Ай, мама, ке пасо.
Пионы, рассада.
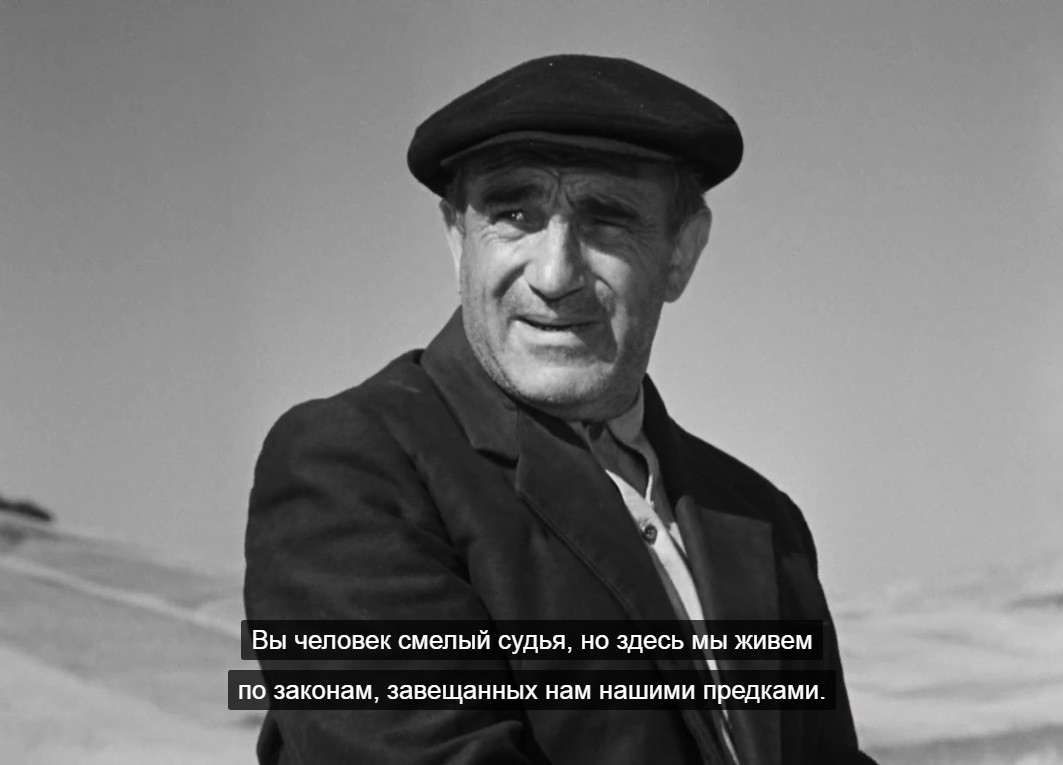
+ + +
Словно в детстве, когда отвернëшься к обоям, —
Ночью проедет такси или скорая помощь,
Старое дерево вспыхнет чëрной бугристой корою,
Из пластилина мир нам лепили, но не слепили.
Красных пельменей и синих клейкие ушки и кромки.
Светом Сильвестра Сталлоне, ярким его разбудили.
Спрыгнул он и побежал, сильный, свирепый, огромный.
Я, как Сильвестр, десять лет в той ночи подрывался,
Прочь убегал из пронзëнного фарами дома.
Сидя верхом, на боксëрской перчатке качался,
Выбросил после еë, вывел, как мерзкого гнома.
Cтоя у синих ворот, мы навсегда распрощались,
Карлица прянула в ночь, делая жалкие сальто.
Чëрно-зелëные тени между собой совещались,
Там, где ушиблась она, немного ещë проползла по асфальту.
+ + +
Нам сообщили, что поэту Ферлингетти
Исполнилось сто лет. Вот он в подня́той раме
Стоит оконной — на дворе там дети
Американские, пришли его поздравить.
Верней, не дети, но, конечно, дети.
Когда он переехал в
Ещë родители не родились у этих
Поклонников старинного совриска.
Окно американское, и утро
Американское, а за углом деревья
Волнуются американским свежим ветром,
А снизу машут, полные здоровья,
Лет сорока-пятидесяти дети,
Ценители поэзии, которой
Когда-то занимался Ферлингетти.
Но почему когда-то? Он не старый.
В Америке нет старости и смерти,
Огни большого города сияют,
Сто свечек на великолепном торте
Горят, и никогда не оплывают.
Уедет кто-нибудь в Америку — и больше
Не изменяется. С улыбкой постоянной
Портрет его как будто тонет в луже,
Вдруг оказавшейся Атлантикой бездонной.
В Америке и яркость есть, и резкость.
А Старый Свет — между тобой и нею
Мешающая зренью занавеска,
Которую отдëрнуть все труднее,
Туман холодный на стекле оконном,
Чем дальше, тем сильнее надышалость,
Где светит солнце? Где бегут бизоны?
Где ясность? Где ещë она осталась?
+ + +
Как в истории про того ирландца,
Что сошëл с парохода,
ëлка наша разваливается
После старого Нового года.
Только что была бравым генералом,
Мерцали ордена еë и медали,
Но истлели щит и забрало,
Cтарые иголки опали.
Ничего, ничего не осталось,
А тут ещë вспыхнула дома ссора,
Целое дерево изломалось,
В угол легло для мусора.
Ах, говорили мы друг другу первые
В этом году обидные вещи.
А ветеран в мундире порванном
Молча умирал искалеченный.
Ах, в ночи недостаточного интеллекта
Ымоционального, и взаимного недоверия,
ëлка истлевшим скелетом,
Аллардайсом, пала у двери.
Морган Том, а помнишь ты Аллардайса?
Конечно, помню. Он мне должен,
Падла, многих денег остался
И утащил мой ножик.
Время — зелëный скалистый остров
Под налетевшими чайками,
Дух, наполнявший пиратский остов,
Вышел, как пар из чайника.
Ночью ругались, а когда после ряда
Недразумений, над нами забрезжило утро надежд,
На ирландце блеснула его оставшаяся награда,
Две гинеи за город Будапешт.

