Эксцентрика выхода из зоны комфорта (эксцентрический поворот в современном театре). Беседа Дмитрия Голынко с Анастасией Патлай и Романом Осминкиным
Эта беседа была подготовлена Дмитрием Голынко-Вольфсоном для журнала «Кинема» 2022. № 1 (3). Разговор происходил в конце 2021 года. Обсуждение затрагивает ключевую тему последнего десятилетия: незавершенность проекта модерна и разные — художественно-политические попытки к его преодолению/продолжению. Еще недавно, казалось, мы живем в постмодерном мире, к которому более не применимы инструменты авангардного искусства (трансгрессия, субверсия или девиация) и модерной философии (разум, рациональность, истина, воля, субъект…). Парадоксальным образом, в современных условиях роль эксцентриков начинают исполнять апологеты «новой этики» и «новой нормативности», требующие соблюдения личных границ, радикальной инклюзии и самоцензурирования. Насколько вообще в контексте перформанса и современного театра новая (пост)протестная, (пост)активистская проблематика, то есть проблематика «новой этики» и «культуры отмены» эксцентрична, продуктивна? Или она все-таки репрессивна?

Д. Г. Что такое эксцентрика для вас сегодня? Является ли для вас эксцентрика нерефлексивным, экстатическим жестом, идиотией, о которой говорили в 1990-е? Или все-таки эксцентрика — это некая новая рефлексивность?
Р. О. Если честно, я не особо задумывался об эксцентрике как понятии. Может быть, Дмитрий один из первых, кто спровоцировал меня на это. И исходя из первого вопроса, я понимаю, что речь идет о попытке искусственно выстроить бинарную систему между неким центром (сознанием, разумом, языком) и экс- как чем-то внешним ему (телом, аффектом, бессознательным). Если мы возьмем понятие «эксцентрики» с биополитической точки зрения, то мы увидим, насколько важным стало сегодня понятие личных, индивидуальных «границ» (сегодняшних зумеров даже называют «снежинками», правда скорее в негативной коннотации, как что-то хрупкое и тающее на глазах, но снежинка — это как раз пример мельчайшей частицы, вокруг которой кристаллизуется причудливая материя). Хотя мы и понимаем после психоанализа, что наш центр пустотен, экстимное (по Лакану) ядро отсутствует. Гипертрофированный субъект начала XX века, который говорил из этого центра, большого нарциссического эго, сверхраздутого, как у Маяковского, сегодня в принципе непредставим. Но не потому, что он самоумалился, а просто само понятие «субъективности» пересмотрено. И оно уже не просто критикуется в том плане, что внутренний мир недоступен или отсутствует в плане лингвистического понимания, но в принципе: вместо субъекта следует говорить о практиках распределенной агентности. Мы находимся в такой переходной ситуации, которую Д. А. Пригов называл переходом «к новому эону», ситуации преодоления иудео-христианского понимания человека и устоев гуманистической этики. Постгуманистический переход, соответственно, и упраздняет субъектность даже в фукольдианском смысле или в дерридианском, то есть как инскрипцию, как что-то вписываемое, дискурсивное, и предлагает нам, действительно, полное переосмысление субъектности. Мы являемся сосуществующими, содействующими вместе с другими вещами, объектами, с животными или даже с несуществующими в материальном, физикалистском мире явлениями. Понятие «субъекта» заменяется понятием «агентности», и поэтому, соответственно, сам экс-, сам выход за пределы центра требует ревизии. Не нужно больше никакой трансгрессии, если понимать под ней эмансипацию собственной субъектности, обретение собственной субъективности.
В начале 1990-х мы пытались выстраивать собственные субъективности, и тогда действительно была очень важна феминистская теория гендера, квир-теория Дж. Батлер, которая апеллировала к обретению субъективности через гендерную перформантивность. В театральный контекст эти моменты перевела Эрика Фишер-Лихтер, она совершила важный поворот к эстетике перформативности, связав ее с философией языка и с теорией Батлер. Сегодня, мне представляется, вопрос о трансгрессии во-многом снят, и не потому, что все вокруг ранимые «снежинки», которые выстраивают собственные границы и организуют взамен старой так называемую «новую нормативность» или «позитивную дискриминацию». Я против этого термина, и даже понятие «новой этики» для меня проблематично, скорее можно говорить о постепенном формировании «структуры чувства»в терминологии культурного материалиста Раймонда Уильямса, . Структура чувства опредленного поколения, эпохи, геополитической локации трансформируется не одномоментно, а постепенно, затрагивая разные структуры — от социальных и гендерных до бытовой повседневности, то есть этисдвиги длительные, это долгий процесс. Раньше многие художественные практики были трансгрессивные, прорывные, витальные, ориентированные на преодолении рефлексивности или формально-когерентной логики в пользу витальной телесности, в пользу новых анархических опытов. Сегодня больше говорят о пост-гуманистической генеративной материи, чья самоорганизующаяся витальность неотделима от самопознания. Кто-то еще апеллирует к физиологам, психологам XX века, которые ввели понятие «кинестетический интеллект», «кинестезия», когда рефлексия наша в соответствии с нашей телесностью работает неразрывно. Тогда нет никакого голого, нерефлексивного аффекта, тогда актер, перформер или поэт действует эксцентрично, не исходя из своей внутренней психологии. Ведь эксцентрика была противопоставлена психологическому театру XIX века. Когда актер действует алогически, руководствуется своими довербальными или паравербальными жестами, алогичными телесными проявлениями, то это не противостоит кинестетическому интеллекту, который сегодня исследуется на новом уровне в нейропсихологии, в генетике, внедрившихся в том числе и в современное искусство. Что такое агентность, как ее мыслят наши молодые теоретики перформанса и театра, например, Ольга Тараканова, Виктор Вилисов, Иван Демидкин, которые исследуют в том числе цифровой перформанс и театр без человека в их связи с переходом на пандемический режим. Для них эксцентричность не является проблемой. Более того, они не мыслят театр, который ставил на прямое воздействие, в терминах физического присутствия, скорее правильнее говорить о постметафизическом присутствии, обмене зрительскими энергиями, который, казалось, всегда был необходим в театре, чем он и отличается от искусств неисполнительских, неперформативных. Это присутствие становится гибридным и распределенным, как и наша агентность, в том числе виртуально. Виртуальность дополняется сейчас реальностью, они очень сильно перемешиваются.
Поэтому я не вижу проблемы в том, что нужно как-то возвращаться к эксцентрике. В политическом акционизме 2000-начала 2010-х годов эксцентризм, можно сказать, являлся необходимой политической процедурой, но так эксцентричен любой политический активист. Другой — более демократический подход к искусству, это диалог и коллаборация как сдвиг и переозначивание уже данных нам вещей. Такие сдвиги в структуре чувства доступны и знакомы многим из нас по собственным практикам. Например, рабочие-мигранты на стройке находят внутри своего трудового графика минутки эмансипаторного перекура, во время которого они переозначивают инструменты — краски, пилы, молотки — и играют на них. Сейчас вспомнил, что в 1920-е гг. какие-то джаз-бэнды за дефицитом музыкальных инструментов пытались играть на подручных рабочих инструментах, тоже переосмысляя назначения предметов. Такое эксцентричное поведение рабочих-мигрантов не является театром, это эмансипаторная демократическая процедура, открытая Валентином Парнахом и его джаз-бэндами начала XX века. Сегодня это обобществилось в новых социальных сетевых медиа, где чрезвычайно много эксцентричных микро-перформансов, например, в том же YouTube.

Д. Г. Роман сделал очень точное наблюдение о том, что во многом потеря интереса к эксцентрике, о которой и я говорил, мотивирована тем, что, с одной стороны, исчезает представление о том, что такое трансгрессия, субверсия или девиация, эти инструменты авангардного жизнестроительства. Мы уже не знаем, что такое норма, и не в состоянии ее эксцентрично расшатать и совершить трансгрессию. Собственно говоря, возможно, что сегодня как раз эта невозможность трансгрессии и есть максимально эксцентрический момент повседневности. Что такое эксцентрика сегодня с точки зрения документального театра, постприговских стратегий и постакционистских стратегий в документализме?
А.П. Я полагаю, возможность новой эксцентрики лежит в поиске и в разговоре на запретные темы, которых становится все больше и больше. Вот вчера вышел материал BBC о цензуре и самоцензуре не только на российском телевидении, но и на платформах, которые, казалось бы, существуют только в рыночных условиях и механизмах, но тем не менее оказывается, что и они сами себя цензурируют, даже опережая реакцию властей на какие-то темы. Эти темы в основном связаны с политикой, религией, войнами, с какими-то сюжетами, относящимися к реальным или придуманным событиям с участием государственных институций и т. д. В начале нулевых годов появилось движение документального театра в новом изводе, и это было связано с «новой драмой» и деятельностью Михаила Угарова и Елены Греминой. Благодаря технологии вербатим на сцене российского театра возникла обсценная лексика, и поначалу это воспринималось как очень эксцентричный жест со стороны укорененных к тому времени и уже одобренных драматургов Угарова и Греминой. Но буквально через несколько лет спектакль по пьесе Павла Пряжко получил «Золотую маску», практически вся пьеса строилась на обсценной лексике. За прошедшие двадцать лет документальный театр стал мейнстримом, когда можно получать государственное финансирование на документальные спектакли, когда есть замечательные фестивали, вроде «Brusfest», и когда все что угодно называется документальным театром, и каким-то эксцентричным жестом на этом поле является работа с запретными темами.
Д. Г. Эксцентрика — это всегда артикуляция протестных настроений, протестных импульсов, тезисов и т. д. Но сегодня оказывается, что максимально эксцентричным является тот представитель креативных индустрий, тот артистический феномен, который как раз пытается быть предельно сглаженным, в котором этот протестный потенциал и эмансипаторный импульс максимально свернут, сглажен. Насколько сегодня для вас, для вашей практики эксцентрика все-таки ассоциируется с неким революционным драйвом, с протестным импульсом, с каким-то потенциалом сопротивления и т. д.? Или все-таки эксцентрика сегодня выглядит как адаптационный механизм, как технология приспособления к господствующим ныне властным идеологическим императивам, к критериям медиа-успеха?
А. П. Новая эксцентричность лежит в области конформизма и адаптации к новым условиям, а не в сфере выхода за пределы паттернов, которые мы можем достать из нашей родовой памяти и успешно применить. Я также читаю Ольгу Тараканову, Ивана Демидкина, Виктора Вилисова, и мне кажется, что для нового поколения, которое не встроено в этот институализированный театр, вообще такого вопроса не стоит. Ольга Тараканова легко может отказаться от работы в государственном театре. Буквально на днях она вышла из проекта, потому что вскрылось, что руководитель этого художественного театра 10 лет назад домогался до одной из своих студенток, и студентка придала этот случай гласности. Кстати, если вспоминать про ранимость, для Ольги важнее собственный комфорт, чем перспектива встроиться в институции. Иван Демидкин вместе с товарищами делают абсолютно горизонтальный проект «Перфотачка» в Петербурге, и они будут повторять его в Москве. В этом проекте вообще не предусмотрены никакие товарно-денежные отношения. Они сами организовались и делают этот проект. И это какой-то новый способ быть независимым от властного дискурса, в контексте которого можно было бы говорить либо об ироническом отношении, либо о каком-то эксцентрическом жесте по отношению к нему, в общем, о выходе из центра.
Д.Г. И этот проект эксцентричен? Или он анти-эксцентричен? Он как-то ассоциируется с эксцентрикой, или он все-таки предельно серьезен и чурается эксцентрики?
А. П. Он серьезен, кстати говоря. Он и предельно серьезен, и в чем-то он очень самоироничен. Ему нет дела до власти, пока она не пришла к нему сама.
Д. Г. Насколько сегодня такая позиция, которую возможно определить как эксцентрическую позицию неучастия или выхода из зоны комфорта, является эскапистской? Или это позиция — попытка выработать новые зоны автономии и территории свободы там, где кармашки независимости уже принципиально невозможны? Потому что сегодня медиа-власть тотальна, медиа-рынок тотален. В ситуации медиа-среды трудно представить какие-то территории, которые бы не контролировались властными инструментами, властным оком.
А. П. Мне кажется, у этого нового поколения это скорее желание всячески дистанцироваться от старых оппозиций и установить какие-то собственные правила, жить по своим заповедям. Это может быть «новая этика» или новая «новая этика». Просто пока что, безусловно, им комфортно в этой медиа-среде, в том числе, в сетевых платформах «Telegram» или «Instagram». Это не значит, что они совсем отказываются от возможности работать в институциях, контролируемых государством, или просто с государственным участием. Но они соглашаются там работать только на очень комфортных для них условиях. Например, я работала с композиторкой Дарьей Звездиной на одном проекте. Она всячески дистанцируется от различных конкурсов, премий и т. д., но тем не менее предложения «Электротеатра» и Дмитрия Курляндского участвовать в каком-то новом проекте для молодых композиторов она принимает. Потому что это для нее какая-то возможность комфортной работы. Так что это какая-то разборчивость. Я бы не сказала, что есть ощущение, что если ты не встроен в работу больших институций, то тебя как бы и не существует. Я вообще тоже не вписана в эти отношения, в основном я делаю независимые проекты за очень маленькие деньги и сама их продюсирую. Люди, у которых нет работы в государственных театрах, либо воспринимаю себя исключенными из театрального контекста, либо чувствуют, что они смогут заработать достаточно денег для того, чтобы прокормить семью. Потому в секторе независимого российского театра просто очень мало денег.

Д. Г. Меня несколько заинтриговал термин «комфорт». Ведь эксцентрик как раз отказывается от комфорта, от собственного комфорта и комфорта других. Он ставит самого себя и других в позицию максимального дискомфорта. И я хотел бы передать слово Роману и попросить его порассуждать о проблематике протестного потенциала современной эксцентрики.
Р.О. Я изначально подразумевал, конечно же, под эксцентрикой некий набор приемов, утвердившихся с начала XX века в искусстве. Проблематика выхода из центра, размножение нормативностей, властных дискурсов и то, что называют пресловутой политикой постправды, сегодня вынуждают нас оправдывать то, что истина существует, что не всё релятивно. Потому что если всё релятивно, то ни о каком эксцентрическом диспозитиве нельзя говорить, тогда нечего покидать и некуда вторгаться. Но, конечно же, это не так. Если мы говорим про политику тела, то она сегодня напрямую связана с и лучше всего осмыслена — воспринявшим перформативный поворот и современное искусство театром. Я уже упоминал Эрику Фишер-Лихтер. Она в «Эстетике перформативности» неразрывно соединяет театр и политику как эстетическое и политическое. Соответственно, формирование театрального события может происходить в городе, на улице, где, собственно, современный театр и работает. Он не различает сцену жизни со сценой театральной. Дело не в том, чтобы выносить митинг из театральной коробки на улицу или улицу втаскивать внутрь театра, за что «горячие головы» ЛЕФа критиковали постреволюционный театр и даже В. Мейерхольда, когда пулеметы и трактора на сцене снова обрели эстетическое измерение зрелищности, а не участия в политике. Дело скорее в том перераспределении чувственного, которое ставит во главу угла в своей эстетической теории Ж. Рансьер, как того, что неразрывно связывает театр и политическое собрание — это общая сцена, где наши тела и чувства вступают в несогласие с нормативной социальной хореографией, закрепленной за данным пространством. Например баррикада у Рансьера — это пример такого политического театра, когда тела рабочих смешиваются вместе и сваливают все свои вещи в большую руину (старого мира?). Тела начинают одновременно исполнять себя как актеры, играющие роль протестующих и как акторы, покинувшие предписываемые им места для обретения публичной зримости и голоса. В современном театре мы можем различать сайт-специфические проекты, встроенные в неолиберальную политику джентрификации мест и проекты, выражающие диссенсус в отношении политики, предписывающей свое предназначение тому или иному месту. Подчас это приводит к каким-то открытым конфликтам, как на спектаклях Всеволода Лисовского, или к появлению открытой драматургии, «перформативной», как это называется у свидетельских театров. Например, в некоторых (далеко не во всех) перформансах «Rimini Protokoll». . В общем, это измерение, не только перформативное, но и политическое современным театром переоткрывается. Это говорит о том, что эксцентрика переосмысляется как художественный прием, как некая игра, как возвращение к своим фольклорным демократическим основаниям, в театр телесного низа, к варьете вместо оперы, хотя опера тоже может быть эксцентричной. Все это приводит к тому, что необходимость эксцентрики ставится под вопрос.
В этом плане, мне хотелось бы еще сказать, что эксцентрика очень исторична. Например, во время «Оккупай Абай» в Москве или «Оккупай Уолл-стрит» в Нью-Йорке люди жили месяцами, стирали, убирались вместе, готовили еду, перераспределяли обязанности между мужчиной и женщиной, сламывали какие-то гендерные стереотипы, отменяли деньги. Попутно они собирали ассамблеи, представляющие собой буквально-таки перформативные собрания по Батлер, и решали вместе, что они сегодня будут требовать, куда пойдут, как распорядятся каким-то общим имуществом. Они ничего не делали эксцентричного, они просто жили днем за днем, воспроизводя все бытовые свои надобности. Но при этом власть и все те, кто с ней солидаризировался, например, большие медиа, считали это поведение неприемлемым, ломающим все нормы и дисциплинарные пространства контроля. Но при этом протестные ассамблеи не выдвигали никаких конкретных политических требований, и потому попрекались такими философами, как Бадью или Жижек, за неэффективность. Тем самым, ассамблеи превратились в некий процесс телесного со-проживания, больше театральный, чем политический. Это уже не та эксцентрика, о которой можно вести речь в плане выхода за пределы себя, в плане какого-то эксцентричного поведения. Получается, что здесь уже есть коллективно распределенная агентность тел, присутствующих в пространстве. Но при этом они не замыкаются на себе, на внутренних ощущениях, на прекарности, переживаемой чисто экзистенциально, на депрессии, они и выражают политическую обусловленность всего этого. Поэтому и отказы современного молодого поколения, не встроенного в театральные институции, от успеха, от предзаданных форм институционального одобрения, эксцентричны с точки зрения предыдущего поколения, самих институций или гегемониального дискурса. Может быть, даже поиск зоны комфорта, которая на самом деле недостижима, это и есть новая форма прорыва, трансгрессии, витальности. А создание более горизонтальной диалогической формы, создание структур самоорганизации — это тоже перформативное творчество каких-то собственных миров, то есть новых институций на новых основаниях. Могу перечислить активистские движения, которые работают с фактурой проживания и одновременно связаны с театром. Например, некроактивистское движение — «Партия мертвых» или институт «НИИчегоделать», такие длительные микрособытия, которые растягиваются и, можно сказать, эксцентрически показывают в настоящем зазор утопии.
Д. Г. Мы должны все-таки вспомнить, что начало 2010-х годов — это была, собственно говоря, прекрасная эпоха планетарного подъема протестных мировых движений, сопротивленческих усилий, попыток горизонтальной консолидации и т. д. То есть это эпоха арт-активизма, триумфа левой поэзии, левого театра, левого искусства in general и в российском, и в планетарном контекстах. Но все это завершилось. Это завершилось быстро и, в общем, не очень утешительно. Уже в 2013-2014-м году мы говорили не о подъеме, а о кризисе и фиаско, крахе мировых протестных движений, о начале новой постактивистской эпохи и т. д. Соответственно, активистские кемпинги, разные проекты горизонтальной демократий, «Occupy Wall Street», «Occupy Oakland», и Syntagma square, действительно, тогда не мыслили себя в терминах эксцентрики, хотя эти кемпинги были максимально эксцентричны, может быть, с перформативной точки зрения. Но, начиная с середины 2010-х, наступила совершенно иная эпоха, эпоха постправды или посткапитализма и т. д. Когда практически все эти протестные усилия оказались подвешены, схлопнуты, вычищены и т. д. Собственно говоря, когда мы говорим сегодня об эксцентрике, мы говорим скорее о заявке на эксцентрику, тяге к эксцентрике, о тоске по мировой эксцентрике, перефразируя слова Мандельштама о тоске по мировой культуре. Современный художник испытывает тоску по мировой эксцентрике в силу дефицита эксцентрики в условиях «новой нормативности». В середине 2010-х годов после кризиса протестных движений складывается такая ситуация, когда в принципе какая-то консолидированная, стандартизированная норма практически исчезает. То есть «новая нормативность» складывается на базе того, что в принципе нет каких-то однозначно признанных норм. Поэтому и возникает взыскание нормативности, но нормативности уже не только со стороны власти, но и со стороны самого социума. Проект новой нормативности или политики идентичности, если говорить о западном контексте — это проект, который задается не только медиа-властью, но и медиа-социальностью. Проект «новой человечности», связанный с представлением об уязвимости и т. д., в конечном итоге, это проект самоцензурирования, самоограничения, потому что художник должен каким-то образом цензурировать собственную эксцентричность. А эксцентричность — это в любом случае все-таки шанс кого-то обидеть, укусить, нарушить чьи-то персональные границы. И тем не менее мы отмечаем, что «новая этика», «новая нормативность» как раз чреваты новой эксцентрикой, то есть это такой интересный парадокс. Ограничение эксцентрики чревато новой эксцентрикой. Насколько вообще в контексте перформанса для Романа или в контексте документального театра для Анастасии новая (пост)протестная, (пост)активистская проблематика, то есть проблематика новой этики в российском контексте или проблематика культуры отмены в планетарном контексте, эксцентрична, продуктивна? Или она все-таки репрессивна?
Р. О. Многие говорят, что эта проблематика затрагивает только наш медиа-пузырь, и достаточно перенастроить собственную френдленту, и тут же пропадут проблемы «новой нормативности». Я здесь в промежуточном состоянии нахожусь, потому что вроде не принадлежу к поколению, к которому во многом инвективно относят тех, кто придумали «новую этику». Знаете, когда придумали понятие «квир», оно тоже было неким пейоративом, который квир-сообществам потом удалось сделать самоутверждением идентичности. Для этого потребовался недюжинный эксцентризм. И не знаю, потребуется ли эксцентризм поколению, которому приписывают новую нормативность и новую этику. Но на примере Греты Тунберг можно видеть, что с точки зрения властного гегемониального дискурса ее поведение очень эксцентрично. Кто-то мотивирует это ее нейроотличностью. Насколько эксцентрична инклюзия всех сегодняшних прежде лишенных голоса, публичного представления и тела внутрь пространства политической и эстетической репрезентации? Что может быть еще более эксцентричным, чем, например, дать голос муравьям или бактериям, молекулам? Но мало кто пытается оспорить необходимость этого. Или такое движение, как энактивизм в нейропсихологии. Это дискурс, который захватывает все. Поэтому, если говорить о новой нормативности, то я здесь руководствуюсь, конечно же, тем, что художник или перформер всегда должен быть на стороне слабых. Поэтому говорить о том, что нам это новое поколение даст некую норму, которой мы все будем обязаны следовать, бояться этого я бы не стал. Я как раз за радикализацию. Может быть, не за риторику, не за форму заявлений Греты Тунберг, но за сами представления о том, что нам нужна радикальная экология, нужен радикальный пересмотр нормативности, радикальная забота друг о друге, может быть, даже более радикальная инклюзивность.
«Мы никогда не были модерными» — название книги Бруно Латура как раз ухватывает этот момент, мы еще не дошли до того типа современного, который от нас требуется. И в этом плане, конечно, нужна еще большая эксцентричность новой нормативности. Я согласен, она эксцентрична. Житейский пример: я сортирую мусор, и, может быть, некоторые рядом стоящие граждане считают меня сумасшедшим, поскольку выбрасывают отсортированные пакеты с мусором. Для них это эксцентричное поведение. Хотел бы я такой нормы, чтобы все сортировали мусор? Хотел бы. Но как ее утверждать? Такими эксцентричными поступками, как сортировка собственного мусора? Потому что так поступают пока только экочувствительные жители городов-миллионников или несколько процентов граждан в России. Может быть, в Европе это уже норма. В перформансе становится важным построение длительных процессов и инфраструктур. Согласен с тем, что есть постактивистская апатия и депрессия, но она перешла в понимание необходимости не только длительного физического присутствия, но и построения таких практик, как забота, инклюзивность, инфраструктурность. Конечно, ресурсы низовых сообществ очень ограничены, они не могут на голом энтузиазме противостоять нарастающему милитаризму, агрессивному и депрессивному, отсылая к Марку Фишеру, капиталистическому реализму или корпоративной нейро-лингво-власти Франко «Бифо» Берарди, пришедшей на смену неповоротливым идеологическим машинам ХХ века. Они выдыхаются и утрачивают свой запал. Но они — пусть и на уровне микропрактик — меняют наше политическое воображение. К примеру внедрение концепций посттруда и всеобщего базового дохода — чем не эксцентрическая нормативность? Будет ли она распространена на весь социум в ближайшее время? Вряд ли. Но внутри, например, группы «НИИЧегоделать» она может быть хоть как-то помыслена. Можно начать заражать вот этим посткапиталистическим воображением все более широкий круг и выносить его вовне, делать публичным. Для этого, собственно, и нужен сегодня перформанс, не перформативное исполнительское искусство, а перформанс как постоянное рас- и пере-отождествление нашего тела как носителя — агента и объекта — оформленных движений, жестов, поведения, повседневных практик внутри большого общественного организма.
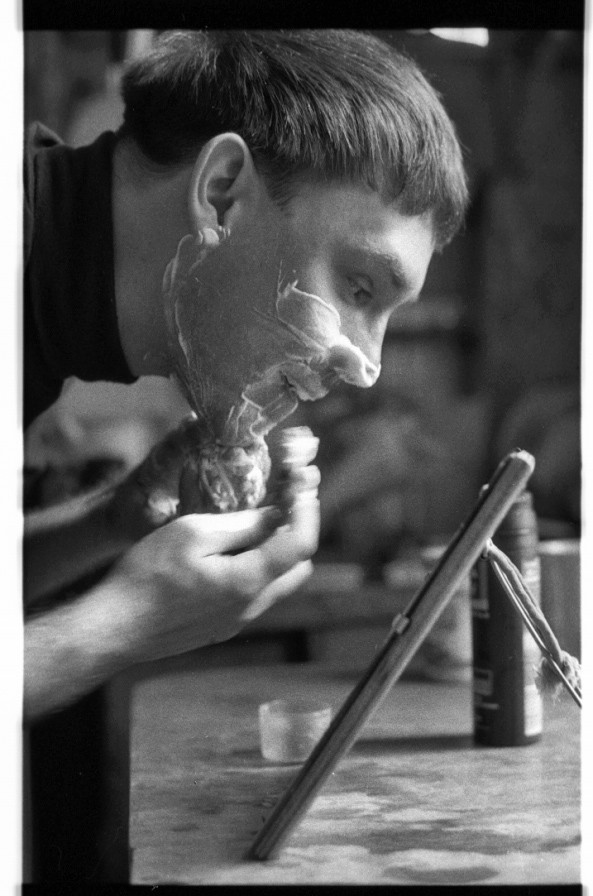
А.П. Я вижу, что пока что в России эта новая нормативность, идеи об экологии, новой человечности находятся в зародышевом состоянии. Поэтому все, что я могу пожелать, — это какой-то внутренней радикализации, выносливости и стойкости этим идеям. Константин Богомолов недавно выступил против «новой этики», потому что она якобы умаляет сложность человека. Но все-таки это, так сказать, устаревшая риторика. У нового поколения он вызвал реакцию снисходительно-пренебрежительную, как ни странно. В общем-то, он подставился. Но я так понимаю, что адресатом его выступления была не молодежь, не поколение зумеров и даже не театральное сообщество, а власть. Потому что ему надо было продемонстрировать лояльность. Короче, я считаю, что пока еще рано говорить об эксцентричности в отношении этой новой нормативности.
Д. Г. По ходу наших бесед об эксцентрике в современном искусстве, музыке, литературе наметились две векторизации, трактовки эксцентрики, эксцентрической позиции в эпоху поздних 2010-х и ранних 2020-х гг. Одна точка зрения предполагает, что эксцентрика сегодня является реактуализацией человеческого, возвращением к человечности, к заботе, и, соответственно, отказу от модернистского подвешивания субъекта и постмодернистского стирания субъективности, метамодернистского игнорирования человека; то есть, эксцентрика это возвращение к человеку. Вторая точка зрения противоположна первой и заключается в том, что под эксцентрикой мы понимаем как раз тотальный отказ от человеческого, от гуманистического в угоду постгуманистических категорий, критериев и регистров. Соответственно, сегодня мы уже не вправе говорить об эксцентрике человеческого поведения, о человекоразмерных антропологических этико-политических представлениях. Другой аспект касается соотнесенности современного художника с медиа-рынком. Если традиционный эксцентрик, андеграундный художник мог помыслить себя вне рынка, то сегодня мы не можем контекстуализировать свои креативные усилия вне рыночных стратегий, вне монетизации, капитализации и т. д. Но оказывается, что сам техно-капиталистический медиа-рынок выступает как нечеловеческий актор, не всегда принимает в расчет человеческое, даже игнорирует человеческое. Соответственно, как современный художник может соперничать и состязаться с эксцентричностью медиа-рынка? Кто такой эксцентрик сегодня — это тот, кто возвращается к человеческому, или тот, кто уходит от человеческого? Как быть художнику в ситуации априори проигранной конкуренции с гиперэксцентричным медиа-рынком? К сожалению, Анастасия вынуждена была покинуть нашу беседу по причине срочных рабочих обязательств, поэтому Роману придется одному отвечать на эти крайне интригующие вопросы.
Р. О. Современный поздний капитализм (в терминологии Фредрика Джеймисона) и является главным эксцентриком. Он вменяет то, что эксцентрично, а что нет. Вчера вы фотографировались на фоне храма, немножко оголив плечо, а сегодня это уже эксцентрично. Если это применять к денежным транзакциям, то у них есть так называемые финансовые центры, но, как мы знаем, эти центры оказываются пустыми, это просто хранилища данных. Но применительно к искусству очень сложно об этом говорить, сложно на него все это проецировать. Художники, конечно же, пытаются с этим работать: возникает media art, science art, цифровой перформанс и т. д. У искусства всегда должен сохраняться некий критический зазор. Грубо говоря, есть две несводимые позиции. Первая — модернистский проект продолжения гуманизма, соответственно, исследования человеческого за его пределами, что Агамбен хорошо обозначил, когда писал про Бодлера. Чтобы предельно изучить человеческое, необходимо выйти за пределы себя, соответственно, дегуманизироваться и самообъективироваться. Поэтому зря упрекали модернистов в том, что они антигуманные, упрекали за то, что они ницшеанство поставили во главу угла. Этим самым они до истины человеческого в человеке и пытались докопаться, да и сейчас этот проект не завершен.
Д. Г. Да, метамодернизм — это все еще незавершенный модерн.
Р. О. Да. И второй проект — постгуманистический. Претензия к нему состоит в том, что, как я уже сказал, с одной стороны, он превращает субъекта в некую распределенную агентность и уравнивает все человеческие привилегии. Но, с другой стороны, он же и кибернетизирует человека, то есть превращает мозг в нечто калькулирующее, получается, что субъект не имеет никакой надстройки внешней, той самой человеческой прибавки или самосознания, картезианского «я мыслю». Это, действительно, позиции непримиримые. Но в условиях современного цифрового капитализма художнику важно работать не с новыми технологиями, поставляемыми самим капитализмом, то есть не с самой наличной данностью, а с ее последствиями — социотехническими, политическими. Важно использовать эту технологию или данность, которая нам вменяется, как некий инструмент или как орудие. Естественно, мы не сможем его вырвать «из лап» капитализма, и при этом все время ускользать, переозначивать, если говорить о делезианской линии или постделезианской модели. Все время сохранять зазор критический, зазор негации, — это сложно, но необходимо. Но для чего? Для производства собственного нового аффирмативного жеста, жеста утверждения возможности нового другого мира, сообщества, инфраструктуры. Для изобретения практик заботы и инклюзии, практик, отличных от, казалось бы, тотальной биополитической машины, например, практик анархического хакерства или пиратское переприсвоение прав на интеллектуальную собственность. Упомянем проект Александры Элбакян, которую сейчас судят за это. Или Аарон Шварц, интернет-активист и писатель, который взломал базу данных американских университетов и предоставил ее содержимое во всеобщее пользование, но его на много миллиардов и лет засудил суд и Шварц покончил с собой. В искусстве подобные режимы борьбы, разумеется, менее громкие, ставят под сомнение тотальность технологий.
Д. Г. Здесь вырисовывается некая перспектива новых эксцентрических режимов борьбы. Но слово «перспектива» мы сегодня всегда ставим в кавычки и пишем по привычке «бесперспективность» в ситуации постмодернизма/метамодернизма, потому что понимаем, любая перспектива и бесперспективность в принципе эксцентрически закавычены, но также они и открыты горизонтам новой эксцентрики. Спасибо за такой эксцентрический разговор о (новой) эксцентрике!

