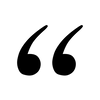Роберт Фулфорд: Торжество историй. Часть 3: Литература улиц и возникновение новостей
После сплетен и грандиозных нарративов, нельзя не упомянуть истории, которые мы привыкли слышать каждый день — новости. Роберт Фулфорд рассказывает, как издатели эксплуатируют наше желание знать о том, что происходит вокруг, и почему новости — это далеко не всегда голые факты.

Однажды мне рассказали забавную историю, которая произошла в западном пригороде Торонто Оквилле. Как-то раз водитель цементовоза сделал незапланированную остановку у своего дома посреди рабочего дня. Каким же было его удивление, когда он обнаружил кабриолет Кадиллак, припаркованный на подъездной дороге. Заглянув в окно, водитель цементовоза увидел свою жену и владельца кабриолета в компрометирующей позе. Месть водителя цементовоза была мгновенной. Он вернулся за руль и залил Кадиллак бетонной смесью из своей цистерны. Далее человек, рассказывавший мне эту историю, детально описал, как сидения, приборная панель, шасси и колеса были раздавлены тоннами бетона. Уничтожив Кадиллак, водитель цементовоза вернулся на работу.
Думаю, я поверил в эту историю; и я определённо получил от неё удовольствие. Но Пьер Бертон, автор ежедневной колонки в «Торонто Стар», заподозрил, что она была слишком хороша, чтобы быть правдой, и решил провести расследование. Человек, рассказавший ему историю, сказал, что знает того, кто знает водителя цементовоза, и Бертон начал делать звонки. Человек утверждал, что главный герой истории был другом его друга, но оказалось, что друг его друга также не знает водителя. След потерялся, и в конце концов человек признался, что не помнит, от кого услышал эту историю. Бертон написал в своей колонке, что история — типичный пример городской легенды.
Городская легенда, самая распространённая из живых фольклорных форм, продолжает существовать в нашем мире как бессознательный вид литературного творчества, спонтанный всплеск народного воображения.
Она напоминает нам, что искушённые городские жители по-прежнему сохраняют связь с древней повествовательной традицией, и демонстрирует, что мы всё ещё нуждаемся в историях, которыми можем обладать и в которые можем вносить собственный вклад. В типичной городской легенде события разворачиваются поблизости в пространстве и времени — как правило, недавно, неподалёку и с
Кто создаёт эти истории? Каждый, кто их рассказывает. Каждый из нас становится сочинителем, создателем мифа, ведь каждый из нас вносит в историю изменения, пусть иногда и непреднамеренно.
Найдётся ли в мире человек, который не внёс хотя бы малейших изменений, пересказывая историю?
Станет ли кто-то утверждать, что никогда для пущей правдоподобности не добавлял от себя лишней детали или догадки о мотивах персонажей, которая при повторном пересказывании превращалась в факт? Но откуда берутся эти истории и как приобретают свою зачастую совершенную структуру? Рискну предположить, что каждая такая история возникает как недопонимание услышанного или прочитанного. Затем за дело берётся невидимая рука, непредсказуемый фактор коллективного вымысла. То, что вначале было просто парой фактов, постепенно разрастается до маленького литературного произведения.
В городской легенде есть нечто гротескное и одновременно трогательное: она непредсказуема как массовый протест и анонимна как доисторический мегалит.
Она позволяет заглянуть во внутреннюю жизнь окружающих людей. Картина, предстающая перед нами, мимолётная и волнующая, как пейзаж, на мгновение освещённый молнией. Богатство и разнообразие городских легенд опровергает утверждения об отсутствии воображения у наших сограждан.
Современным поколениям городская легенда заменила небылицу, которая некогда была основой развлекательных бесед во многих частях Северной Америки. Семьдесят лет назад писательница и фольклористка Зора Ниэл Хёрстон собрала коллекцию небылиц, полтора года слушая истории, которые рассказывали друг другу пожилые мужчины в её родном Итонвилле, штат Флорида. Она писала: «Я с раннего возраста помню, как мужчины собирались на крыльце и обменивались историями». Некоторые из них постепенно становились мастерами вымысла. Иногда они открыто называли свои истории ложью.
Один из коллег Хёрстон по сбору городских легенд — фольклорист из Университета Юты Ян Гарольд Брунванд, коллекционер историй и автор пяти книг. Однажды в начале лета 1961 года, вскоре после получения докторской степени, Брунванд услышал от соседа в Мичигане историю о водителе цементовоза из соседнего Каламазу. Это произошло примерно в то же время, когда я услышал эту историю в Торонто, но американская версия имела одно отличие: ревность водителя была безосновательной так как стоящий на подъездной дороге Кадиллак был подарком от его жены, а гость был не любовником, а всего лишь агентом по продаже автомобилей, который привёз бумаги. В этой, менее распространённой версии, чрезмерно подозрительный муж уничтожает собственную машину.
Брунванд позже узнал, что научная работа, описывающая аналогичный случай, была прочитана на собрании Техасского фольклорного общества за год до того, как он услышал эту историю в Мичигане. Затем, в 1971 году, почти идентичный случай был описан в орегонском фольклорном журнале. После этого отчёты начали поступать из самых разных мест, и к 1962 году исследователи из Орегона собрали сорок-три разных версии со всех уголков континента. Через пару лет после этого я встретил ту же историю в английском журнале «Частный детектив», в колонке «Правдивые истории». За исключением этого эпизода, она по большей части пропала из виду, преданная лимбу избитых мифов вместе с историями о старухе, случайно зажарившей в микроволновой печи своего пуделя, и об аллигаторах, обитающих в канализации Нью-Йорка.
Но в старой легенде всё ещё теплилась жизнь.
Прошло ещё десять лет, и в 1973 году, в норвежском Бергене, газета «Арбайдерблад» опубликовала историю, озаглавленную «Страшная месть любовника». И вот, водитель цементовоза появился вновь. Он проезжал мимо своего (на этот раз квартирного) дома, как вдруг заметил припаркованную там машину друга. Он зашёл в квартиру и застал свою жену с другом в ванной. Он вышел на улицу, сложил крышу кабриолета и залил его двумя кубометрами бетона.
Данная история, как правило, содержит точное количество использованного бетона — иногда в кубических метрах, а иногда в тоннах — так как точные детали придают правдоподобности даже самой невообразимой истории.
Когда эта история попала в руки телеграфным агентствам, добавились новые подробности (например, друг водил Фольксваген 1966-го года выпуска). История разнеслась далеко за пределы страны и появилась даже в газетах Найроби. Тем временем, в Бергене конкурирующее издание доказало, что история была вымышленной. Напечатавшая её газета вынуждена была признать, что стала жертвой «международного журналистского розыгрыша». Но даже после того, как факт вымысла был доказан, история продолжила жить в Бергене.
Той же весной кто-то залил бетоном настоящий Фольксваген и протянул его по улицам города в качестве платформы во время парада на день независимости, тем самым превратив легенду в быль.
Примечательно, у что всех версий есть одна общая деталь: никто не замечает, как водитель цементовоза выливает бетон, а любовник узнает об уничтожении своей машины только позже. Одной этой детали кажется достаточно, чтобы возникли серьёзные сомнения в правдивости истории. Разгрузка цементовоза сопровождается таким шумом, что сделать это незаметно в жилом районе просто невозможно.
Почему тогда столько людей поверили в эту историю? Что в ней так убеждает? Возможно, это наказание за измену. Возможно, тот факт, что простой рабочий мстит владельцу Кадиллака. Возможно, находчивость водителя. Как бы там ни было, этот случай свидетельствует, что мы не склонны подвергать городские легенды тщательному анализу. Как говорит Ян Гарольд Брунванд: «Отсутствие доказательств ни в коей мере не умаляет привлекательность [истории]…» Удовольствие, которое мы получаем от истории, перевешивает скептицизм.
Рассказывание и слушание составляют коллективное удовольствие, которое никто не желает испортить рассуждениями о доказательствах и правдоподобности. Рассказывание легенды даёт рассказчику чувство контроля, а слушателю — краткосрочное чувство приобщения к необычным событиям.
Новые городские легенды продолжают возникать и в наши дни. Вот одна недавняя легенда о краже органов: приезжий бизнесмен напился в компании проститутки и отключился, а когда проснулся, то обнаружил, что ему вырезали почку. В Южной Африке приобрела популярность легенда о цепочке странных смертей среди пациентов, подключённых к системе жизнеобеспечения. Все смерти происходили в одно и то же время. В итоге, след привел к уборщице, которая приходила в отделение интенсивной терапии и отключала систему жизнеобеспечения, чтобы подключить пылесос. Эта история кочевала из одного города Южной Африки в другой, а её источником всегда называлась конкретная газета, которая, как в итоге оказывалось, никогда не публиковала такую историю. Это был один из тех случаев, когда метафора начинает жить собственной жизнью: фраза «перекрыть кислород», означающая прекращение искусственным способом поддерживаемой жизни, превратилась в целую историю.
Полвека назад кто-то рассказал мне об изобретении лампочки, которая может гореть вечно. Производители не хотели выпускать её на рынок потому что это уничтожило бы их бизнес. И всё же несколько прототипов случайно попали в руки счастливчиков, которые теперь пользовались ими, несмотря на все попытки производителя получить их обратно. Брунванд не раз слышал схожую историю, в которой речь шла о машине, способной проехать тысячу миль на одном галлоне бензина. Опять же, прототип ускользнул за пределы завода, и производитель — опасаясь банкротства топливной промышленности — отчаянно пытался его вернуть.
Все эти истории сейчас свободно гуляют по интернету, но интернет нельзя обвинить в их возникновении: задолго до того, как любой из нас подключился ко всемирной паутине, городские легенды гуляли по континенту как ветер.
Сегодняшние интернет-пользователи опровергают мифы так же часто, как распространяют их.
Большинство городских легенд безобидны, но некоторые отравляют человеческий ум. Легенда о краже почек, например, распространилась по странам Третьего мира и породила существенные препятствия международному усыновлению, в то время как другие истории, наоборот, ему поспособствовали (в особенности сериал «Закон и порядок» и бразильский фильм «Центральный вокзал»). Если большое число людей в определённой стране верит, что иностранцы усыновляют детей, чтобы красть их органы, правительство реагирует сворачиванием программы международного усыновления, что вредит как детям, так и потенциальным приёмным родителям.
Городская легенда — нечто вроде спонтанной журналистики, способ облечь в форму истории определённые наблюдения и тревоги. Эта неконтролируемая и хаотичная литература улиц как в кривом зеркале отражает новости, которые мы узнаём из газет, радио и телевидения.
Городская легенда высмеивает наше желание объяснить мир в форме историй.
Крупные международные организации существуют, чтобы удовлетворять это желание при помощи газет, журналов, круглосуточных новостных каналов и
Изобретение новостей и превращение новостного материала в товар было одним из ключевых моментов в истории человеческого воображения, предоставив людям новый способ упорядочивания фактов, историй и идей — каркас для классификации и усваивания событий.
Журналистика началась с памфлетов, ежемесячников и еженедельников, часто содержащих слухи и сплетни — иногда вредные, но чаще информативные.
В рядовой кофейне можно было заплатить один пенс за чашку кофе и прочитать все издания, купленные владельцем заведения. Поэтому первые лондонские газеты имели огромное количество читателей: каждый экземпляр читало около двадцати человек.
Эти ранние издания со временем уступили место ежедневным газетам, ставшим, возможно, самым значительным новшеством в мире новостей. Ежедневная газета олицетворяла важный поворотный момент, фундаментальную перемену в общественном сознании. Гегель, который застал ранний этап этого процесса, говорил, что утренний ритуал чтения газеты стал светским аналогом молитвы. По мере того, как число читателей газет росло, число читателей Библии падало. На смену историям пророков пришли истории о чудесных событиях и людях вокруг нас. Как и религия, газеты произвели огромные перемены в людях. Возникли новые разновидности любознательности и новые формы знаний, а позже и новые сообщества, основанные на общем понимании политики, торговли, спорта и других более специализированных сфер.
Ежедневные газеты распространились не так быстро, как видеокассеты или интернет. Потребовалось более ста лет, чтобы ежедневная газета стала популярной, и ещё больше, чтобы она приобрела современную форму. В 1702 году, через несколько лет после официальной отмены цензуры печати в Англии, Сэмюэл Бакли основал в Лондоне «Дейли курант» с намерением заработать на идущем из Франции потоке информации о Войне за испанское наследство. Но другие не спешили следовать его примеру.
В 1750 году в Лондоне было всего пять ежедневных газет, по четыре страницы каждая, с тиражом около полутора тысяч экземпляров (это означает, что у каждой было примерно тридцать тысяч читателей).
Франция получила свою первую ежедневную газету в 1777 году, Соединённые Штаты — в 1784, Канада — пятьюдесятью годами позже. Все они были маленькими. Сегодняшняя толстая, наполненная историями и рекламой газета стала возможной лишь с ростом грамотности населения и изобретением линотипа в конце XIX века.
Эти ранние газеты сформировали представление о том, что поток информации должен быть непрерывным. В отличие от официальных заявлений или слухов, которые появлялись время от времени, информация из газет поступала с той же регулярностью, с какой восходило солнце.
Каждый день журналисты излагали часть истории на бумаге и продавали её публике. Так они создали новую зависимость — привычку читать газеты.
Мы часто жалуемся, что журналистика превратилась в разновидность развлечения, но ранние газеты были ничуть не более серьёзными, чем современные. Листая недавно «Дейли курант» за 5 февраля 1731 года, я обнаружил в рубрике международных новостей рассказ о скандале среди римских кардиналов и политических интригах вокруг императора Австрии. На первой странице было сатирическое стихотворение, описывающее содержание газет в 1731 году следующим образом: «Взяточничество! Мошенничество! Вторжение, обман и
Маршалл Маклюэн говорил: «На самом деле люди не читают газет. Они погружаются в них каждое утро как в горячую ванну». Погрузившись в этот новый мир новостей, люди к концу XIX века почувствовали потребность каждое утро получать то, без чего цивилизация просуществовала тысячи лет — информацию о произошедшем за предыдущие двадцать-четыре часа в городе, стране, а затем и всём мире.
Журналистика создала спрос на свежие истории о текущих событиях.
Это было началом современного масс-медийного нарратива, традиции создания правдивых и вымышленных историй для больших групп никак не связанных друг с другом людей. Для того, чтобы читать «Дейли курант», необязательно было знать редактора или приходить в его типографию; необязательно было даже быть в Лондоне. За скромную плату можно было стать частью сообщества читателей, сохраняя при этом свою анонимность.
На протяжении нескольких десятилетий после основания «Дейли курант» издатели газет зарабатывали на жизнь собственным умом: им нечего было продавать, кроме фактов, мыслей, мнений и способности ясно их изложить. Но как только коммерческие возможности новостей стали очевидными, ранние редакторы-владельцы газет уступили место медиамагнатам, чьей сильной стороной был организаторский талант.
За пару поколений медиамагнаты построили вокруг своих газет огромные империи взаимосвязанных компаний, которые владели не только газетами, но и печатными прессами, на которых печатались газеты; целлюлозными заводами, которые производили бумагу; лесами, которые обеспечивали балансовую древесину; а иногда и производством чернил.
Индустриализация имела свою цену: соображения эффективности и уменьшения затрат вскоре подтолкнули газетные концерны и телеграфные агентства к стандартизации. Статьи стали создаваться по устойчивым, предсказуемым шаблонам, и журналисты постепенно разучились рассказывать захватывающие истории.
Газетный стиль стал сжатым и официальным; говорили даже, что истории, которые газеты обошли своим вниманием, были намного интереснее напечатанных. Такой стиль ежедневных газет сохранился до середины XX века. В 1961 году Уильям Вайнтрауб высмеял его в своем романе «Зачем раскачивать лодку?». Придуманная Вайнтраубом газета «Свидетель» гордится тем, что публикует предельно скучные истории и никогда не опускается до того, чтобы быть интересной. Как объясняет Вайнтрауб, своим очарованием корреспонденты обязаны тем, что скрывают от публики свои лучшие истории. Это делает их «увлекательными рассказчиками, с которыми каждый жаждет побеседовать».
В высмеянной Вайнтраубом системе корреспондент, способный рассказать историю убедительно и просто, был редкостью. Но со временем некоторые журналисты научились сочетать журналистику с творчеством.
В XIX веке Марк Твен, Стивен Крейн и многие другие менее известные авторы работали одновременно корреспондентами и писателями.
А в 1920-х годах Бен Хехт поочередно занимался то писательством, то журналистикой в Чикаго, а затем отправился в Голливуд, где стал работать над созданием гангстерских фильмов.
Эталоном той эпохи был Эрнест Хемингуэй, в молодости работавший в «Канзас-Сити Стар» и «Торонто Стар». Много лет спустя он говорил, что в «Канзас-Сити Стар» ему пришлось научиться писать простыми предложениями. Руководство по стилю этой газеты гласило:
«Используйте короткие предложения. Используйте короткие вводные абзацы. Используйте живой английский язык. Будьте положительными».
Эта формула оптимистичной среднезападноамериканской журналистики была предназначена для быстрого донесения простой информации, но Хемингуэй приспособил этот стиль для собственных целей. Он создал свою неповторимую поэзию из обычных слов, наполнив свои простые предложения иронией, гневом и одиночеством. Хемингуэй проработал в «Торонто Стар» в общей сложности четыре года, в течение которых освещал последствия Второй греко-турецкой войны. Один из его отчётов об эвакуации беженцев был озаглавлен следующим образом: «Ужасающая, безмолвная процессия держит путь из Фракии». Статья начиналась так: «Бесконечная, зигзагообразная колонна христиан из Восточной Фракии движется в сторону Македонии».
Хемингуэй написал для «Торонто Стар» четырнадцать статей о
В 1923 году Генри Люс вместе со своим партнёром Брайтоном Хэдденом основал журнал «Тайм». Люс прославился благодаря многим вещам: беззастенчивому сочетанию мнений с политическими новостями, изобретению иллюстрированного журнала и коверканию английского языка в поисках живого, оригинального стиля.
Состояние Люсу обеспечило открытие, что люди лучше понимают события, когда те преподносятся в хронологическом порядке и в форме истории.
По замыслу Люса и Хэддена формат журнала «Тайм» должен был позволить людям следить за текущими событиями без необходимости читать скучные колонки толстых газет. Поначалу в распоряжении Люса и Хэддена были весьма скудные ресурсы: стопки газетных вырезок, несколько справочников и собственное воображение. Но у них было главное: понимание того, что любой нарратив должен иметь посыл, а нейтральный подход к рассказыванию историй, практикуемый большинством газет, ограничивает возможности рассказчика.
Хэдден часто приводил в пример «Илиаду» Гомера за её живой язык, сильную историю и посыл, которые делают книгу увлекательной. Люс, испытавший влияние своего партнёра, научился выстраивать факты как опытный командир строит солдат.
Люс и его коллеги инстинктивно поняли главную истину журналистики, которая позже стала излагаться со всех университетских кафедр: журналистский текст подчиняется требованиям реальности в той же мере, что и правилам своего создателя.
Политическое влияние журнала «Тайм» в последние десятилетия ослабло, а его истории стали напоминать материалы других журналов, отчасти из–за того, что те начали копировать стиль «Тайма». Но на пике популярности журнала его истории не были похожи ни на какие другие. Они сообщали новости, но не отрывисто и нарочито как газеты; мастерски сконструированные авторами «Тайма», истории затягивали читателя подробным описанием обстановки, а затем тщательно построенным повествованием с эмоциональной концовкой. Повествовательный стиль журнала «Тайм» достиг расцвета перед самым обострением военных действий во Вьетнаме, когда уверенность редакторов журнала отражала политическую и экономическую уверенность Америки, когда манера поведения его корреспондентов отражала манеру поведения американских политиков, и когда сам Генри Люс всё ещё был жив.
Вышедшая в 1964 году статья об обмене шпионами между Советским Союзом и США начиналась следующим образом: «Одним туманным берлинским утром, жёлтый Мерседес выехал из советского сектора и остановился у заставы пограничного перехода Херштрассе». «Тайм» знал о шпионаже не больше, чем газеты, но его стиль заставлял факты плясать. Материал о конфликте на Кипре начинался так: «Цветы расцветали на развалинах башен замка Святого Иллариона, а ястребы беззвучно кружили над Киренией». Это предложение попросту означало, что на Кипре всё было без перемен. А весной 1964 года «Тайм» выпустил материал о Генри Кэботе Лодже, американском после в Сайгоне, который начинался в классической для журнала манере:
«В Сайгоне начинается сезон дождей. Звонок будильника пронизывает утренний сумрак в спальне на втором этаже дома номер 38 по улице Фунг Кхак Хоан. Бостонский брамин встает с кровати, завтракает манго и папайей, засовывает 38-калиберный Смит-и-Вессон в наплечную кобуру и отправляется на работу».
Сегодня это звучит скорее как начало романа Тома Клэнси, чем журналистская статья.
Одновременно с тем, как журналисты подражали писателям, стремящиеся попасть в списки бестселлеров писатели начали подражать журналистам.
В этот период романы Артура Хейли стали одними из самых успешных историй в мире. Каждый из них был построен на основе тщательного исследования конкретной темы: здравоохранения, банков, автомобильного бизнеса и так далее. Прочитав роман «Отель», можно было узнать об отелях, прочитав роман «Аэропорт» — об аэропортах, но пару месяцев спустя трудно было что-либо вспомнить ни об историях, ни о персонажах.
Успех журнала «Тайм» был следствием понимания, что журналистика — это не просто пересказ событий, а симулякр. Как и художники, журналисты бывают хорошими и плохими. Они навязывают реальности условности литературного искусcтва и преобразуют разрозненные факты в последовательный текст.
Журналисты часто заявляют, что они всего лишь посредники, но это утверждение не выдерживает критики. Когда журналистская история написана хорошо, она кажется естественной и логичной. Однако факты в ней выбраны журналистом, а значит неизбежно отражают журналистские интересы и традиции.
Все новостные СМИ уделяют неоправданно много внимания политике, в то время как другие важные темы, в первую очередь наука, по большей части игнорируются.
Причина в том, что современная журналистика берёт начало от партийной прессы XIX — начала XX века. Несколько поколений назад газеты создавались, чтобы быть рупором определённой политической партии. Так возникло убеждение, что политика — это естественная тема для журналистики; убеждение, которое бытует до сих пор. Каждое новое поколение журналистов начинает с того, что пишет о политике, резонно видя в этом путь к успеху. Когда они становятся редакторами, то знают о политике больше, чем о любом другом предмете.
Бывший корреспондент журнала «Тайм» Теодор Гарольд Уайт изложил одну из основ современной политической журналистики в своей книге об избирательной кампании Джона Кеннеди, «1960: Создавая президента». Наблюдая за этой кампанией из–за кулис, Уайт написал историю, олицетворявшую его понимание американской жизни в 1960 году. Книга стала бестселлером и руководством для начинающих политиков, породив с тех пор сотни подобных книг.
Основанная Уайтом традиция длинных историй о политических кампаниях настолько прочно укоренилась в США, Канаде и Британии, что многие писатели наверняка прямо сейчас подражают Уайту, даже никогда его не читав.
Тем временем, создатели теленовостей и документальных фильмов взялись за разработку визуальных аналогов повествовательной журналистики. Телевидению удалось обойти газеты отчасти благодаря тому, что оно не было обременено устаревшими традициями газетной журналистики. Поначалу телевидение проигрывало газетам из–за громоздкости и дороговизны оборудования, но по мере того, как камеры стали более портативными, а редактирование пленки стало проще, телекорреспонденты научились оформлять свои отчёты в аккуратные истории — настолько же далёкие от реальности, как и газетные.
История о покойном основателе Си-би-эс Уильяме Пейли иллюстрирует неестественность, господствующую в журналистике. Однажды в 1962 году Пейли похвалил корреспондента Си-би-эс Дэниэла Шорра за интервью, которое тот записал со скандальным политиком из Восточной Германии. Пейли сказал: «Меня больше всего впечатлило, с каким спокойствием ты сидел и смотрел на него, когда он разговаривал с тобой таким тоном». Шорр был обескуражен подобным невежеством со стороны своего начальника. Как и в случае с большинством интервью, он в тот день работал с одной камерой. Камера снимала политика в то время как Шорр задавал ему вопросы; затем, когда интервью закончилось, камеру развернули, чтобы снять то, как Шорр задаёт вопросы и слушает. К тому моменту политик, конечно же, уже перестал говорить, а возможно даже покинул здание.
Шорр не знал, как реагировать на этот комплимент, который на самом деле вовсе не был комплиментом. Он на всякий случай спросил: «Мистер Пейли, вы ведь понимаете, что эти кадры были сняты позже, не так ли?» Но самый влиятельный человек в американском телевещании и глава компании с самым успешным отделом новостей не знал этого простого факта о работе своих подчинённых.
«Разве это честно?» — спросил Пейли. На что Шорр ответил: «Странный вопрос. Мне неудобно в этом признаваться, но вообще-то нет».
Пейли решил, что этой практике необходимо положить конец и распорядился запретить на
Те, кто оформляет новости в истории, и те, кто читает, смотрит или слушает новости, реализуют важную человеческую потребность.
Марк Тернер из Мэрилендского университета выдвинул теорию о том, что истории учат нас мыслить.
В своей книге «Литературное сознание» он утверждает, что рассказывание историй — это не развлечение, а необходимое условие умственного развития. Истории — это строительные камни человеческой мысли, при помощи которых организован ум. Тернер, занимающийся у себя в университете нейробиологией и когнитивистикой, считает, что ум имеет литературную структуру. Опираясь на открытия Джералда Эдельмана, он показывает, как человеческий ум совмещает кусочки мыслей и ощущений, чтобы обнаружить смысл. Сила, которая активирует нейроны и делает такое совмещение возможным — это истории. Сравнивая одну известную нам историю с другой, мы собираем элементы, заставляющие наш мозг работать. Чем не объяснение нашей потребности рассказывать и слушать истории?
Джордж Оруэлл, возможно самый уважаемый журналист столетия, подарил нам историю о том, как нарратив ворвался в его жизнь вопреки его воле. С десяти до
Будучи ребенком, он воображал себя Робином Гудом и другими героями, но постепенно его внутренняя история стала менее героической и превратилась в правдивое отражение того, что он на самом деле делал и видел. Вот один пример:
«Он широко распахнул дверь и вошёл в комнату. Желтый луч солнечного света, пробиваясь сквозь муслиновые занавески, скользил по столу, где рядом с чернильницей лежала полуоткрытая коробка спичек. Засунув правую руку в карман, он пересёк комнату и подошёл к окну. Внизу на улице полосатая кошка гонялась за опавшим листом…»
Откровенный рассказ Оруэлла служит редким свидетельством этого необычного аспекта внутренней жизни писателя.
Оруэлл прославился как предшественник литературной журналистики и писатель, говоривший правду даже когда это могло стоить ему друзей, контрактов и части читателей.
Он написал несколько произведений в жанре литературного репортажа, но самое важное с точки зрения понимания развития нарратива — «Дорога на
В 1936 году, когда в Британии разразилась Великая депрессия, Оруэлл отправился в угледобывающий город Уиган, что возле Манчестера.
Там он занимался обычной исследовательской работой — беседовал с кем только мог, снимал комнаты вместе с бедными семьями, принимал участие в политических дискуссиях, изучал в библиотеке отчёты о ситуации с жильём и здравоохранением, собирал вырезки из печатных изданий. Он трижды спускался в угольные шахты, почерпнув из этого опыта захватывающий и будоражащий материал. Он сравнивал тесное пространство под землёй с камерой пыток для рабочих, рассказывал о безработных, копающихся в огромных кучах мусора в поисках остатков угля, чтобы отопить свои дома — унизительное занятие для шахтёров, чей тяжелый труд сделал возможным существование европейского общества.
Вот как Оруэлл описывал представший перед ним вид, когда он покидал Уиган:
«Поезд уносил меня вдаль, сквозь чудовищный ландшафт с терриконами шлака, дымящими трубами, грудами чугунного лома, грязными каналами, перекрестьями чёрных как сажа троп, затоптанных угольной пылью с подошв шахтёрских башмаков. Несмотря на март стоял жуткий холод, и всюду тёмными от копоти валами лежал снег».
Журналистам часто говорят не писать о себе, и не зря, ведь читателям интересны не сами журналисты, а темы, на которые тем поручено писать. В девяти из десяти случаев это правильный совет. Но есть журналисты, успешно нарушающие это правило. В случае Оруэлла история его собственной жизни — продолжение той личной повести, которую он носил в себе на протяжении пятнадцати лет — стала частью его книг и статей.
Оруэлл часто рассказывал читателям о своих политических взглядах, особенно о своей ненависти к Советскому Союзу и его пособникам. А в «Дороге на Уиган-пирс » он дал волю своим предубеждениям против нудистов и пацифистов, вегетарианцев и гомосексуалистов, и даже людей, носящих сандалии.
Вместо того, чтобы раздражать, эти комментарии убедили читателей, что они имеют дело с живым человеком, а не обычной журналистской машиной; ведь несмотря на свою спорность, его мнения сделали книгу ещё более интересной.
«Дорога на
Как отмечает в своей биографии Оруэлла Бернард Крик, дневники того периода свидетельствуют, что Оруэлл увидел эту женщину не из поезда, а прогуливаясь по городу, но перенёс её описание в сцену с поездом из соображений поэтической убедительности. Более того, далее он вставил описание совокупляющихся ворон — сцены, которая также имела место не возле поезда, а в другой день и в другом городе. Оруэлл поменял местами события, чтобы они лучше вписывались в повествование.
Что-то похожее в том же 1936 году предпринял в Америке и Джеймс Эйджи. Эйджи и фотограф Уокер Эванс месяц прожили вместе с бедными семьями фермеров на юге страны, работая над серией статей для журнала «Форчун».
Эйджи понимал, что обычный журнальный стиль не способен передать беспросветный мрак повседневной жизни издольщиков.
Стиль, который он в результате выбрал для своей книги, был в равной степени вдохновлен художественной литературой, Библией короля Якова и современной журналистикой. Журнал «Форчун» не стал публиковать результат работы Эйджи, а когда материал вышел в формате книги под названием «Давайте воздадим почести знаменитым мужам», его ждал провал. Но после повторного издания двадцать лет спустя книга стала классикой, и остается ей по сей день.
Эйджи провел на Юге два месяца. Первый — живя вместе с семьей Гаджеров, вялых, измученных издольщиков, чью жизнь он описал в мельчайших деталях. Как и Оруэлл, Эйджи страдал от бремени собственного Я и осознания, что он не может писать о Гаджерах без чувства превосходства. Поначалу он со злостью осуждал себя и своих коллег:
«Мне кажется странным, если не сказать неприличным и попросту мерзким, что группе людей, волей случая сотрудничающих с печатным изданием, может прийти в голову совать свой нос в личную жизнь беспомощных и страдающих людей из безграмотной деревенской семьи с целью выставить на всеобщее обозрение наготу, обездоленность и униженность этих людей перед другими во имя «честной журналистики» (что бы это ни значило), гуманизма и правды, ради денег и репутации борцов за справедливость…»
Разумеется, Эйджи не мог построить повествование на основе скудной, монотонной жизни Гаджеров. Поэтому он превратил в историю своё знакомство с издольщиками и свои чувства по поводу этого знакомства. Он потратил две страницы на описание настила в доме Гаджеров, четыре страницы на их комбинезоны — и описал эти детали с такой точностью и поэтической силой, что о них было интересно читать. Как и книга Оруэлла о Уигане, книга Эйджи о Юге — это отчасти автобиография, хроника утончённого городского ума, силящегося найти ответ на отчаянное положение Гаджеров.
В 1935 году молодой английский поэт Уистен Хью Оден написал: «Существует два вида искусства: искусство-эскапизм и искусство-притча . Последнее побуждает человека отказаться от ненависти и научиться любви». И Оруэлл, и Эйджи стремились создавать этот второй вид искусства.
Печатная журналистика обречена заново изобретать велосипед, то есть раз за разом открывать, что её сила кроется в осмыслении мира посредством рассказывания историй. Оруэлл и Эйджи, каждый по-своему, знали об этом ещё в 30-е годы; однако в 60-х и 70-х годах группе авторов удалось дать новую жизнь тем же мотивам и приёмам под вывеской новой журналистики.
Сам этот термин далеко не нов. Насколько мне удалось установить, он впервые встречается в 1887 году у Мэтью Арнолда применительно к Уильяму Томасу Стеду, издателю лондонской газеты «Пол Мол», использовавшему её страницы для пропаганды защиты прав детей и социального прогресса. Всего через четыре года кто-то написал в этой самой газете, что «новая журналистика», о которой говорит Арнолд — это «заезженный и некорректно используемый термин».
В середине 1960-х годов термин «новая журналистика» возник вновь, на этот раз применительно к произведениям авторов, писавших о социальных проблемах и преступлениях — в первую очередь, к «Хладнокровному убийству» Трумена Капоте, повествующему об убийстве семьи из Канзаса двумя бродягами, и «Армии ночи» Нормана Мейлера, посвящённой протестам против войны во Вьетнаме.
Обе эти книги местами очень напоминают художественную литературу: они реконструируют ключевые эпизоды истории, используют диалоги и выражают точку зрения. Мейлер вплетает автобиографические элементы. Том Вулф, один из самых известных представителей данного стиля, использует статусные детали в манере популярных писателей вроде Яна Флеминга, скрупулёзно указывая марки алкоголя, одежды и машин. Хантер Томпсон в «Страхе и отвращении предвыборной гонки», книге об избрании Ричарда Никсона в 1972 году, открыто использует элементы вымысла. Все ведущие представители жанра собраны в составленной Томом Вулфом антологии «Новая журналистика».
Книги и статьи представителей новой журналистики с самого начала подвергались критике. Как и городские легенды, они зачастую звучали слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Трумен Капоте настаивал, что каждое слово в «Хладнокровном убийстве» соответствовало действительности, но некоторые ему не верили. Да и как можно быть уверенным, что кто-то, кто уже умер, сказал именно эти слова кому-то, кто тоже уже умер? Или взять «Космическую гонку» Тома Вулфа. Откуда Вулф мог знать сокровенные чувства Линдона Джонсона, который никогда не славился привычкой разглашать подробности своей внутренней жизни? И не были ли развернувшиеся перед изумленным взглядом Нормана Мейлера события слишком уж удобными с точки зрения рассказчика?
Шли годы, и раскрывались всё новые нестыковки. Джон Хёрси, который считался благодаря своей книге «Хиросима» предвестником новой журналистики, написал длинную критическую рецензию на «Космическую гонку» Вулфа и пришёл к выводу, что многое в книге было вымыслом. Произведения Капоте также подверглись тщательному анализу и были признаны содержащими детали, выдуманные самим автором. Когда Вулфа спросили, что он думает о критике, он лишь отмахнулся.
С одной стороны, новые журналисты проповедовали доктрину истины, преподнесённой в литературной форме; с другой, они признавали, что время от времени чередовали истину с вымыслом.
Тем временем, набирала обороты повествовательная журналистика. В 1980-е годы был период, когда краткие информационные сводки «Ю-Эс-Эй тудей» стали примером для подражания для многих газет в Северной Америке. Затем газеты начали двигаться в направлении более длинных историй. Поворотным пунктом был отчёт Американского общества редакторов новостей за 1993 год, озаглавленный «Игры слов». В нём приводились слова двух преподавателей журналистики:
«Для поддержания читательского интереса корреспонденты должны сделать статьи похожими на рассказы, то есть писать с акцентом на действии, персонажах и хронологии».
Позже последовали новые отчёты со схожими выводами. Как писатель, редактор и критик с более чем тридцатилетним опытом, я считаю, что сейчас всё намного сложнее, чем раньше. Джон Франклин, преподаватель журналистики из Орегонского университета, несколько лет назад резюмировал проблему в своей статье для «Обозрения американской журналистики». «Литературная журналистика, — написал он — требует от журналиста большей ответственности. Журналисты, недостаточно понимающие разницу между фактами и правдой, подвергают опасности репутацию всей профессии».
Термин «новая журналистика» канул в лету, но успел перед этим оказать влияние на СМИ.
В 1980-х годах газета «Вашингтон пост» вынуждена была вернуть Пулитцеровскую премию из–за того, что автор статьи-победителя выдумала героинозависимого ребёнка, вокруг которого была построена вся история.
Печально известная ныне статья называлась «Мир Джимми» — однако Джимми был вымышленным, хотя сведения о районе, где он жил, были достоверными. Были случаи, когда журналистика и вовсе превращалась в чистой воды вымысел. Несколько лет назад в газете «Бостон Глоб» была трогательная колонка о белом и чёрном мальчишках, которые подружились в онкологическом отделении; один из них в итоге вылечился, а другой умер. Добросердечность их родителей давала надежду, что раны, нанесённые расизмом, в один прекрасный день заживут в Америке. Материал был совершенен во всём, кроме одного: в нём не было ни единого слова правды, как очень скоро обнаружили исследователи, когда попытались найти упомянутых людей.
Повествовательная журналистика, ставшая нормой в последние десятилетия как в газетах и журналах, так и на телевидении, предлагает нечто большее, чем незамысловатое сообщение фактов, которым довольствовались предыдущие поколения журналистов.
Но она не только более убедительна, а и более опасна, так как предоставляет больше возможностей ввести аудиторию в заблуждение. Определённые журналисты, занимающиеся повествовательной журналистикой, убеждены, что в ней нет никаких жёстких ограничений, помимо установленных законом о клевете.
Повествовательная журналистика требует не только более талантливых авторов, но и более бдительных и критичных читателей.
Необходимость рассказывать истории ставит перед соблазном, чуждым другим формам журналистики. К историям легко пристают обрывки слухов, недопонятых фраз и неосторожных замечаний, которые с лёгкой подачи журналиста рискуют превратиться в факты. Совесть автора приобретает решающую роль. Взявшись за историю, он может почувствовать искушение усовершенствовать её, сделать её более привлекательной, более акцентированной, более запоминающейся. В итоге даже самые искушённые журналисты могут стать создателями чего-то больше напоминающего городскую легенду.
Пересказывая факты, мы нередко подходим слишком близко к вымыслу.
©Robert Fulford
Больше на paranteza.info