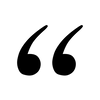Роберт Фулфорд: Торжество историй. Часть 4: Треснувшее зеркало современности
В своей четвёртой лекции о роли историй Роберт Фулфорд прослеживает трансформации литературы в эпоху тотального релятивизма и безжалостной литературной критики, жаждущей разоблачить злоупотребления и предрассудки предыдущих эпох и режимов. Литература приспосабливается, как в зеркале отражая сомнения эпохи; она наращивает уровни смысла, превращаясь в лабиринт, головоломку, допускающую множество прочтений и трактовок.

В жизни каждого читателя есть моменты, которые позже кажутся откровениями, началом чего-то важного. Однажды, когда мне было двенадцать или тринадцать лет, я взял с полки антологию американской новеллы и натолкнулся на рассказ Ринга Ларднера «Стрижка». Рассказ был написан около двадцати лет до того и считался классикой. Но с тех пор он утратил популярность, и современному читателю он скорее всего покажется банальным и наигранным, как и большинство произведений Ларднера. Но в 1945 году этот рассказ длинной всего в пятнадцать страниц стал для меня настоящим откровением.
Благодаря ему я познакомился с двумя обширными темами, на исследование каждой из которых можно потратить целую жизнь: неожиданными формами, которые может принимать повествование, и эффектами, которых писатели XX века достигали, экспериментируя с сюжетной линией. Похожие на «Стрижку» рассказы появлялись и раньше в истории литературы, но именно в XX веке они вышли на первый план. И именно в XX веке к повествовательным техникам начали относиться с долей подозрения, которое усилилось
«Стрижка» повествует об убийстве безработного коммивояжера Джими Кендалла из маленького городка в штате Мичиган. Рассказчик, парикмахер по имени Уайти, с теплотой вспоминает Кендалла.
«Джим был парень хоть куда», — говорит он, одновременно сообщая нам, что Кендалл бил жену и детей, хвастал своими интрижками на стороне, пытался изнасиловать отвергшую его ухаживания женщину и любил разыгрывать Пола, юношу, который с детства страдал от повреждения мозга.
Уайти снисходительно отзывается о своем покойном друге: «В глубине души он был отличным парнем, но очень уж любил победокурить». Уайти подробно описывает изобретательный розыгрыш, с помощью которого Джим унизил Джули, ту самую женщину, которую он пытался изнасиловать. Розыгрыш разозлил слабоумного Пола, боготворившего Джули. Позже, во время охоты на уток, Пол застрелил Джима.
Читая эту историю, кажется, будто Уайти считает произошедшее несчастным случаем. Но благодаря подсказкам, которые дает нам Ларднер, мы понимаем, что Пол намеренно убил Джима. Более того, автор считает, что Пол поступил по справедливости.
Около
Данный приём получил свое название в 1961 году благодаря критику Уэйну Буту.
Ненадёжный рассказчик — иллюстрация того, как дух времени отражается на творчестве писателей, которые в свою очередь способствуют формированию этого духа.
Ненадёжный рассказчик — один из самых запоминающихся литературных приёмов века. Он присутствует в книгах Агаты Кристи и Уильяма Фолкнера, Владимира Набокова и Мордехая Рихлера, а также сотен других писателей.
Изменения в коллективном сознании зачастую заметны лишь по прошествии определённого времени. Именно так было с ненадёжным рассказчиком. Начиная с 1900 года, модернизм поочередно то приветствовал, то оплакивал конец эпохи определённости, упорядоченности и осмысленности. В литературе он бросил вызов натурализму и реализму, господствовавшим в творчестве XIX века. Он научил нас с подозрением относиться к идее о том, что прямолинейная история может правдиво рассказать о человеческой жизни, и привнёс в литературу элементы сложности, пародии, двусмысленности и иронии. В этих новых условиях и родился ненадёжный рассказчик, повествователь эпохи релятивизма, эпохи сомнений и скептицизма.
Современный темперамент будоражат неоднозначные истории: читая слова ненадёжного рассказчика, мы глядим в треснувшее зеркало современности.
Иногда ненадёжный рассказчик утаивает от читателя важную информацию, а иногда сам не знает всех фактов или не понимает их смысла. В «Стрижке» Уайти не утаивает ничего — он просто не понимает, что его дорогой старина Джим был подонком. Он не способен взглянуть на себя со стороны, поэтому не может осознать узость и предвзятость своего взгляда. И, разумеется, Уайти не отдаёт себе отчёта в том, какой эффект будут иметь его слова на того, к кому он обращается, на относительно образованного человека вроде Ринга Ларднера.
Сам того не ведая, Уайти рассказывает историю о злобе и нищете духа, кошмарную версию типичной американской небылицы.
«Стрижка» изобилует иронией. Ирония всегда основана на несоответствии, и в данном случае нельзя не заметить несоответствие между тоном, с которым Уайти рассказывает историю, и её содержанием. За этим явно угадывается плвн автора. Известный критик того времени Гилберт Селдес писал: «Ларднер никогда не подставляет своих персонажей под критику. Он ни насмехается над ними, ни гордится ими». Критики всегда говорят так о любимых сатириках публики — и почти всегда заблуждаются.
В «Стрижке» Ларднер предстаёт хоть и проницательным, но всё же моралистом; он пробуждает у нас презрение к созданным им персонажам.
Но он делает это не нарочито. Писатель-сатирик XIX века вроде Энтони Троллопа не увидел бы ничего зазорного в том, чтобы высказывать своё мнение о Уайти прямо, голосом автора. Но в 20-е годы XX века подобное морализаторство уже считалось старомодным и наивным. Читатели по-прежнему с любовью относились к Троллопу, но от современного писателя выслушивать проповеди не желали.
Листая страницы «Стрижки», я впервые в жизни почувствовал, что читаю две версии одних и тех же событий — версию автора и версию вымышленного рассказчика. Ларднер говорил со мной при помощи непонятного его рассказчику шифра, используя при этом лишь слова рассказчика. Мы с автором установили связь за спиной у рассказчика.
В последние годы в литературной критике стало набирать обороты схожее явление. Современная критика стремится заглянуть за спину не только персонажам, но и создавшим их авторам, а также читателям. Такой подход можно назвать литературным разоблачением.
Если несколько десятилетий назад литературный критик, занимающийся исследованием империализма, обращался к книгам Джейн Остин за описанием становления Британской империи, то сегодня он скорее стремится уличить Джейн Остин в искажении истории и соучастии в преступлениях империи.
Критика дает развитие самым влиятельным идеям эпохи. Идеи, изложенные великими мыслителями вроде Маркса и Фрейда, проникают в наше подсознание и продолжают жить в нём независимо от того, верим мы в них или нет на сознательном уровне. И даже более, они обуславливают наш образ мыслей даже если мы сознательно их отвергаем.
Маркс продемонстрировал, что даже те идеи, в которые мы привыкли верить, могут быть проявлением ложного сознания. Фрейд научил нас, что любая наша мысль может быть выражением подавленных желаний. Он также показал нам, что жизнь имеет подземное течение, и именно там стоит искать истину.
Потайной проход и закопанный клад — вот ключевые метафоры современности, сделавшие ненадёжного рассказчика главным действующим лицом современной литературы.
Они также помогли подготовить почву для идей и направлений, которые мы сегодня объединяем под терминами «постмодернизм» и «деконструкция».
Многое в постмодернистском дискурсе восходит к идеям Мишеля Фуко — в том числе и само слово «дискурс». Именно благодаря ему это слово стало частью лексикона тысяч интеллектуалов. Фуко был поистине самобытным мыслителем. Он видел историю там, где остальные видели природу; другими словами, он показал, что многое из того, что сегодня кажется нам естественным, — от идеи безумия до главенствующей роли секса в жизни — было придумано людьми.
Фуко до сих пор остается актуальным мыслителем, чьи смелые идеи невозможно игнорировать. Однако одним из последствий его мысли стало сведение истории (включая историю литературы) к борьбе за власть. Сторонники Фуко готовы бесконечно прочёсывать литературу в поисках доказательств притеснений.
Фуко считал человека продуктом исторических сил, а власть в любом виде — даже самую демократическую — синонимом войны.
Он писал: «Происходящие внутри “гражданского мира" политическая борьба, столкновения по поводу власти, с властью, за власть, изменения в соотношении сил — усиление одной стороны, ниспровержение другой и так далее — не должны интерпретироваться никак иначе, кроме как формы продолжения войны». Даже образовательные институты, которые человечество привыкло считать союзниками в борьбе против притеснений, были в глазах Фуко частью плана по всеобщему порабощению. «Власть производит знание, — писал он. — Нет отношений власти без установления соответствующего поля знания, нет и знания, которое не предполагало бы и не конституировало бы в то же время отношений власти».
Фуко, а вслед за ним и подвергнувшиеся его влиянию мыслители, стали считать и саму культуру «продолжением политики иными средствами».
Политическая составляющая действительно присутствует в литературе, однако постмодернизм придаёт ей первостепенную роль. Такие критики как Фредрик Джеймисон и Стэнли Фиш вслед за Фуко видят в литературе по большей части притеснения. Недоверие к власти доходит у них паранойи. С таким подходом вся история литературы вскоре будет объявлена ложью.
С точки зрения современных критиков, агенты от литературы на протяжении столетий безнаказанно вводили людей в заблуждение и должны наконец быть выведены на чистую воду. И вот, преподаватели и студенты превращаются в полицейских; спецназ критиков высаживается у дверей литературы и объявляет: «Выходи с поднятыми руками и раскрывай свой скрытый смысл!» Как настоящий детектив, постмодернистский критик больше всего радуется, обнаружив сокрытое — например, сексизм, скрывающийся за сентиментальным описанием жизни женщин у Чарльза Диккенса.
В большинстве случаев приговор для автора один — виновен по всем пунктам.
Как говорит Британский писатель и преподаватель Малколм Брэдбери: «Деконструктивистам удалось доказать, что вся литература была создана нечестными людьми и исходя из нечестных мотивов».
В основе всей постмодернистской критики лежит одно неизменное положение: когда читатель открывает серьёзную книгу, его окутывает туман противоречивых идей; долг критика — развеять этот туман и привнести ясный свет разума.
Постмодернистский критик считает своей целью демистифицировать литературу, разобрать на части, проанализировать, деконструировать её.
В его глазах, критика — это не просто интеллектуальное упражнение, а поиск истины, который сделает всех нас свободными. Критик полон морализаторского пыла, не смягчённого ни скромностью, ни сомнениями в собственных силах. Он нападает на ложные, по его мнению, ценности, во имя ценностей, которые, как он считает, история признает истинными. Как говорил в начале 90-х годов канадский критик Майкл Кифер: «Разновидность критики, которая помогает обнажить социальные ограничения и структуры власти, лежащие в основе любого литературного произведения или его трактовки, имеет огромный потенциал в качестве инструмента освобождения».
Французский философ Жак Деррида, который более других способствовал формированию постмодернистской мысли, утверждает, что литературное произведение — или, как он говорит, «текст» — не имеет единственно верной трактовки, поскольку язык не подчиняется замыслу автора, а значит количество трактовок равно количеству читателей. Изначальный замысел автора может быть принят во внимание, но будет лишь одним из многих факторов, учитываемых при анализе и трактовке произведения.
Постмодернистская критика не позволяет соображениям литературной ценности встать у себя на пути. Авторский стиль, глубина чувств, мастерство рассказчика, изобретательность, структура — всё это лишь второстепенные объекты интереса.
Постмодернистские критики заявляют о своей анти-авторитарности, однако их стиль уж очень напоминает папские указы.
Постмодернистские критики называют себя противниками дискриминации, однако их труды зачастую сами являются разновидностью притеснения, формой манипуляции сознанием. Им свойственна чёткая политическая позиция и левые взгляды. Это обеспечивает литературной теории ориентир и цель, но в то же время крайне раздражает тех, кто не разделяет их взглядов на устройство общества. В своём худшем виде постмодернистская критика сводит литературу к точке пересечения различных видов дискурса, используя авторов для подтверждения теорий о властных отношениях, обществе, истории, расизме, сексизме и так далее. В лучшем — открывает новые грани понимания.
Ролан Барт, возможно самый талантливый автор, связанный с постмодернизмом, показал, что этот подход можно использовать применительно к чему угодно — от Греты Гарбо до Токио. В романе ещё одного великого постмодернистского автора Умберто Эко есть персонаж, который говорит: «Книги нужны не для того, чтобы верить, но чтобы подвергать сомнению».
Модернизм утверждал универсальную ценность своего взгляда на искусство и жизнь. Постмодернизм же заявляет, что универсальный подход ущемляет тех, кто не разделяет общепринятые ценности; частный случай этой позиции — мнение о том, что никто не имеет права навязывать собственные нравственные устои другим культурам. Модернизм имел авторитет: его положения были настолько же влиятельными, как и положения традиций, которым он себя противопоставлял. Он заменил одно поколение великих художников другим; постмодернизм же подвергает сомнению саму возможность и необходимость существования великого художника — и даже великого искусства.
Согласно взгляду, разделяемому большинством постмодернистов, в мире не существует начала, конца, середины и линейности; следовательно, упорядочивание мира таким образом с целью рассказать публике историю — обман.
По словам Линды Хатчен из Университета Торонто, постмодернизм — это «противоречащее самому себе и подрывающее само себя высказывание, заключение собственных слов в кавычки. Его отличительная черта — абсолютная неоднозначность и двусмысленность».
Слова Линды Хатчен характеризуют не только современное мышление, но и некоторые основополагающие книги, написанные в XX веке, в том числе книги, в которых используется приём ненадёжного рассказчика. Более того, всё выглядит так, будто ненадёжный рассказчик был создан для выражения «противоречащего самому себе и подрывающего самого себя» постмодернистского сознания. Яркий пример — написанный в 1915 году роман Форда Мэдокса Форда «Солдат всегда солдат».
Роман повествует о двух богатых супружеских парах, американцах Джоне и Флоренс Дауэлл и британцах Эдварде и Леоноре Эшбернем. Четверо персонажей заводят дружбу, отдыхая в немецких термах и отелях французской Ривьеры. Одна из привилегий этих людей — полная безнравственность, но «Солдат всегда солдат» — это в первую очередь исследование знания. Роман постоянно ставит перед читателем трудные вопросы: как много из того, что действительно важно, возможно знать? Как приобрести это знание? Обрекает ли нас то, кто мы есть, на ограниченный взгляд на мир?
Сюжет книги содержит супружеские измены, искусную ложь, два самоубийства, сумасшествие и намеки на инцест; но все эти события (включая обе смерти) происходят за кулисами и представляются почти второстепенными. Дело в том, что главные события разворачиваются в голове рассказчика, Джона Дауэлла. Он понимает происходящее вокруг меньше остальных — например, он считает, будто у него с женой не было близости из–за её проблем с сердцем, хотя это не так; он понятия не имеет, что она любовница Эдварда Эшбернема. Но себя он, возможно, понимает ещё меньше и явно не отдаёт себе отчёта в гомосексуальной природе своих чувств к Эдварду. По большому счёту, Джон слишком глуп, чтобы увидеть, что он лжёт самому себе. Он с самого начала вводит нас в заблуждение, обманывая нас так же, как он обманывает себя, и очень скоро мы понимаем, что ему нельзя верить. Вот что он говорит в начале книги:
«Много я слышал разных историй, но эта — самая печальная из всех. Мы встречались с Эшбернами девять сезонов подряд в курортном местечке Наухайм и за это время успели очень близко узнать друг друга. Впрочем, знакомство наше носило характер столь же лёгкий, привычный, ни к чему не обязывающий, как носишь, не замечая, удобные перчатки. Нам с женой казалось, мы знаем о капитане Эшбернаме и его супруге всё, но в
Сначала он утверждает, что они с женой были близкими друзьями Эшбернов; затем мгновенно это отрицает. Рассказывая позже об истории этих отношений, он также лжёт. Дело в том, что (как мы позже узнаём) Флоренс Дауэлл очень хорошо знала Эдварда Эшберна. Именно из–за этого недостатка понимания автор выбрал Джона в качестве рассказчика; именно поэтому «Солдат всегда солдат» так точно передаёт запутанность современного характера.
Используя Джона в качестве рассказчика, Форд возводит недоверие к самому себе в ранг литературного приёма.
Постепенно мы понимаем, что имеем дело с
В книге есть множество подобных указаний на то, что Форд преследует цель создать новую технику повествования для новой исторической эпохи.
Повествовательная техника XVIII-XIX веков подходила для прежнего, более уверенного в себе мира, в котором определённые истины считались незыблемыми; но мир, в котором жил Форд, и в котором мы живём сейчас, отверг эти истины.
Когда Джон говорит, что не понимает смысла своей истории, он говорит от лица всей европейской цивилизации, которая на момент выхода книги в 1915 году была охвачена войной.
«Солдат всегда солдат» ознаменовал новую эпоху, в которой ирония заняла центральное место в повествовании. Данный роман — предшественник всех тех книг и телепередач, где ирония используется так, словно это единственный способ смотреть на мир.
Ирония содержится даже в самом названии романа: несмотря на то, что капитан Эдвард Эшбернем носит воинское звание, его едва ли можно назвать солдатом.
Возможно также, что название указывает на Джона, который, как послушный солдат, ведёт себя тихо, не задаёт вопросов и терпеливо сносит всё, что с ним происходит; как призывник в армии, возглавляемой дураками, он слепо идёт вперёд, участвуя в войне, цели которой не понимает.
Джон Дауэлл — персонаж из литературы высшего качества, однако ненадёжный рассказчик обитает и в популярной литературе. Самый известный пример — доктор Джеймс Шеппард, рассказчик из «Убийства Роджера Экройда» Агаты Кристи. Эта книга — самая обсуждаемая из её сорока-двух книг о бельгийском сыщике Эркюле Пуаро, а также одна из самых необычных. Она поставила под сомнение один из главных типажей, на которых держалась популярная английская проза — тот самый типаж, который будет встречаться в произведениях Кристи на протяжении нескольких последующих десятилетий.
Около 1926 года Агата Кристи взяла на вооружение метод литературы XX века, присоединившись ко всем тем, кто посредством литературы подрывал веру в рациональность, с XVIII века составлявшую основу культуры.
Кристи сознательно обманывала ожидания своих читателей и нашла собственное применение ставшей лозунгом столетия формуле Фрейда: «всё не то, чем кажется».
Ненадёжный рассказчик из «Убийства Роджера Экройда» на протяжении большей части книги кажется совершенно надёжным. Мы начинаем видеть в романе исследование извращённого ума убийцы лишь впоследствии. В отличие от Джона Дауэлла, чья непоследовательность бросается в глаза с первого же абзаца, доктор Шеппард кажется честным врачом, который живёт в деревне Кингз-Эббот вместе со своей сестрой Кэролайн. Судя по его манере речи, он спокойный, здравомыслящий, сведущий в своем деле англичанин, который терпимо относится к глупым людям, которые добавляют ему работы. Ему особенно докучает привычка его сестры сплетничать, но он лишь старается не сообщать ей конфиденциальную информацию о своих пациентах.
Доктор Шеппард сообщает нам, что недавно умер муж местной жительницы миссис Феррар, а затем неожиданно умерла и она сама. Затем он рассказывает о её друге Роджере Экройде, деревенском богаче и владельце роскошного дома. Роджер Экройд был убит в собственном доме, и доктор Шеппард подробно описывает произошедшее, пропуская всего несколько деталей. Однако эти детали оказываются ключевыми: доктор Шеппард шантажировал миссис Феррар, зная, что это она отравила своего мужа; и именно доктор Шеппард убил Экройда, когда тот обо всём узнал. Доктор Шеппард не лжет нам открыто; он лишь пропускает изобличающие его факты.
Затем в деревне появляется некто Эркюль Пуаро. Вместе с Шеппардом они обсуждают подозреваемых: пасынка Экройда, замеченного возле дома незнакомца и даже дворецкого с горничной. А за девять страниц до конца 306-страничной книги Пуаро обвиняет доктора Шеппарда в убийстве. Он предлагает Шеппарду совершить самоубийство, и доктор целую ночь пишет свою версию происшедшего, а затем принимает смертельную дозу яда, чтобы сохранить честь и доброе имя своей семьи.
«Убийство Роджера Экройда» — возможно самая изобретательная книга Агаты Кристи. Она очень популярна среди критиков, которые и сами демонстрируют изобретательность, комментируя её. В 1998 году парижский критик Пьер Байяр, писавший о литературном обмане в произведениях Ги де Мопассана и Марселя Пруста, выпустил замечательную книгу «Кто убил Рождера Экройда?» Эта игривая постмодернистская книга стремится доказать — ни много ни мало — что Роджера Экройда убил сам Эркюль Пуаро.
Используя лишь приведённые в книге факты, Байяр доказывает, что Пуаро убедил доктора Шеппарда в его виновности и посредством гипноза заставил того написать признание и покончить с собой.
Тем самым Байяр заявляет, что доктор Шеппард ненадёжен вдвойне: сначала он умалчивает о том, что он убийца, а потом о том, что убийца — не он.
Ненадёжные рассказчики встречаются повсюду в литературе XX века, нередко в романах, которые считаются важнейшими произведениями своего времени. В 1925 году Фрэнсис Скотт Фицджеральд рассказал историю Великого Гэтсби с точки зрения Ника Каррауэя, наблюдателя и периодического участника, который плохо понимает смысл рассказываемой им истории. Ник не обманывает нас, однако проходит путь от беспечного невежества до понимания бессердечности и самовлюбленности людей, вокруг которых разворачивается история.
В романе Уильяма Фолкнера «Шум и ярость», изданном четырьмя годами позже, ненадёжный рассказчик представлен сразу тремя персонажами — тремя братьями Компсонами, которые рассказывают историю своей сестры Кэдди и её поспешного брака не по любви. Младший из братьев, Бенджи — слабоумный и не осознаёт происходящего. Этот факт отчасти объясняет, почему название позаимствовано из строк «Макбета»: «Жизнь — это история, рассказанная идиотом, полная шума и ярости, но лишённая всякого смысла». Средний брат, Квентин, умён, но ослеплён фантазиями о семейной чести и кровосмесительными чувствами к своей сестре. Старший, Джейсон — вор и лжец.
Ненадёжный рассказчик обращается к нам и со страниц романа «По версии Барни» (1997), вершины литературной карьеры Мордехая Рихлера. Снедаемый ненавистью к самому себе продюсер Барни Панофски, рассказывающий «истинную историю своей напрасно потраченной жизни», полностью отдаёт себе отчёт в своих действиях. Он ненадёжен по совершенно иной причине: болезнь Альцгеймера разрушает его память, устраняя то здесь, то там по нескольку слов, а иногда и целые сцены. Он делает много ошибок, поэтому книга сопровождена сносками и послесловием его педантичного сына Майкла. Барни погружается в полное забвение прежде чем Майкл обнаруживает, что в отношении случая, когда он был обвинён в убийстве, Барни рассказал всю правду.
Такую жизнь, как жизнь Барни, можно изобразить интересно только найдя новое применение известным повествовательным структурам.
Выступая на конференции в 1998 году, Дорис Лессинг сказала: «Мы так любим истории потому, что структура линейного повествования заложена в нашем сознании».
Она также подвергла критике современную массовую культуру, ответственную за разрушение этой структуры и упадок повествовательной традиции, на которой она выросла и которую считала основой цивилизованной жизни. Выступая на той же конференции, преподаватель литературы из
Дикштейн был уверен, что мнение Лессинг было продиктовано одной лишь ностальгией. Он признал, что некоторым из нас оказывается трудно приспособиться к такой перемене, однако отметил, что жалобы по поводу нарушения линейной структуры повествования сопровождали современную литературу с её ранних дней. В качестве примера книги, часто критикуемой на этом основании, он привёл «Улисс» Джеймса Джойса, который в итоге занял почётное место в литературной традиции. Истории, написанные до начала современной эпохи, заключил он, «не отражают ритм жизни, с которым мы имеем дело в XX веке».
Подобный спор возникает сегодня каждый раз, когда произносится слово «история». Мне кажется, что в данном случае, обе стороны одновременно и правы, и неправы. Лессинг права, утверждая, что мы не можем обойтись без историй, но мне кажется она заблуждается, полагая, будто истории исчезают; Дикштейн прав, говоря, что повествовательные формы меняются, но он ошибается, заявляя, будто традиционные истории больше не актуальны. Когда Дикштейн закончил свое выступление, Дорис Лессинг сказала, что ожидала подобной реакции на упоминание об историях и чувствовала, что открыто заявлять о своих убеждениях, с которыми она прожила пятьдесят или даже шестьдесят лет, было рискованно и даже слегка старомодно. Она была права.
Лишь немногие критики сегодня готовы замолвить слово за незамысловатую, линейную историю; а литературные журналисты если и хвалят старомодное «добротное чтиво», то делают это в таком робком и извиняющемся тоне, как будто они выступают в защиту королевской власти или нюхательного табака.
Противники постмодернизма любят повторять, что его теории постепенно выходят из моды, однако стоит только нам открыть литературные журналы или университетские издания, как становится очевидно, что они принимают желаемое за действительное. За последние тридцать лет постмодернистские идеи упрочили своё положение в литературном обществе, а их влияние распространилось далеко за пределы университетов.
Прочно обосновавшись в университетах, постмодернизм перевернул с ног на голову их традиционную функцию. Если раньше преподаватели нужны были, чтобы облегчать студентам понимание трудных авторов, то сегодня они делают простых авторов сложными, делая из их произведений головоломки и окружая их слоями профессионального жаргона. Нет такого литературного произведения, которое бы постмодернистские критики не могли сделать более трудным для понимания.
Как критику следует относится к постмодернистам? Осторожно, скептически, но с огромным любопытством. Как бы там ни было, нелепые утверждения и абсурдные требования постмодернизма вдыхают жизнь в полемику о культуре, а его адептам свойствен определённый шарм.
Я люблю постмодернистов за их неуклюжую злость и убеждение, что изучение литературы имеет огромную важность — убеждение, которое до их прихода переживало трудные времена. Мне нравится, что они воспринимают истории всерьёз и анализируют их. Мне нравится их заносчивость, но я хотел бы, чтобы они не передавали её своим студентам. И, наконец, мне нравится их уверенность в собственном призвании: освободить читателей, околдованных литературой и заточённых в башне собственного невежества.
Постмодернистские критики не всегда заблуждаются, видя в литературе головоломку. В этой связи уместно вспомнить роман Джона Бэнвилла «Улики». Рассказчик Бэнвилла не просто ненадёжный, а, судя по всему, ещё и сумасшедший, да к тому же убийца. Однако в силу своего сумасшествия он предоставляет свежий и проницательный комментарий на прочтение истории. Он явно недолюбливает ненадёжных рассказчиков; они раздражают его и внушают ему подозрение. Вот что он говорит:
«Если я
Быть может, здесь в нём говорит безумие. Тем не менее, мне кажется, что и самым образованным, и самым недалёким читателям знакомо подобное изобличение самого себя, сопровождающееся осознанием, что мы не настолько умны, как нам казалось.
Книгой, которая пробудила в Бэнвилле это чувство, вполне мог быть «Бледный огонь» Владимира Набокова — роман, который обращается ко многим связанным с повествованием вопросам, поднимавшимся в XX веке. В этом шедевре ненадёжного рассказа Набоков раздвигает границы повествования и манипулирует читателем так же искусно, как и рассказчиком.
Набоков однажды сказал: «Можно подбираться к реальности всё ближе и ближе; но всё будет недостаточно близко, потому что реальность — это бесконечная последовательность ступеней, уровней восприятия, двойных донышек, и потому она неиссякаема и недостижима».
Ему удалось выразить одну из загадок жизни в то время, когда большинство из нас, отбросив объяснения традиционной религии, оказались перед необходимостью сформировать собственное понимание мира. «Бледный огонь» — это сомнительная история, рассказанная крайне подозрительным персонажем: самая отчаянная попытка Набокова пробиться сквозь все эти уровни тайны.
С момента своей публикации в 1962 году «Бледный огонь» продолжает ставить читателей в тупик. Возможно, первое, что привлекает нас в книге — это демонстрация виртуозности великого писателя, но постепенно мы начинаем понимать, что в ней есть и нечто большее. Она наталкивает нас на размышления изобилием окольных путей, вопросов об идентичности, памяти и взгляде на историю — ключевых проблем в повествовании; а также даёт возможность наблюдать тревогу рассказчика, который испытывает острую необходимость рассказать свою историю, хоть временами и сомневается в собственной надёжности.
Читатели Набокова не ошибаются, ожидая, что им достанется удовольствие самостоятельно раскрыть многие тайны истории. Набоков отдаёт должное своим читателям и верит, что они способны, руководствуясь его подсказками, дойти до конца и, быть может, найти удовлетворительное объяснение.
Когда я впервые прочитал «Бледный огонь» в 60-х годах, то испытал то же чувство, что и в юности при чтении «Стрижки» Ринга Ларднера: я вновь почувствовал, как мы с автором переговариваемся за спиной у рассказчика.
«Бледный огонь» постепенно разворачивается перед нами как пейзаж незнакомой страны. Перед тем, как отправить рукопись своему издателю, Набоков написал сопроводительную записку: «Я надеюсь, что Вы нырнёте в книгу, как в голубоватую прорубь, задохнётесь, нырнёте обратно и затем всплывёте и покатитесь на санках домой, метафорически, ощущая, как по пути Вас достигают трепет и восхитительное тепло моих стратегически размещённых костров». Эти слова адресованы каждому читателю книги.
Как и многие другие книги Набокова, «Бледный огонь» повествует о личностном кризисе (а точнее, череде личностных кризисов). Нетрудно понять, почему Набоков так часто обращался к данной теме. Он на себе испытал превратности XX века. Коммунисты лишили его родной земли, после чего он перебрался в Берлин и поселился там, но в итоге был лишён будущего в Германии нацистами. В итоге он обосновался в Соединённых Штатах и научился мастерски писать на английском. Всё это время он не переставал вкраплять фрагменты собственной жизни в создаваемые им истории. Свои самые поэтические впечатления от переездов он изложил в книге «Память, говори», одной из великих автобиографий столетия. Остальные наблюдения он выразил через свои романы. Например, страницы «Лолиты», самой популярной его книги, пронизаны культурой американских больших дорог. Во многих других книгах он передаёт чувство неопределённости, сопровождающее иммигрантов, брошенных на произвол судьбы в новом мире, живущих в одиночестве и бедности, постоянно рискуя впасть в безумие если им не удастся адаптироваться к резкой перемене, выпавшей на их долю.
Ненадёжный рассказчик предоставляет широкий набор возможностей для исследования этих тем, и Набоков мастерски использует их в «Бледном огне». События книги разворачиваются в университетском городке, напоминающем Итаку, штат Нью-Йорк, где Набоков был преподавателем в Корнелльском университете. Мы узнаём, что местный поэт по имени Джон Шейд был убит, но оставил после себя стихотворение длиной в 999 строк, которое заканчивается описанием самоубийства его дочери. Чарльз Кинбот, литературовед, знавший Джона Шейда, написал комментарий к стихотворению и множество сносок, а также указатель, которые все вместе и составляют историю. Ненадёжность рассказчика составляет основу романа.
Наиболее очевидная ирония кроется в несоответствии между взглядом Кинбота на свое положение в университете и нашим пониманием ситуации. Он считает себя близким другом покойного поэта Джона Шейда, но нам ясно, что в действительности Шейд терпел его лишь из вежливости.
Здесь Набоков, не жалея себя, описывает чувства, которые он должно быть испытывал сам в Америке: он был видной фигурой, однако многие считали его незначительным, эксцентричным и даже смешным (возможно, из–за его акцента). Вдобавок, мы довольно скоро понимаем, что Кинбот не просто ненадёжен — он безумен.
Кинбот пытается убедить нас, что стихотворение Шейда на самом деле не о его дочери, а о событиях в дальней северной стране Земла, родине самого Кинбота. Позже Кинбот украдкой сообщает нам в чём, по его мнению, заключается «настоящая история»: на самом деле он Карл Возлюбленный, изгнанный король Земблы, который живёт в Америке под видом скромного преподавателя. Более того, он сообщает нам, что Шейд был убит по ошибке: его убийца прибыл из Земблы, чтобы убить Кинбота, который в момент убийства был рядом с Шейдом.
Несмотря на то, что Набоков даёт нам понять, насколько сомнительна эта история, и ясно указывает на её слабые места, он всё же использует традиционные методы саспенса.
Набоков делает две противоречащие друг другу вещи одновременно: опровергает историю Кинбота и одновременно ожидает от нас «добровольного отказа от неверия», который Кольридж считал необходимым при чтении литературы.
Удивительно, но Набоков справляется с задачей, обращаясь к таким стандартным для триллеров средствам, как переключение между сюжетными линиями Чарльза Кинбота и посланного радикалами Земблы убийцы. И, как и автор триллера, Набоков растягивает саспенс насколько это возможно.
Набоков сообщает нам, что Кинбот безумен, причём страдает расстройством, характерным для человека, вынужденно покинувшего родину. Ссылка настолько травмировала психику Кинбота, что он стал чрезмерно романтизировать свою жизнь. Но есть и дополнительный уровень ненадёжности: Набоков намекает на то, что как стихотворение, так и комментарий к нему написал Джон Шейд. Кроме того, возможно, что и Кинбота, и его историю придумал сумасшедший русский эмигрант по имени В. Боткин.
А настоящий автор, Набоков, рассказывает историю доброты и понимания так, как никто не рассказывал до него. Благодаря ему мы переживаем чувства, которые, возможно, никогда бы иначе не пережили, и преодолеваем лабиринты смысла, которые многому нас учат.
Набоков в очередной раз показывает нам, как истории углубляют наше понимание мира.
«Бледный огонь» становится только лучше со временем; эта книга доказывает, что из всех писателей XX века, пытавшихся найти новые способы рассказывать истории, никто не обладал более совершенным пониманием неисчерпаемых ресурсов повествования, чем Владимир Набоков. Постоянно меняясь, как это бывает со всеми великими книгами, этот роман в последние годы снова стал актуальным. Кажется, будто его автор знал, какой взгляд на литературу будет преобладать в критических текстах постмодернизма в конце XX века, хотя когда Набоков принялся за свой шедевр, они ещё не были написаны.
©Robert Fulford
Больше на paranteza.info