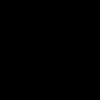Джорджо Агамбен. Предисловие к «Детству и истории»

Каждое письменное произведение можно рассматривать как пролог (или, скорее, как восковую модель) никогда не написанного произведения, которое неизбежно остается таковым, поскольку все последующие произведения (в свою очередь, прелюдии или начертания уже других отсутствующих произведений) представляют собой не что иное, как осколки или посмертные маски. Отсутствующее произведение, хотя и не расположенное точно в хронологии, таким образом, конституирует письменные произведения как пролегомены или паралипомены несуществующего текста, а то и вовсе как парерги, которые обретают свой истинный смысл только рядом с неразборчивым эргоном. Они, согласно прекрасному образу Монтеня, — рамка из гротесков вокруг неосуществленного портрета или, в духе интенции псевдоплатоновского письма, подделка невозможного произведения.
Лучший способ представить эту книгу спустя столько лет — попытаться обрисовать краткие характеристики ненаписанного произведения, предисловием которого она является, а затем, возможно, сослаться на последующие книги, которые являются послесловиями (aprèsludes) к этой. Действительно, в годы между «Детством и историей» (1977) и «Языком и смертью» (1982) было написано множество страниц, свидетельствующих о проекте работы, которая упорно оставалась ненаписанной. Название этой работы — «La voce umana» («Голос человека») или, согласно другому варианту, «Etica, ovvero della voce» («Этика, эссе о голосе»). Одна из страниц содержит следующий инципит:
«Существует ли человеческий голос, то есть голос, который является голосом человека, как стрекотание есть голос цикады или рев есть голос осла? И если он существует, то является ли этот голос языком? Каково отношение между голосом и языком, между phone и logos? И если нет такой вещи, как человеческий голос, то в каком смысле человек все еще может быть определен как живое существо, имеющее язык? Сформулированные нами вопросы определяют философский вопрос. Согласно древней традиции, проблема голоса и его артикуляции была философской проблемой par excellence. De vocis nemo magis quam philosophi tractant [Никто не подвергает голос большему рассмотрению, чем философы] можно прочитать у Сервия, и для стоиков, давших решающий импульс западным размышлениям о языке, голос был arkhe диалектики. Однако философия почти никогда не ставила проблему голоса тематически…»
Показательно, что именно размышления о детстве привели автора к исследованию человеческого голоса (или его отсутствия). Детство, о котором идет речь в книге, — это не просто данность, хронологическое место которой можно было бы изолировать, не возраст и не психосоматическое состояние, которое психология или палеоантропология могла бы сконструировать как человеческий факт, не зависящий от языка.
Если надлежащий ранг всякой мысли определяется в соответствии с тем, как она артикулирует вопрос о границах языка, то понятие детства представляет собой попытку осмыслить эти границы в направлении, которое не является тривиальным для мыслительного процесса невыразимого. Невыразимое, бессвязное на самом деле являются категориями, принадлежащими исключительно человеческому языку: они вовсе не ограничивают язык, а выражают его непреодолимую предполагаемую силу, для которой невыразимое и есть то, что язык должен предполагать, чтобы быть в состоянии означать. Наоборот, понятие детства доступно только мысли, осуществившей то «чистое устранение невыразимого в языке», о котором говорит Беньямин в своем письме к Буберу. Сингулярность (от лат. singulus — «одиночный, единичный»), которую должен обозначать язык, есть не
По этой причине детство находит в книге свое логическое место в изложении отношений между опытом и языком. Опыт, о котором здесь идет речь, если принять во внимание беньяминовскую программу грядущей философии, есть нечто такое, что может быть определено только в (совершенно немыслимых для Канта) терминах «трансцендентального опыта».
Одной из самых неотложных задач современной мысли, несомненно, является переопределение понятия трансцендентального с точки зрения его отношения к языку. В самом деле, если верно, что Кант смог сформулировать свое понятие трансцендентального только в той мере, в какой он избежал самой проблемы языка, то «трансцендентальное» здесь должно вместо этого указывать на опыт, который поддерживается только в языке, experimentum linguae в собственном смысле этого термина, в котором то, что переживается, есть сам язык. В предисловии ко второму изданию «Критики чистого разума» Кант представляет попытку рассматривать объекты «поскольку они только мыслимы» как Experiment der reinen Vernunft. Это, пишет он, опыт, осуществляемый не с объектами, как в естественных науках, а с понятиями и принципами, которые мы допускаем a priori (такие объекты, добавляет он, «должны еще позволять мыслить себя!»).
В одном из опубликованных Эрдманном фрагментов этот эксперимент описывается как «изоляция» чистого разума:
«Мое намерение состоит в том, чтобы исследовать, насколько разум может знать a priori и до какой степени простирается его независимость от чувственности… Этот вопрос важен и велик, поскольку он показывает человеку, какова его судьба по отношению к разуму. Для достижения этой цели я считаю необходимым выделить разум (die Vernunft zu isolieren), а также чувственность, и рассматривать только то, что может быть познано a priori, и его принадлежность к области разума. Это размышление в состоянии изоляции (diese abgesonderte Betrachtung), эта чистая философия (reine philosophie) очень полезны».
Достаточно внимательно проследить за движением кантовской мысли, чтобы понять, что опыт чистого разума не может быть ничем иным, кроме как experimentum linguae, который основан только на возможности называть трансцендентальные объекты посредством того, что Кант называет «пустыми понятиями без объекта» (например, ноумен), или, как сказала бы современная лингвистика, терминами, не имеющими референции (которые тем не менее сохраняют, как пишет Кант, трансцендентальное Bedeutung).
Языковым экспериментом этого типа является детство, в котором границы языка не ищутся где-либо вне языка, в направлении его референта, но ищутся в опыте языка как такового, в его чистой самореферентности.
Но каким может быть такой опыт? Как возможно переживать не объект, а сам язык? А что касается языка, то не того или иного означающего предложения, но чистого факта, что кто-то говорит, что язык есть?
Если для каждого автора существует вопрос, определяющий мотив его мысли, то область, которую очерчивают эти вопросы, без остатка совпадает с той, на которую направлена вся моя работа. В написанных и ненаписанных книгах я упорно хотел думать только об одном: что значит «есть язык», что значит «я говорю»? Поскольку ясно, что ни говорящий (esser-parlante), ни говоримое (esser-detto), соответствующее ему a parte objecti, не являются реальными предикатами, которые можно идентифицировать в той или иной принадлежности (как
Поэтому тот, кто проводит experimentum linguae, должен рисковать собой в совершенно пустом измерении (leerer Raum предельного понятия у Канта), в котором он находит лишь чистую внеположность языка, этот «étalement du langage dans son étre brut», о чем Фуко говорит в одном из своих наиболее философски насыщенных сочинений. Вероятно, каждому мыслителю хотя бы раз приходилось иметь дело с этим опытом; действительно, возможно, что то, что мы называем мыслью, есть просто-напросто этот experimentum.
В своих лекциях о сущности языка Хайдеггер говорит в этом смысле об «опыте языка» (mit der Sprache eine Erfahrung machen). Мы имеем этот опыт, пишет он, только там, где нас подводят имена, где речь разламывается на наших губах. Это расщепление речи есть «шаг назад на пути мысли». Наоборот, ставка детства заключается в том, что возможен языковой опыт, который не является лишь сигетикой или недостатком имен, но для которого можно обозначить логику, местоположение и состав, по крайней мере, до определенного момента.
В «Детстве и истории» центр такого трансцендентального опыта находится в том различии между языком и речью (langue и parole Соссюра — или, скорее, в терминах Бенвениста, между семиотическим и семантическим), которое остается неизбежным, с которым приходится иметь дело при любом размышлении о языке. Показав, что нет пути между этими двумя измерениями, Бенвенист довел науку о языке (а вместе с ней и все множество гуманитарных наук, в которых лингвистика была ведущей наукой) до ее высшей апории, за пределы которой она не может развиваться без превращения в философию.
Поскольку ясно, что для существа, чей языковой опыт не всегда представлялся расщепленным на язык и речь, т. е. изначально говорящего существа, изначально внутри неразделенного языка, не было бы ни знания, ни детства, ни истории: оно всегда уже было бы непосредственно соединено со своей языковой природой и нигде не находило бы разрыва или различия, где могла бы быть произведена какая-либо история или знание.
Таким образом, двойная артикуляция в языке и в речи, по-видимому, составляет специфическую структуру человеческого языка, и только на ее основе обретает смысл та самая противоположность dynamis и energeia, потенции и действия, которую мысль Аристотеля завещала философии и западной науке. Потенция — или знание — есть специфически человеческая способность поддерживать отношение с лишением, и язык, поскольку он расщепляется на язык и речь, структурно содержит это отношение, он есть не что иное, как это отношение. Человек не просто знает и не просто говорит, он не homo sapiens и не homo loquens, а homo sapiens loquendi, человек, знающий и умеющий говорить (а значит, и не говорить), и это переплетение составляет способ, которым Запад понял себя и заложил основу своих знаний и методов. Беспрецедентное насилие человеческой власти имеет свои конечные корни в этой структуре языка. В этом смысле то, что переживается в experimentum linguae, есть не просто невозможность сказать: это, скорее, невозможность говорить, исходя из языка, то есть опыт — благодаря пребыванию детства на границе между языком и речью — самой способности или потенции говорить. Постановка проблемы трансцендентного означает, в конечном счете, вопрос о том, что значит «иметь способность» (avere una facoltà) и какова грамматика глагола «иметь возможность» (potere). И единственный возможный ответ — опыт языка.
В моей ненаписанной работе о голосе место трансцендентального опыта вместо этого искалось скорее в различии между голосом и языком, между phone и logos, поскольку это различие открывает собственное пространство этики. С этой точки зрения есть многочисленные наброски, расшифровывающие отрывок из «Политики», где Аристотель почти непреднамеренно ставит решающий вопрос, который я намеревался интерпретировать:
«Природа, как мы говорим, ничего не делает без
Быть может, недостаточно замечено, что, когда Аристотель в своем трактате «Об истолковании» определяет языковое значение, отсылая от голоса к патемам в душе и к вещам, он не говорит просто о phone, а употребляет выражение ta en te phone (то, что в голосе). Что в человеческом голосе артикулирует переход от голоса животного к логосу, от природы к полису? И обратите внимание на ответ Аристотеля: голос артикулируют грамматы, буквы. С этого противопоставления спутанного голоса (phone synkechymene) животных и человеческого голоса, который вместо этого, enarthros, артикулирован, начинали свои рассуждения древние грамматисты. Но если мы спросим, в чем состоит этот «членораздельный» характер человеческого голоса, мы увидим, что для них phone enarthros означает просто phone engrammatos, vox quae scribi potest, записываемый голос, причем всегда уже записанный.
Древние комментаторы Аристотеля задавались вопросом, почему философ взял грамму в качестве четвертого «герменевта» наряду с тремя другими (голос, патемы, вещи), которые объясняют круг языкового значения. Таким образом, особый статус граммы они приписывали тому, что она не является, как три другие, просто знаком, но в то же время элементом (stoicheion) голоса, в той же степени, что и его артикуляция. Как знак и в то же время составной элемент голоса, грамма, таким образом, приобретает парадоксальный статус указателя на самого себя (index sui). Таким образом, буква — это то, что всегда уже занимает промежуток между phone и logos, первоначальную структуру значения.
Гипотеза ненаписанной книги была совсем другой. Разрыв между голосом и языком (подобно разрыву между языком и речью, потенцией и действием) может открыть пространство этики и полиса именно потому, что нет артроса, артикуляции между phone и logos. Голос никогда не записывал себя в языке, и грамма (идея Деррида пришла вовремя, чтобы показать это) есть не что иное, как сама форма предпосылки самости и потенции. Пространство между голосом и логосом есть пустое пространство, предел в кантианском смысле. Только потому, что человек оказывается брошенным в язык, не ведомый голосом, только потому, что в experimentum linguae он рискует собой, без «грамматики», в этой пустоте и в этой афонии нечто вроде этоса и общности становится возможно для него.
По этой причине общность, возникающая в experimentum linguae, не может иметь форму предпосылки даже в чисто «грамматической» форме предпосылки самой себя. Говорящий и говоримое, которыми мы измеряем себя в experimentum, не являются ни голосом, ни граммой; как архитрансцендентные, они даже не мыслимы как
В единственной лекции, которую он когда-либо читал публично, перед членами клуба, назвавшими себя «еретиками», Витгенштейн по-своему повторяет experimentum linguae:
«А теперь я опишу опыт удивления существованию мира, сказав: это опыт видения мира как чуда. Теперь я испытываю искушение сказать, что правильным выражением в языке чуда существования мира, хотя это и не является языковым предложением, является существование самого языка».
Попробуем продолжить эксперимент Витгенштейна и спросим себя:
«Если наиболее адекватным выражением чуда существования мира является существование языка, то что же является правильным выражением существования языка?»
Единственный возможный ответ на этот вопрос: человеческая жизнь, как ethos, как этическая жизнь. Поиск полиса и ойкии, достойных этого пустого и немыслимого сообщества, — детская задача будущего человечества.