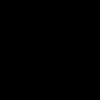Франко «Бифо» Берарди. О мутации желания

Я начал читать Феликса Гваттари в 1974 году. Я был в казарме на юге Италии, когда военная служба была обязательной для молодых людей в здравом уме и теле, но служба родине быстро наскучила мне, и когда я искал выход, мой друг предложил мне прочитать того самого французского философа, который рекомендовал сумасшествие как спасение.
Тогда я прочитал «Гробницу Эдипа. Психоанализ и трансверсальность» под редакцией Бертани, откуда почерпнул вдохновение для своей акции безумия. Полковник психиатрической лечебницы признал меня сумасшедшим, и я отправился домой.
С этого момента я стал рассматривать Феликса Гваттари как друга, чьи предложения могут помочь сбежать из казарм любого типа.
В 1975 году я опубликовал первый номер журнала «A/traverso», в котором шизоаналитические концепции были переведены на язык студенческого и рабочего движения «Autonomia».
В 1976 году с группой друзей я начал вещание на первой бесплатной итальянской радиостанции «Radio Alice». Полиция вмешалась, чтобы отключить радио во время трехдневного студенческого восстания в Болонье, начавшегося после убийства Франческо Лоруссо.
Болонское движение 1977 года использовало выражение «желающие автономии», а небольшая группа редакторов радио и журналов называла себя «трансверсалистами».
Ссылка на постструктурализм была явной в публичных декларациях, листовках, лозунгах весны 77-го.
Мы читали «Анти-Эдипа», многого не понимали, но одно слово нас поразило: слово «желание».
Мы хорошо поняли: двигателем процесса субъективации является желание. Мы должны перестать мыслить в терминах «субъекта», мы должны забыть о Гегеле и всей концепции субъективности как о
С другой стороны, понятие желания не может быть сведено только к положительному напряжению. Понятие желания служит ключом к объяснению волн социальной солидарности и волн агрессии, к объяснению вспышек гнева и формированию идентичности.
Короче говоря, желание — не безобидный радостный малый, напротив, оно может извиваться, замыкаться в себе и в конце концов производить действия насилия, разрушения, варварства.
Желание является фактором интенсивности в отношениях с другим, но эта интенсивность может идти в самых разных и даже противоречивых направлениях.
Гваттари также говорит о ритурнелях (фр. ritournelle, итал. ritornello, от ritorno — «возвращение»), чтобы определить семиотические конкатенации, способные соотноситься с окружающим пространством. Ритурнель — это вибрация, интенсивность которой может быть связана с интенсивностью той или иной знаковой системы, говоря точнее, интенсивностью психосемиотических стимулов.
Желание — это восприятие ритурнели, которую мы производим, чтобы уловить линии стимуляции, исходящие от другого (тело, слово, образ, ситуация) и объединиться с этими линиями.
Точно так же оса и орхидея [пример из книги Делеза и Гваттари «Тысяча плато»], два существа, не имеющие ничего общего, могут производить полезные эффекты друг для друга.
Желание существует не как естественная данность, но скорее как интенсивность, меняющаяся в соответствии с антропологическими, технологическими и социальными условиями.
Таким образом, речь идет о проблематизации концепции желания в контексте современной эпохи, которую можно отсчитывать от начала неолиберального и цифрового ускорения.
Неолиберальная экономика ускорила темпы эксплуатации труда, особенно когнитивного труда, цифровые технологии ускорили циркуляцию информации и, следовательно, до предела усилили темп семиотической стимуляции, которая в то же время является нервной стимуляцией.
Это двойное ускорение является источником и причиной интенсификации производительности, которая сделала возможным увеличение прибыли и накопления капитала, но оно также является источником и причиной сверхэксплуатации человеческого организма, в особенности мозга.
Поэтому перед нами стоит задача различить последствия, которые эта сверхэксплуатация произвела на психическое равновесие и чувствительность человеческих существ как индивидуумов и, что важнее, сообщества в целом.
В частности, речь идет об осмыслении мутации, поразившей желание, с учетом той травмы, которую опыт пандемии нанес коллективной психике. Возможно, вирус растворился, инфекция вылечена, но травма не исчезает за одну ночь, она делает свое дело. И работа травмы проявляется своего рода фобическим повышением чувствительности к телу другого, особенно к коже, губам, половым органам.
В течение двух десятилетий нового века различные исследования показали, что сексуальность сильно меняется, и вирусный шок только усилил эту тенденцию, уходящую своими корнями в
В книге «I-Gen: Почему сегодняшние дети — поколение Интернета — вырастают менее бунтующими, более терпимыми, менее счастливыми — и совершенно неподготовленными к взрослой жизни — и что это значит для остальных из нас?» (2017) Джин Твенге анализирует взаимосвязь между коннективностью и изменением психического и аффективного поведения поколений, выросших в цифровой и коннективной техно-когнитивной среде.
У меня вошло в привычку определять людей, появившихся в мире на рубеже веков, как поколение, которое усвоило больше от машины, чем от неповторимого голоса человеческого существа.
На мой взгляд, это определение полезно для понимания глубины анализируемой нами мутации: мы знаем из Фрейда, что доступ к языку можно понять, только начиная с аффективного измерения.
Не следует забывать и о том, что Агамбен пишет в книге «Язык и смерть»: голос есть место встречи между плотью и смыслом, между телом и значением. Кроме того, философ-феминистка Луиза Мураро выдвигает предположение, что изучение значения связано с доверием ребенка к матери. Я считаю, что слово означает то, что оно означает, потому что так сказала мне моя мать, она установила связь между воспринимаемым объектом и понятием, которое его означает.
Психическая основа приписывания значения основана на этом первичном акте аффективного разделения, когнитивной коэволюции, которая гарантируется неповторимой вибрацией голоса, тела, чувствительности.
Но что происходит, когда неповторимый голос матери (или другого человеческого существа, не имеет значения) заменяется машиной?
Тогда смысл мира заменяется функциональностью знаков, позволяющих получать оперативные результаты, начиная с восприятия и интерпретации знаков, лишенных какой-либо эмоциональной глубины, а потому и
Концепция прекарности (от лат. precarius — «временный», «преходящий») показывает здесь свой психологический и когнитивный смысл как фрагментацию и деэротизацию отношений с миром.
Эротизм как плотская интенсивность опыта и желание в его (не исчерпывающем) отношении к эротизму находятся под вопросом.
Желание и сексуальность
Обычно мы ассоциируем желание с плотью, с сексуальностью, с приближением тела к другому телу. Но следует подчеркнуть, что сфера желания не может быть сведена к своему сексуальному измерению, даже если это значение вписано в историю, антропологию и психоанализ. Желание не отождествляется с сексуальностью, и в этом отношении можно хорошо представить сексуальность без желания.
В концепции и реальности желания есть нечто большее, чем секс, как показывает нам фрейдистская концепция сублимации, которая касается инвестиций желания не прямиком сексуальных.
Пандемия завершила давно готовившийся процесс десексуализации желания, поскольку коммуникация между сознательными и чувственными телами в физическом пространстве была заменена обменом семиотическими стимулами в отсутствие тела. Эта дематериализация коммуникативного обмена не стерла желания, но перевела в чисто семиотическое (или, скорее, гиперсемиотическое) измерение. Затем желание развивалось в несексуальном направлении, или, если угодно, в постсексуальном, которое стало проявляться в условиях изоляции, которые пандемия сделала регулярными и почти институционализированными. Вся теоретическая и практическая часть психологии, психоанализа и даже политики должна быть пересмотрена, потому что лежащая в основе субъективность была необратимо нарушена и трансформирована.
Итальянский психоаналитик Луиджи Зоя опубликовал книгу об истощении (и тенденции к исчезновению) желания. Это текст, полный очень интересных данных о резком сокращении частоты сексуальных контактов и вообще времени, затрачиваемого на отношения лицом к лицу. Однако центральная гипотеза книги (исчезновение желания) кажется мне сомнительной. На мой взгляд, исчезает не само желание, а скорее сексуализированное выражение желания. Феноменология современной аффективности все больше характеризуется резким сокращением контакта, удовольствия, психического и физического расслабления, которое делает возможным телесный контакт. Это ведет к утрате чувственного доверия, утрате чувства глубокого соучастия, которое делает социальную жизнь терпимой: удовольствие кожи, узнавающей другого через прикосновение, чувственность, сладкое наслаждение интимностью взгляда.
Перверсия желания и современная агрессия
Десексуализация в самом деле рискует превратить желание в ад одиночества и страданий, которые ждут, чтобы выразить себя тем или иным способом. Бессмысленное насилие, которое все чаще вспыхивает в форме вооруженной и убийственной агрессии более или менее незнакомых невинных людей (spree killers, для которых главным театром являются Соединенные Штаты, стали возникать повсюду после массового убийства в школе «Колумбайн» в 1999 году), является лишь верхушкой айсберга. Это феномен, который на политическом уровне переворачивает историю. Как можно объяснить избрание такого человека, как Дональд Трамп или Жаир Болсонару, половиной американского или бразильского народа, кроме как проявлением отчаяния и презрения к себе?
Избрание невежественного идиота, открыто выражающего расистские или криминальные взгляды, имеет глубокие аналогии (на психическом уровне, но также и на политическом уровне) с массовыми убийствами, которые нельзя объяснить иначе, как мучительной деменцией, суицидальным желанием. То, что мы продолжаем называть фашизмом, национализмом или расизмом, больше не может быть объяснено в политических терминах. Политика есть не что иное, как территория зрелищ, на которой подобные движения могут проявить себя, но динамика современной социальной агрессивности не имеет почти ничего общего с так называемыми идеальными ценностями фашизма прошлого времени, с национализмом текущего времени. Риторика часто похожа, но в содержании нет ничего политически рационального.
Только рассуждения о страдании, унижении, одиночестве, отчаянии могут объяснить то явление, которое сейчас характеризует большую часть мировой истории в фазе истощения нервной энергии и в ожидании угасания, которое все более предстает как неизбежный горизонт.
Поколение, которое с иронической горечью определяет себя как «последнее поколение» (или поколение Z), которое выучило больше слов от машины, чем от голоса своей матери или любого другого человека, сформировалось в физическай среде, которая становилась все более невыносимой как физически, так и психически. Коммуникация этого поколения развивалась почти исключительно в
Мы готовимся испытать вымирание как иммерсивную симуляцию. Средства массовой информации все больше насыщаются признаками этого отчаяния, которые работают вместе как симптомы дискомфорта, а также как факторы распространения патологии: я думаю о такие фильмах, как «Джокер», «Паразиты», а также о сериалах глобального нео-телевидения Netflix: «Игра в кальмара» и тысяча других подобных продуктов.
Вирусная травма COVID-19 только усилила гиперсемиотический эффект, но технические и культурные условия уже существовали. На данный момент все, что мы можем сделать, это попытаться понять эту мутацию, и мы можем определить ее как десексуализирующую мутацию, влияющую на желание.
Желание не перестало быть движущей силой процесса коллективной субъективации, но эта субъективация теперь проявляется как тревога, как членовредительство, а иногда и как агрессия, потому что, не развиваясь и не выражая себя, она извращается в агрессивные формы.
Десексуализация желания, следы которой мы находим повсюду, на социальном уровне трансформируется в деисторизацию мотивов коллективного действия. Мы наблюдаем массовый феномен отчуждения и дезертирства: отказ большинства от политики, деторождения, работы. Этот феномен должен стать предметом теоретического анализа (диагностики), который может сделать возможными стратегии дискурсивного и политического действия (терапии), которых у нас пока нет.